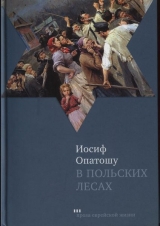
Текст книги "В польских лесах"
Автор книги: Иосиф Опатошу
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Глава VIII
ОПУЩЕННЫЕ ГЛАЗА
В квартире реб Довидла было еще темно. Только одно окно искрилось огоньками. В нем отражалось пламя, вырывавшееся из старинной польской кафельной печи. Против печи, на мягкой оттоманке, лежала Душка, жена реб Даниэля, в бархатном капоте бордового цвета, шлейф которого складками спускался на пол.
Она лениво потягивалась, как кошечка, озаренная красноватым отблеском, жалась к Ривкеле, которая сидела около нее, закутанная в теплый платок, и тоскливо смотрела на огонь. Толстые стены, тяжелые ковры на полу поглощали шипение огня, и даже голоса становились другими – звучали глухо, как будто из-под земли.
Душка сняла свой чепчик. Копна густых подстриженных кудрей рассыпалась по плечам и придала ее лицу что-то мальчишеское.
Волосы были так черны, что пробивавшаяся среди них седина казалась серебристой пылью.
Она увивалась вокруг Ривкеле, обнимала ее и, уткнувшись лицом в ее колени, не переставая, говорила:
– Я так люблю, когда ты меня чешешь… Легче, легче, вот так! Знаешь что? Расчесывай пальцами…
Она взяла пальцы Ривкеле, водила ими по своим волосам, по шее и при каждом прикосновении жмурила глаза, вздрагивая, как от ожога.
– Тебе холодно? – спросила Душка.
– Да, почему-то очень холодно!
– Так обними меня; я тебя согрею! У тебя пальцы, как лед… О, это освежает… Знаешь, Ривкеле, я так люблю, когда мы остаемся одни, совершенно одни… Нужно было бы еще закрыть двери и ставни, затопить все печи и сидеть в темноте, а ты, милая, будешь чесать мои волосы… легче… легче… я их больше не буду стричь. Даниэль говорит, чтобы я их отрастила…
– Кто, Даниэль? – спросила Ривкеле, удивленная.
– Помнишь, какие волосы у меня были, когда я была девушкой? Они опять отрастут, такие длинные, – показала она обнаженной рукой ниже колен. – Как тебе нравится повязка, которую привез мне Даниэль?
– Украшенная гранатами?
– Да. Гранаты красные, как кровь. Когда я их надеваю, кажется, что волосы у меня становятся красными. Ты хотела бы иметь красные волосы? Я бы хотела. Я бы хотела, чтобы волосы мои были красные, как эти язычки в печи. Видишь? Даниэль тоже говорит, что мне нужно было бы иметь красные волосы, хи-хи-хи!
– А почему ты начала наряжаться в красное?
Душка не ответила, поднялась, вытянула немного шею и, облитая красным светом, тихо и таинственно проговорила:
– Никто не должен об этом знать, Ривкеле, даже дедушка.
– О чем?
– О том, что он находится среди нас.
– Кто?
Она ответила не сразу, ниже наклонилась к огню и почти прошептала:
– Он будет одет в пурпур, в огненный пурпур…
– Во что он будет одет?
Потом Душка потянулась к пылающей изразцовой печке, сделала такое движение, точно бросила что-то в огонь, и истерически расхохоталась:
– Хи-хи-хи! В огненном пурпуре он будет, хи-хи-хи!
– Не люблю, когда ты так смеешься, – отодвинулась Ривкеле от сестры. – Дай, Душка, я зажгу свечу!
– Не зажигай, Ривкеле, не зажигай… я так люблю темноту! Я хотела бы, чтобы всегда была ночь. А ты нет? День для меня – мука. Вокруг вечно крутятся мужчины, а я не люблю мужчин. Я так не люблю здоровых, красивых мужчин! Ривкеле, я больше всего детей люблю!.. Детей и калек. Встретив калеку, я всегда останавливаюсь… Их морщинистые, мрачные лица успокаивают меня… Я забываю, что я жена Даниэля, внучка реб Менделе… Мне хочется сидеть с ними у водосточных труб, ходить рядом с ними оборвышем, просить подаяния, вдыхать их запах и петь вместе с ними. И потому, что мамочка не позволяет петь их песенки, хочется этого еще больше!
Она вдруг скорчилась, закатила глаза, провела рукой по другой руке, как проводят смычком по скрипке, и душераздирающе запела:
Ривкеле рукой закрыла ей рот, не дав закончить, выпрямилась и, недовольная, обняла сестру.
– А у нас в доме целый день мужчины… бр-р! Что ты дрожишь? Тебе опять холодно? Обнять тебя? Покрепче? Ривкеле, если бы ты была калекой или парализованной! Я бы так любила тебя! Я бы не отходила от твоей кровати, а ты бы мне ворожила. Мне очень жарко! Ривкеле, погладь меня: твои пальцы холодны… Теперь мне так хорошо, так хорошо!
Ривкеле была неприятна нежность сестры, она не понимала, как можно любить калек, хотела спросить, нравится ли ей Мордхе, но раздумала и, вырываясь из объятий Душки, попросила:
– Пусти, Душка! Я зажгу свечу!
– Не нужно, Ривкеле! Будем сидеть в темноте. В темноте можно вызвать какие угодно тени. Если захочу – папочка предстанет перед моими глазами; он ведь сегодня с мамочкой в Лукове. Как ты полагаешь – получится что-нибудь с этим женихом? Когда ты выйдешь замуж, я останусь совсем одна! – Душка погрустнела при этих словах и встала. – Пойдем, я погадаю тебе, вызову того молодого человека, которого тебе предлагают в женихи. Идем!
– Не хочу, это колдовство!
– Если б это было колдовством, Даниэль этого не делал бы! Вчера он вызвал дух прадедушки реб Йонатана!
– В самом деле? – У Ривкеле расширились зрачки. – Ты тоже видела мертвеца? Он что – ходит? В воздухе висит? И разговаривает как живой? Я бы этого не вынесла!
– Я сама испугалась! – улыбнулась Душка. – Представь себе, Даниэль просит прадедушку открыть ему тайну, благодаря которой тот общался с самим великим каббалистом Ицхаком Лурией, а реб Йонатан стоит весь дырявый, и дыры на нем движутся, говорят, смеются… Красные дыры, огненные дыры, хи-хи-хи!
– Знаешь, Душка, ты всегда такие жуткие сказки рассказываешь, что у меня мороз по коже!
Душка ничего не ответила и потянула сестру в маленькую, темную комнатку. Там она зажгла толстую восковую свечу, поставила ее между двух зеркал на круглый мраморный столик и начала тихо что-то шептать. Затаив дыхание, Ривкеле смотрела на мрамор, но ничего там не видела. Она смотрела долго, чувствуя, как веки у нее тяжелеют, а над мрамором зажигаются и гаснут какие-то точки. Задвигались серебряные и золотые жилки в мраморе, извиваясь, как змейки, кружились, становясь тусклыми. Что-то зашумело, будто рядом прошел человек.
– Ш-ш…
Издали доносилось тихое пение. Ривкеле дрожала; перед глазами у нее сверкал и переливался глубокий снег. Деревья, люди проносились мимо; пение стало еще тише; бледная полная луна простиралась над морозной ночью, медленно плыла, увлекая за собой то пешехода, то крестьянина на паре лошадей. Ривкеле не могла тронуться с места и только видела, как холодные лунные лучи опутывают ее и, сплетаясь, тянутся далеко-далеко в глубокий снег… Одетые в шубы люди мчались в санках, исчезая, точно в тумане. Душка схватила ее за руку:
– Смотри!
Ривкеле увидела, как из тумана вырисовывается чей-то образ. И, как ночной странник, ведомый холодными лунными лучами, этот образ блуждал среди деревьев. Он приближался и напевал.
– Узнаешь? – спросила Душка.
Ривкеле его узнала, а узнав, почувствовала, как в ней все изменилось: ноги стали легки, легче белого снега, мысль сделалась воздушной, воздушнее морозной ночи.
– Кажется, идут? – насторожилась Душка и погасила свечу.
– Тебе кажется.
– Идут, говорю тебе!
– Кроме Даниэля, никого дома нет.
– Кто это?
– Кто идет?
Мордхе открыл дверь, остановился в темной комнате, удивленный, словно заблудился. Он был уверен, что только что здесь было светло… Неужели это ему показалось? Он увидел, как кто-то сел в углу, узнал Душку, но не трогался с места.
– Видишь, Душка, кто пришел? Простите, Мордхе! – Ривкеле не могла унять дрожь. – Пойдемте в гостиную, я сейчас зажгу свечу.
Душка легко, как кошка, выскользнула, исчезла, и у Мордхе в памяти остался лишь красный шлейф, который тянулся за ней.
Они пришли в гостиную. Он смотрел, как Ривкеле поправляла серебряными щипцами свечи, выпрямляла фитили, зажигала. Он не заметил, что скрытая радость озаряет ее лицо с чуть раскрасневшимися щеками и даже струится в длинных, переброшенных через плечо косах.
Его сердило то, что она не спрашивала, почему он не приходил так долго. Он понимал теперь, что Ривкеле даже не думает о нем, не то бы она спросила, хоть из вежливости, что с ним было. Он ведь и в самом деле мог быть болен. Он ей совершенно чужой, она ждет, вероятно, чтобы он поскорее убрался, а он, дурак, уговорил себя, что она его любит, что она с нетерпением ждет момента, когда он ей откроется. Он совсем пал духом.
И, точно назло, она никогда не была так хороша, как теперь. Красивые черные брови придавали бледному лицу особую тонкость и благородство. Высокая, безупречно белая девичья шея оттеняла блеск темного платья, словно нашептывая, что вся прелесть нарядных платьев заключается в том, что их можно снять.
Опротивела язычникам богиня с хитрыми глазами и пустым взглядом, устремленным в глаза каждому проходящему; они сожгли ее, а пепел развеяли, чтоб и следа не осталось. Поймали потом стыдливую еврейскую девушку, опустившую глаза долу, поставили ее изображение во всех молельнях, на всех перекрестках, назвали богиней, и вот уже тысячи лет их дочери падают пред ней на колени, молятся ей, носят на груди ее портреты, но сами по-прежнему остались с таким же вызывающим нахальством в глазах.
Эта мысль понравилась Мордхе. Он хотел было пересказать ее Ривкеле, но вспомнил, что она весьма холодно его приняла, и решил, что, если она его тотчас не попросит сесть, он уйдет.
Ривкеле ощутила свежесть, идущую от его разгоревшегося лица, от его платья. Свежесть зимнего морозного дня. Эта свежесть овеяла ее, все в ней устремилось к Мордхе, чтобы вдохнуть запах зимы и почувствовать его дыхание, запах, идущий от его одежды. Она съежилась под своим теплым платком и удобнее уселась в углу кушетки.
– Почему вы стоите? Вы торопитесь?
– Тороплюсь.
– Так ступайте!
Досада вдруг покинула Мордхе. То, что она предложила ему уйти, успокоило его самолюбие. Реб Иче ведь говорил, что она все время спрашивает о нем. Он хотел извиниться перед Ривкеле и подошел ближе.
– Ривкеле сердится?
– Да, я на вас обиделась.
– На меня?
– Конечно.
– За что?
– Вы нехороший человек.
– Я?
– Да, вы!
– С чего вы взяли?
– Если вы были больны, надо было дать знать.
– Я не был болен.
Мордхе заметил, как слезы навернулись у Ривкеле на глаза. Ему стало приятно, он был счастлив, что теперь они вместе, и не сомневался, что одолеет свои греховные мысли, вырвет их с корнем, освободится навсегда. Чем дольше он сидел и молчал, тем больше убеждался, что любит девушку, и искал повода сказать ей об этом. В какой-то момент он поймал ее взгляд. Она посмотрела на него и опять опустила глаза. Он сел и виновато протянул руку, молча прося о чем-то. Потом, почувствовав руку Ривкеле в своей, наклонился, погладил ее густые, мягкие волосы. Он дрожал от радости, хотя перед глазами у него все заволокло туманом.
– Ривкеле действительно сердится? Почему Ривкеле молчит?
Она высвободила свою руку, села глубже, отодвинулась подальше на кушетке и решила его подразнить.
– Если б вы знали, куда папочка сегодня поехал…
– Куда?
– Отгадайте.
– Поехал знакомиться с женихом Ривкеле?
Она подняла на минуту свои тонкие брови, хотела что-то сказать, но передумала. В ее глазах светилась такая печаль, что у Мордхе перехватило дыхание. Он был уверен, что скоро случится нечто такое, что сделает его счастливым навсегда.
– Что Ривкеле хотела сказать?
Она не отвечала, закрыв лицо руками.
– Скажи, скажи! – Мордхе пытался отвести ее руки от лица.
Он целовал ее волосы, чувствовал ее голову у себя на плече. Она не сопротивлялась; ее дыхание, которое ласкало ухо Мордхе, будило каждый нерв и, казалось, нашептывало:
– Я люблю тебя… люблю тебя…
В великой радости он обнял ее, но в душе у него, где-то далеко-далеко, заныло; было досадно: то, что далось ему, далось слишком легко.
Глава IX
БЛАГОЛЕПИЕ
Мордхе искал впотьмах дверцу сада, не смог ее найти, перелез через забор и пошел по снежному полю, удивляясь, что под ногами так скользко. Он не чувствовал, как мороз щиплет уши, осторожно ставил ноги, чтобы не упасть, но его угнетало то, что он не чувствовал себя счастливым. Он сознавал с горечью, что все должно было быть иначе, и эти несколько слов, которые он так жаждал услышать из уст Ривкеле, эти слова его сейчас пугали. Он все спрашивал себя: и это называется счастьем? И чем больше он думал о случившемся, тем больше сожалел, что любит его Ривкеле, а не Фелиция. Могло ведь быть наоборот. И тогда он точно был бы счастлив?..
Кто знает?..
Кто?
Высокий мужчина, закутанный в хорьковую шубу так, что лица его не было видно, встретил в саду Мордхе и остановил его словами:
– Молодой человек, откуда так поздно?
– Зачем вам это знать?
– Так ты к тому же еще и грубиян!
– Не больше, чем вы!
Голос был знаком Мордхе. Он вгляделся, узнал босого Исроэла и удивился, не понимая, куда тот собрался на ночь глядя.
Босой Исроэл положил руку Мордхе на плечо и заглянул ему прямо в лицо:
– А, это ты! Он и тебя уже завлек, этот грешник?
– Какой грешник? Не знаю, о ком вы говорите!
– Ты ведь от Даниэля идешь?
– Нет!
– Где ж ты был так поздно?
Мордхе хотел ему ответить, что это не его дело, но почувствовал, что черные глаза Исроэла пронизывают его насквозь. Он смутился:
– Где я был?
– Об этом я и спрашиваю! Ну?
– У реб Довидла.
– Как же у реб Довидла, когда он с женой сегодня уехал из Коцка?
Мордхе стало досадно, что он попал впросак; юноша смутился еще больше. Хотя на самом деле он вовсе не обязан был отдавать отчет босому Исроэлу. Но, прежде чем он успел что-нибудь ответить, Исроэл продолжил диалог:
– А если ты идешь от реб Довидла, то почему надо через заборы перескакивать? Признайся, ты идешь от Даниэля?
– Я его не видел больше недели, – оправдывался Мордхе, словно в чем-то был виноват.
– Правда?
– Честное слово!
– Я верю тебе. Ты ведь ученик реб Иче.
– А вообще-то по какому праву вы меня допрашиваете? – загородил было Мордхе дорогу Исроэлу, словно желая его остановить. Он уже досадовал на себя за то, что оправдывался перед совершенно чужим человеком.
– Коцк спит спокойно, отдал свои души во власть Менделе, тот передал их Довидлу, а Довидл – последователям Шабтая Цви, – почти выкрикнул Исроэл, вынул из кармана короткую широкую трубку и указал ею на дом. – Люди глухи, люди слепы, не ощущают власти дьявола, не видят, как последователь Шабтая живет с чужими женами! Это Содом! Я его уничтожу, изведу этого грешника! Видишь золу? – Исроэл ударил двумя пальцами по трубке и высыпал оттуда золу себе на голову. – Так и он полетит у меня на все четыре стороны, чтобы от него даже следа не осталось! Чистое проклятие! Чистое проклятие!
Исроэл блеснул черными глазами, закутался в свою хорьковую шубу и ушел, не попрощавшись.
Мордхе остался стоять, пораженный нечаянной встречей, абсолютно не понимая, что этот человек делает здесь так поздно. Юноша посмотрел ему вслед, увидел, как он, высокий, чуть сгорбленный, качаясь, движется по скользкому полю, кажется, падает, а в золах у Мордхе все еще звучало:
– Чтобы от него даже следа не осталось!
Мордхе содрогнулся.
Ему мерещился осажденный Иерусалим: люди дерутся из последних сил, умирают с голоду, но не хотят уступить город врагу. Обросший волосами пророк бродит по улицам и неустанно твердит, что проклятие висит над священным городом, над храмом. Ничто не поможет. Иерусалим должен погибнуть.
Мордхе не понимал, почему изголодавшиеся евреи не растерзали пророка. Он оглянулся, увидел, как Исроэл сдвинул доску в заборе и полез в сад. С замирающим сердцем он осторожно последовал за ним. Но когда подошел к забору и никого не увидел, то испытал такое чувство, будто что-то потерял.
Возле дома вдруг появилась какая-то фигура; человек приблизился к окнам Даниэля и заглянул в щель между ставнями.
Мордхе стало жутко: в голове у него зародилась дикая мысль, что босой Исроэл идет поджечь дом. Он вспомнил о Ривкеле, о реб Менделе, инстинктивно сжал в руках ком снега, бросил его в окно и спрятался. Неизвестный повернулся, посмотрел в ту сторону, откуда полетел ком, и исчез.
Мордхе бросился к окну. Снег, который днем таял и каплями падал с деревьев, к вечеру начал подмерзать, обледеневшие деревья казались стеклянными.
Сквозь закрытые ставни пробивался луч света. Обрывки радуги искрились и мерцали перед глазами то зеленым и синим, то фиолетовым цветом.
Мордхе остановился у закрытых ставней, услышал голос Даниэля Эйбешюца и зашел в темную переднюю. Потом толкнул дверь в комнату, она была заперта. Он налег сильнее, крючок поддался. Никто не заметил, как он вошел.
Душка, полураздетая, с повязкой из гранатов на лбу, сидела посреди комнаты, вокруг нее, держась за руки, двигались хасиды и какие-то женщины, головы их были запрокинуты, глаза закрыты, и, если б не медленные движения ног, можно было подумать, что они замерли в религиозном экстазе.
В углу маленький человечек бился головой о стенку; вымазав себе лицо кровью, текшей у него из носа, плачущим голосом он взывал:
– Отец, отец, ой, отец!
Две женщины, держась за руки, кружились все быстрее и быстрее; их платья раздувались, словно открытые зонтики. Потом, измученные, они бросились друг другу в объятия и опустились на пол.
На мягкой кушетке сидела Темреле, невестка реб Менделе из Варшавы. Она забралась в угол, подобрала под себя ноги; ее широкое шелковое платье спадало вниз мягкими складками, доходя едва не до полу. Она сняла с шеи нитку жемчуга и играла ею, словно хотела кого-то околдовать.
Душка со стороны смотрела на Темреле, и каждый раз, когда около кушетки появлялся Даниэль, она беспомощно кривила рот, словно ребенок, собирающийся заплакать. Она окликала его, что-то шептала ему и, торжествуя, смотрела, как Темреле играет жемчугом, делая вид, что происходящее ее не интересует.
Даниэль, высокий молодой мужчина, стоял, прислонившись к пюпитру. Красивое его лицо, такое бледное, точно из него выкачали всю кровь, до последней капли, казалось очень усталым. Он не знал, чего от него хотят, не очень понимал, зачем собираются здесь после полуночи, удивлялся, чего ради Нахман излагает перед собравшимися его, Даниэля, толкование Торы, приписывая ему то, чего он никогда не говорил. Страдал от того, что не может ни на минуту освободиться от мыслей о Темреле. Он отказался бы от всего – лишь бы остаться с ней наедине.
Нахман с красным, воспаленным лицом и огненной бородой толковал священный текст, ссылаясь при этом на Даниэля. Он говорил быстро, отрывисто, с большой уверенностью, но часто умолкал, и тогда его взгляд устремлялся куда-то вдаль, он смотрел поверх голов слушателей, и казалось, будто он прозревает то, что от присутствующих скрыто. Глаза его горели, борода пламенела, и, хотя он далеко не во всем был прав, чувствовалось, что он много выше и образованнее окружавших его ученых. И почти все, кому приходилось слушать его, оставались после этого под его влиянием.
Все перестали плясать и собрались вокруг Даниэля, ловя слова Нахмана. Один пожилой еврей поминутно плюхался ему под ноги, показывая этим, что в присутствии Даниэля каждый обязан стать прахом и пасть ниц, чтобы Даниэлю было на что ступать. И чем быстрее Нахман говорил, тем тише становилось в комнате. Огонь, разгоревшийся в печи, румянил щеки, согревал тела. Люди не могли устоять на месте и переступали с ноги на ногу.
Какая-то женщина до того пристально всматривалась в бледного Даниэля, что даже сощурила глаза и приоткрыла рот; ее худое раскрасневшееся лицо дышало наслаждением. Она вдруг протянула перед собой руки, как бы желая кого-то удержать, согнулась, застонала, будто ей вдруг стало дурно, и спрятала лицо в ладонях, почувствовав себя, наверное, великой грешницей.
Никто не заметил, что Душка осталась сидеть посреди комнаты одна, всеми покинутая. Она больше не смотрела на Темреле, которую заслонила толпа. С закрытыми глазами она прислушивалась к тому, о чем говорил Нахман, ощущая, как пламенный голос праведника обволакивает ее и горячит лицо и губы:
– Человек любит Создателя соответственно тому, до какой степени он может Его постичь, а так как разум человеческий ограничен…
…Разум? Да? Разум? Чего от нее хотят? Душка почувствовала, что тяжесть сдавила ей плечи, увидела, как окружающие отодвигаются от нее, исчезают, а в пустом пространстве кружатся разноцветные пятна – одно над другим, одно в другом, непрестанно носятся с пением, а в пространстве острый, как будто цветочный запах. Этот аромат становится все острее, все сильнее, заставляя кровь быстрее бежать по жилам. Цвета становятся все нежнее, все нежнее, они тянутся все выше и выше, лопаются, и из трещин поднимаются огненные цветы с раскрытыми венчиками, они поют тихо и сердечно, тянутся к луне на длинных, тонких стебельках, а среди стебельков парят Даниэль с Темреле, они перелетают от цветка к цветку. Цветы склоняют свои головки; полузасохшие, больные, они еле держатся, а над ними несется огненный напев. Даниэль исчезает вместе с Темреле. Что? Нахман еще говорит?
– …Служить и восхвалять Господа Бога можно только через любовь. Чтобы достигнуть высшего предела любви, нужно прежде возвыситься душой, совершенно отвлечься от всего материального, соединиться с Богом, а этого можно достичь только с помощью тайн любви и слияния. Да, слияния! В этом мире – между мужчиной и женщиной, а на том свете благолепием…
…Мужчина и женщина? Она не любит мужчин! Такие тяжелые, обросшие волосами, бородатые, и бороды колют, скользят по телу… Бр-р! Чего он так смотрит на нее? Сколько жадных глаз! Нахман? Его огненная борода становится все длиннее, расплывается, превращается в реку, в огненную реку… Вы хотите посмотреть? Ха-ха-ха! Сейчас, сейчас. Но вначале в огонь, все в огонь! Никто пусть не останется! Теперь смотрите! Смотрите, как я сбрасываю с себя платья! Одно за другим! Откройте ваши жадные глаза! Жжет! Ха-ха-ха! Вы хотели видеть? Смотрите, смотрите! Вот Даниэль! Как он корчится в пламени! Даниэль! Да-ни-эль!..
Душка открыла глаза. Тело ее было покрыто холодным потом.
Даниэль стоял рядом, гладил ее лоб и уговаривал:
– Иди приляг. Ты устала…
Он взял ее за руку, и они вышли из комнаты.
Когда Даниэль вернулся, все по-прежнему стояли вокруг Нахмана, очарованные его умом и эрудицией. Вдруг Темреле легко соскочила с кушетки, взмахнула жемчужными бусами и стала плясать перед Даниэлем. Публика больше не слушала проповедника, все смотрели, как Темреле вскидывает то руки, то ноги, как извивается, словно змея. Ее глаза, большие, черные глаза никому не дают устоять на месте, затягивают в танец. Движения ускоряются в яростном темпе, белые зубы сверкают, становятся острее, глаза мечут огонь, сердятся, смеются… И публика не устояла – зрители тоже сорвались со своих мест, взялись за руки, подхватив с собой Мордхе, окружили Даниэля с Темреле и обо всем забыли.
Мордхе мчался за ними, как случайный, посторонний предмет; он видел, как переплетаются руки пляшущих, как разматывается клубок и парочки отстают, ложатся в углах. Его охватил такой ужас, что он должен был сесть. Свечи одна за другой погасли. Стало темно.
Потом тьма стала рассеиваться, понемногу во всех углах начали вырисовываться силуэты. Через открытые ставни в комнату заглянула полная луна. Женщина с лицом, закрытым вуалью, выросла перед Мордхе и села к нему на колени:
– Если вам неудобно, я уйду!
Мордхе молчал, удивляясь, что не испытывает греховных желаний, и, хоть сердце подсказывало ему, кто это, он все же боялся приподнять вуаль.
Из тьмы доносились приглушенные отрывочные звуки, выкрики, а над ними носился тихий плач еврея, бившегося головой о стену:
– Отец, ой, отец, ой, отец!
У дверей стояла Душка в ночной рубахе до щиколоток. Она смотрела перед собой широко открытыми глазами и ничего не видела. Стриженые волосы, худые ноги… Она была похожа на юношу. Душка постояла с минуту, потянулась к луне и закрыла глаза. Потом стала расхаживать по комнате, обходя стулья и людей, и остановилась около кушетки. Она протянула руку, будто кого-то нащупывала, снова потянулась к луне, всхлипнула тихо, как плачущий ребенок, когда он засыпает, и вышла из комнаты так же, как вошла.
Скорбь охватила Мордхе, встала стеной между ним и окружающими, поглощая любые желания. Он забыл, что у него на коленях сидит женщина; в нем пробуждалось странное теплое чувство… Он ощущал себя молодым отцом, держащим на коленях больного ребенка. Женщина плакала, и в ее плаче слышалась мелодия, напоминавшая о старинных молитвенных домах, где евреи веками сидели в чулках и смачивали слезами текст сказания о гибели Храма…
* * *
Снаружи раздались голоса. Эти голоса звучали со всех сторон:
– Какая мерзость!
– Какая мерзость!
– С чужими женами!
– И под кровлей ребе!
– Нужно их уничтожить!
– Не оставить и следа!
– Саббатианцы![52]52
Последователи лжемессии Шабтая (Саббатая) Цви.
[Закрыть]
– Настоящие саббатианцы!
– Пошел по следам деда!
– Кто?
– Даниэль!
– Он ведь из рода Эйбешюцев!
– Ты не достоин называть имя реб Йонатана, нахал!
– Какой там праведник в шубе это говорит?
– Говорят, жена липнинского резника тоже там?
– И жена реб Лейбуша из Парцева? Кошмар!
– Во всем виноват рыжий мошенник!
– Ты имеешь в виду Нахмана?
– А я утверждаю, что во всем виновата эта нахалка.
– Какая?
– Темреле!
– Варшавянка?
Мордхе видел, что уже слишком поздно бежать, и равнодушно остался сидеть, ожидая, чтобы народ ворвался внутрь.
– Выдайте нам Нахмана! – крикнул кто-то через открытое окно.
– И Даниэля!
– Грешника этого!
– И вас не тронут!
– Даниэль, дорогой, спрячься! – упрашивала мужа Душка, закутанная в его шубу. – Они могут сделать с тобой Бог знает что! Прошу тебя, Даниэль, через погреб можно пройти к дедушке… Чего ты ждешь?
Ошеломленный, Даниэль стоял и ждал, чтоб кто-нибудь взял его за руку и вывел. Вдруг появился Нахман:
– Ребе, не покидай нас!
Этого было достаточно. Испуганный Даниэль выпрямился, приказал не зажигать свечи, запер окна и двери, разрешил всем защищаться.
Народ на дворе начал бить стекла. Женщины беспомощно заломили руки и рыдали. Вскоре толпа нападавших выломала дверь, окна и стала напирать со всех сторон. Началась драка.
В суматохе Мордхе улизнул. Он пробежал весь сад, перескочил через забор и пошел вдоль Вепши.
Ему стало наконец абсолютно ясно, что хасидизм вырождается. Он видел своими глазами, как напивается целая толпа евреев. Достаточно было полуобнаженной Душки и наглой Темреле, чтобы все потеряли рассудок. Если правда, что время выдвигает Мессию, то он давно должен был прийти. Но кто знает? Возможно, Мессия уже среди нас! Миллионам надо освободиться от своего уродства, и они его узнают.
Возможно…
Чем дальше шел Мордхе по полю, тем глубже он погружался в свои мысли. Забыв, что сейчас ночь, он лелеял и освящал новое слово, несшееся из этой дали, из этой шири. Его немо напевали белая от снега земля, голые, обледеневшие деревья, похожие на хрусталь, в котором отражаются миллионы звезд. Мордхе ощущал, как нити, тянущиеся из дальних миров, соединяются в его сердце.
Небо было окутано пламенем и расстилалось далеко над полем и лесом. Зарево было похоже на светло-красную вуаль. Мордхе остановился, вспомнил о Ривкеле, о реб Менделе. Он был уверен, что двор ребе сгорит, постоял с минуту, как бы собираясь вернуться, и махнул рукой:
– Пусть горит!
Обледеневшие ветки искрились пламенем, отражавшимся в этих хрустальных стволах. Из-за стволов появлялись то птицы, то белки. Олени и зайцы выглядывали из-за каждого дерева, из-за каждого куста.
Мордхе стоял точно посреди заколдованного мира. Он расстегнул платье, снял каракулевую шапку, вдохнул в себя пепел горящих хасидских дворов, поколений и вдруг растянулся во весь рост на снегу.
Пламенеющее небо, недвижимое, стояло над ним, но в какие-то мгновения спускалось и обнимало его с неземным спокойствием. Сомнения исчезали где-то на пути между небом и землей. Его охватило чувство великой радости, и он вскочил бодрый и уверенно побежал по снежному полю.








