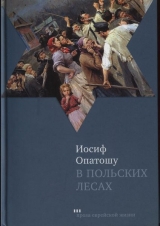
Текст книги "В польских лесах"
Автор книги: Иосиф Опатошу
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Глава IV
ПОСЛЕДНИЙ
Реб Йосл Штрал кончил писать и тщательно перечитал исписанный древнееврейскими мелкими буквами лист бумаги: буквы были круглы, строчки выгнуты, как полумесяц. Он читал строку за строкой, прибавляя кое-где то кружочек, то палочку, уверенный, что его перевод не хуже оригинала. Он переводил «Фауста». Много лет работая над великим творением Гете, он не закончил еще даже первую часть. Перед ним лежало веймарское издание, переплетенное в мягкую кожу. Плотные бумажные страницы, украшенные коронами и витиеватыми заглавными буквами, усеяли табачные пятна. Он положил перед собой чистый лист бумаги, проставил красными чернилами цифру 307 и начал читать оригинал. И когда он дошел до места, где Мефистофель обращается к женщинам:
он решил не переводить этот текст на древнееврейский, поскольку в новейших изданиях, даже в немецких, его пропускали. Он несколько раз прочитал четыре строчки, улыбнулся, положил свою серебряную табакерку на книгу и глубже уселся в кресло.
Не надо было ему жениться на старости лет! Если б он хоть женился на простой девушке, его богатство способно было бы решить вопрос. Фелиция же не может быть счастлива, она всего лишь пожертвовала собой ради родителей. Если б ее отцу не грозило банкротство, он никогда бы не выдал за него свою дочь. Он только тем и подкупил их, что уплатил долги. Он ей чужд. Он это чувствует, хотя она исполняет все, что он ни пожелает. Каждый вечер она зовет его к себе в гостиную, вероятно, надеясь, что он развлечется среди ее гостей. Но как он выглядит, сморщенный старик, среди либеральных помещиков и еврейских молодых людей? Каждый, кто встречает его в обществе, должен жалеть его жену и думать про себя, что такую молодую, красивую женщину ничего не стоит отбить у старого Шейлока… Он и не заходит туда, к ним, сидит у себя в комнате, читает, пока не разболится голова, а там пусть делается что угодно! Он стесняется ее, стесняется вздохнуть или кашлянуть при ней. Как только она появляется, ему отчаянно хочется казаться моложе… Уже несколько месяцев, как они не были близки… А его богатство? Так ведь она сама рождена в богатстве. Гете прав… Как там сказано у мудрецов: «Вожделеющий женщину меньше, чем он желает молитв, удалится…»
Он поднял очки на лоб и стал смотреть, как Вепш, спокойный, золотистый, искрится в лучах заходящего солнца.
Понемногу он забылся, глядя на солнце; светило скользило к воде, отражалось в ней и обрамляло края неба золотом и медью. Один глаз Йосла закрылся, второй неподвижно смотрел, как кончается день, уходит, уносит свою склоненную голову, и у старика было лишь одно желание: чтобы его не тревожили, оставили в покое. И когда солнце исчезло, Йосл наконец вздохнул. Он слышал, как к дому подъехала карета, махнул рукою в том направлении, откуда несся шум, как бы упрашивая кого-то, чтобы его не беспокоили, и начал укладывать исписанные листы в ящик стола. Не зная, что дальше делать, он все перебрал в ящике, вынул пачку писем, перевязанную тесемкой, и развязал ее. Потом долго смотрел на стертые адреса, зная наизусть содержание каждого письма. Сложенные в несколько раз записочки с сургучными печатями были из Жулкева, заброшенного галицийского местечка, куда ездили маскилы из Польши и из Галиции к своему ребе – реб Нахману Крохмалу[43]43
Глава «просвещенцев».
[Закрыть]. Он его видел: худой, молчаливый, спокойный реб Нахман умел легко решать самые трудные вопросы – двумя-тремя словами. Глаза живые, приветливые, покатый лоб… Рипсовый лапсердак он носил и летом, и зимой. Реб Нахман настаивал, чтобы Йосл перевел «Фауста». И всегда, говоря с ним, вспоминал Ибн-Эзру. Но тот был, вероятно, живее, подвижнее, говорил захлебываясь, отрывисто, щедро дарил свои блестящие идеи окружающим, постоянно торопился, не имея времени спокойно обдумать хоть что-нибудь, писал, странствуя с палочкой в руке, словно это было для него побочным делом.
Широкий лист бумаги, исписанный детским почерком, пришел из Падуи. Этого итальянского еврея он до сих пор не может понять. Тот снится ему в последнее время все чаще: они беседуют с ним иногда целые ночи. Когда-то, когда итальянец выступил против Нахманида и Ибн-Эзры, он, Йосл, стал его смертельным врагом, перестал посылать ему ежегодно пять тысяч злотых на покупку старых еврейских манускриптов и совершенно порвал с ним. Теперь он сожалеет о разрыве, чувствуя, что отчасти итальянец прав, и собирается послать ему первую часть «Фауста». «Потусторонняя жизнь» Нахманида[44]44
Нахманид (Рамбан, рабби Моше бен Нахман, 1194–1270) – великий иудейский ученый XIII в.
[Закрыть] слишком аристократична, она – для избранных, для людей незаурядного ума. И чего он добивался своими тринадцатью основами? Его третий принцип слишком абстрактен, это не по-еврейски. Народу чужд бог, который одновременно существует и не существует. Народ не хочет ему молиться и создает себе другого. Это понимали даже метафизики и подменили бога Логосом, сыном божьим, цадиком, всевозможными хитрецами, при помощи которых можно было бы прийти в соприкосновение с божеством! А «Потусторонняя жизнь» Луцато[45]45
Еврейский поэт и комментатор Торы из Италии (1800–1865).
[Закрыть], которая предназначена для всех, даже для грешников… Разве в ней таится подлинная истина? Кто знает? Однако думать, таиться гораздо приятнее, разумнее. Луцато прав, что не питает доверия ко всем видам диалектики, не придает значения геометрическим доказательствам Спинозы… Ну, в самом деле, какую ценность имеет истина, которой обладает человек? Если б он, Йосл, был не так стар и имел больше смелости, у него бы тоже была своя истина. Но нельзя же считаться только с разумом. По-еврейски доброе дело главнее доброго слова. И если Павел исказил истину и учил римлян, что главное – вера, а не деяния, он полностью порвал при этом не только с евреями, но и с христианами и при самом зарождении христианства осудил его на гибель.
Последняя мысль так воодушевила старика, что он встал и стал медленно ходить по комнате, и чем глубже вдумывался в эту мысль, тем больше она ему нравилась. Тоска на миг покинула его, он почувствовал себя моложе. Ему показалось, что он открыл нечто новое, и решил, что напишет об этом Шмуэлю-Давиду Луцато. Не подобает так долго пребывать в ссоре.
Он скоро устал и сел. Перед ним лежало письмо от Гейгера – того, который протестовал против обрезания и так обкарнал иудейство, что уже недалеко до того, чтобы оно совершенно исчезло с лица земли. Чего он хочет, этот солидный немец во фраке? Все старания прилагает, чтобы евреи просвещались, учились уму-разуму у христиан, одновременно утверждая, что к нам невозможно близко подойти. При этом он думает, что мы, грязные, – носители идеи исправления мира и намерены воплотить ее в жизнь. Удивительно! На погибающие народы вдруг возлагается великая миссия, и они становятся освободителями… Поляки ведь тоже утверждают, что польский народ распят за грехи других народов, что он даст Мессию, социального Мессию. У них свой Гейгер, какой-то Товианский. Он весьма далек от нашего рационалиста Гейгера. Поляк – настоящий ребе, лечит больных, как Баал-Шем, посредством чудес, жаждет, видимо, заполучить миллионы Ротшильда, думает, надо показать, что его царство от мира сего. Смешно! И чего хотят от Товианского поляки? Они насели на него, да и жена тоже, чтобы он был казначеем, хранил у себя собранные деньги. Дал бы им пару тысяч, чтобы они его освободили от этого. Евреи, конечно, не должны в такое вмешиваться. Старик Яшинский, вельможа, в глубине души считающий старого Йосла своим арендатором, хоть и берет у него деньги взаймы и беседует с ним о Гегеле, ни гроша не хотел дать. Сказал, что это бессмысленно, ибо все существующее разумно. Какая тупость! Значит, восстание, которое произошло в тридцатые годы, тоже было разумно, раз произошло? Значит, разумно и то, что оно провалилось? И на такой правде строят и разрушают миры! Недавно молодой человек сказал ему, что, если Рим действительно освободился от Австрии и Папа лишен престола, значит, пришло время восстановления Иерусалима. И сказал это не каббалист, а умный юноша, который много знает, разбирается в священных книгах, окончил Гейдельбергский университет… Впрочем, кто их разберет? Молодое поколение зашло слишком далеко. А может, он уже так состарился сам, что ничего не понимает из того, что делается вокруг? Кстати, что ему сию минуту пришло в голову? Ай-ай, выпало из памяти… Старик начал тереть себе лоб. Нужно было написать Луцато! Действительно, на старости лет он уже многого не помнит… Тоже ведь был молод когда-то, ездил во Львов и со Шлоймой пробирался к Крохмалу. Все как сон! И Нахман на том свете. Правда, Шлойма – раввин в Праге. Шлойма неглуп, он, вероятно, сожалеет, что так поздно додумался до того, что не стоит ссориться со всем миром, если можно жить сытно и покойно. Он всегда боялся за собственную шкуру, действовал только наверняка, не имел мужества. Иначе разве мог бы человек двадцать лет подряд есть телячью колбасу во Львове, правда жирную колбасу, и работать на мясников?! Теперь, когда он надел на себя маску раввина, он порвал со старыми товарищами. Раввинство его погубило. Все-таки хотелось бы еще с ним побеседовать; они, кажется, одних лет… Да, одних лет… Оба в одно время начали ходить к Крохмалу, а летом прятались в поле – читали Вольтера… Сон, сон!.. Жизнь течет… Кто знает? Возможно, через много лет Мордхе будет сидеть так же, как он, и думать о том же… Вечный сон! У него неплохие способности, у Мордхе. Давно ли он приехал? Три месяца. За это время он прилично научился читать по-немецки, и в текстах Нахманида тоже хорошо разбирается. Но для чего Авром послал сюда своего единственного сына? Одно из двух: если он хотел послать его к ребе, зачем же велел ему жить у Йосла? Он из этого рая не выйдет нетронутым. Да! Старик поднялся, подошел к черному резному книжному шкафу, вынул книжку «Любители Сиона», недавно вышедшую в свет, положил ее на свой стол: пусть мальчик читает. Йосл снова сел в кресло и так и остался сидеть с закрытыми глазами в темной комнате. От черных книжных шкафов, стоявших вдоль стены, от точеных стульев отделились тени, вытянулись по полу, по стенам, как старые знакомые. Сгорбившийся Йосл почувствовал такую усталость, что его потянуло в постель; так тянет к земле спелый плод, созревший на дереве.
– А, Йосл, как поживаешь?
– Нахман?
– Не узнаешь меня?
– Ты ведь, кажется, умер?
– Ты забыл слова Нахманида о бессмертии: «Ибо человек не обретает сохранения души, если не достигнет мудрости в сверхъестественном».
– Так это правда, что говорит Нахманид?
– Правда, правда!
– Значит, Шмуэль-Давид Луцато…
– А как, кстати, поживает этот итальянец?
– Он жив.
– Нахманид желает с ним познакомиться. Каждый день, когда называют имена вновь прибывших, он прислушивается – не упомянуто ли среди них имя Шмуэля-Давида.
– Его хорошо встретят. Представляю себе: Нахманид – с одной стороны, Ибн-Эзра – с другой, Спиноза – сзади… Затем более мелкие! Они его разорвут на части, ха-ха-ха!
– Кто это? – вздрогнул Йосл, увидев Фелицию, и стал протирать глаза. – Вздремнул…
– Почему ты сидишь впотьмах?
– Впотьмах?.. – Он схватил звонок со стола и начал звонить. – Да, я сижу впотьмах.
Вошел слуга и поклонился.
– Игнац, дай свет!
Слуга зажег лампу и хотел зажечь свечи в канделябре.
– Не нужно, можешь идти.
Фелиция погладила его седую голову и стала просить:
– Чего ты сидишь здесь один? Пойдем в гостиную: у нас гости.
– Кто там?
– Те же, что и всегда.
– Кагане?
– Кагане, Комаровский…
– Этот вельможа! – перебил ее муж. – Что он делает здесь, в Коцке? Ведь он галичанин!
– Ты же знаешь, что он делает.
– Хочет прогнать русских, не иначе, да?
– Разве это несправедливо?
– Это безумие!
– Как для кого!
– Я вчера говорил с Рудницким: он потерял двух сыновей в первом восстании. Рудницкий утверждает то же самое. «Крестьяне, – говорит он, – не пойдут!»
– Кагане говорит, – улыбнулась Фелиция, – что, если даже восстание будет проиграно, его все равно следует поднять. Это будет еще прекраснее, еще трагичнее…
– А, Ка-га-не! – с насмешкой произнес Йосл. – Это дело другое! Он ведь говорит, что теперь, когда Рим освободился от папства, Иерусалим тоже будет освобожден и возвращен евреям. Хорошо еще, что он не приказывает евреям сплотиться и самим освободить его от турок.
– Ты над всем смеешься…
– Это я говорю серьезно. – Он взял Фелицию за руку. – Мы, евреи, странный народ. Или мы стоим совсем в стороне, или же отдаемся делу душой и телом – и ломаем себе шею!
– Когда человек молод, – улыбнулась Фелиция. – А ты был лучше?
Он почувствовал себя старым, разбитым, боялся это показать, погладил Фелицию, как дочь, и спросил:
– Ты мне простишь, Фелиция? Я не очень хорошо себя чувствую. Иди к гостям, а я лягу.
– Что с тобой?
– Ничего, обыкновенная усталость. – Он поцеловал ее в щеку. – Спокойной ночи!
– Спокойной ночи!
Он остался сидеть со скрещенными руками, с опущенной головой, долго глядел усталыми глазами в ту сторону, куда исчезла Фелиция, будто она после себя что-то оставила, повел вдруг плечом, как бы желая все с себя стряхнуть, и снова углубился в «Фауста».
Глава V
«ВЕЛИКАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ»
Фелиция вошла в соседнюю комнату, постояла с минуту, нахмурив лоб и закусив губы, как заупрямившаяся девчонка, решившая выкинуть какую-нибудь штуку наперекор родителям. Она корила себя за то, что заходила к мужу, ласкала его, сказала несколько теплых слов, как это обычно делают героини романов, чувствующие себя «грешными» и боящимися, чтобы муж чего не заподозрил. Она зажгла свет и начала читать письмо, которое Комаровский тайком сунул ей в руку. Совсем еще молодой, со светлыми усами, голубыми детскими глазами, с манерой говорить, перескакивая с одной темы на другую, Комаровский понравился Фелиции с первой встречи. Она редко понимала, что он говорит, не могла связать одну его мысль с другой, но в этом для нее был отдых от ясности, логичности и точности, которые царили в доме. После первого его визита Штрал сказал жене, что молодой Комаровский напоминает хорошую верховую лошадь, которая, почувствовав на себе всадника, уже не может стоять на месте. Ей это сравнение понравилось. Она не понимала, как может человек быть таким восторженным, но целыми днями думала о нем, все больше и больше запутываясь. Словом, когда Комаровский находился у нее в доме, Фелиция чувствовала себя счастливой.
Она скомкала письмо, глянула на себя в зеркало, осталась довольна матовым, спокойным лицом, которое там увидела, и усмехнулась: в записке Комаровский просил ее подождать, потому, мол, что считает себя еще не достойным ее. Она опять развернула письмо:
«…я верю, что время скоро придет, уже действительно скоро… Человечество должно быть свободным. Евреи – один из тех народов, которые дадут Мессию. Мы живем в удивительное время! Я думаю, что скоро, скоро… я упаду к твоим ногам, буду целовать следы твоих ног, впитывать в себя пыль мира, чтобы ты вышла очищенной и чтобы я смело мог сказать: идем! Светом очей твоих мы разгоним злых духов, которыми кишит земля. Сияние, исходящее от седьмого вестника, которого Бог должен ниспослать на землю и который уже находится среди нас, озарит тебя, мой ангел! Огонь твоих глаз воспылает так, что зло исчезнет и земля станет раем!»
«И если ты не пойдешь за мной, я останусь у ног твоих, как верная собака, никого не буду допускать к тебе, чтобы пылинка не пала на тебя, моя матер долороза!
Еще вчера я готов был отдать свою жизнь, лишь бы Рим не попал в руки антихриста. С ружьем за плечами, со словами: „Petrus Apostolus, Princeps Apostulorum“ я пошел с австрийцами покорять неверующих итальянцев, и что же вышло?.. Я, правоверный католик, содействовал погребению христианства! И никто не посмеет бросить мне в лицо слово „антихрист“! Кагане прав: мы живем в поразительное время. Старый Рим освободился! Слышишь!.. О-сво-бо-дил-ся!..»
«И когда я состарюсь, не смогу больше лежать у ног твоих, я растерзаю свое сердце, на окровавленных струнах буду играть перед тобою, чтобы все окружающие обезумели, чтобы деды передавали внукам: жили здесь, дескать, когда-то несчастный князь Комаровский и страдалица Фелиция… О, если бы ты знала Комаровского! Он умеет чувствовать. В этом сказывается благородная кровь сорока поколений! Сорок поколений – я склоняю перед вами свою грешную, больную голову! Мне так скверно без тебя, так скверно, ангел мой!.. Я жду, чтобы Польша меня скорее позвала… Пока я бьюсь головой об стену, молчу и жду».
Письмо вскружило ей голову. Фраза, что Комаровский происходит из благородного рода, насчитывающего больше сорока поколений, более древнего, чем род польского короля, не выходила у нее из головы. Вот каков он, Комаровский! Но она не была в нем уверена, никогда с ним не говорила об этом, а когда заводила разговор, он избегал его. Она по первому зову ушла бы с этим поляком, без угрызений совести, не думая о родителях. Обанкротившись, они продали ее, дали ей в мужья дедушку… Даже и не дедушку – дедушку любят, – дали строгого, умного дядю. Не стоило жалеть их после этого! Когда вспоминался ей муж, к которому она, однако, питала большое уважение, она чувствовала себя виновной и страдала. Впрочем, она редко думала о нем…
Теперь Комаровский уезжает, а она остается ни с чем. Почему он не говорит с ней? Она не перенесет этого, не даст ему так уехать!
Машинально она бросила взгляд на руку, где к кольцу был прикреплен белый орел, осмотрелась, как бы опасаясь, чтобы кто-нибудь не подслушал ее мысли. Ей очень не хотелось остаться одной в большом, тихом доме.
Кагане? Краснопольский? Кто еще?..
Она повела покатыми плечами, и смуглое лицо ее сделалось равнодушным. Она не раз замечала, что в присутствии Комаровского еврейские юноши становятся иными – будто им льстило, что с ними разговаривает князь. Это ее злило, и она почти возненавидела Краснопольского. Юноша-хасид Мордхе, который жил у нее, нравился ей больше: смотрит каждому прямо в глаза, не краснеет и говорит правду. Но манеры скверные – не умеет себя держать в обществе, к тому же так странно на нее смотрит! Она вспомнила, что в гостиной ее, наверное, ждут, еще раз погляделась в зеркало, сунула письмо за корсаж и, веселая, вошла в зал.
– Простите, панове, что я оставила вас одних…
– О, конечно! – поклонился князь.
– А вы разве выходили? – спросил Кагане, не дожидаясь ответа и не переставая разговаривать с Комаровским.
Фелиция не сразу ответила, остановилась у рояля, взяла несколько аккордов и усмехнулась:
– Послушайте, пан Кагане, не случается ли с вами иногда, что вы самого себя ищете?
– Что вы этим хотите сказать?
– Имеется в виду, – вмешался Краснопольский, – что если человек околачивается на грешной земле, а голова его витает в небесах, то иногда случается, что он теряет ноги…
– Прекрасно, прекрасно!..
Краснопольский, бывший в хорошем настроении, сдвинул пенсне на кончик носа и начал напевать уличную песенку, которую привез с собой из Парижа, когда приехал на каникулы:
– He пойте эту песенку! – попросила Фелиция Краснопольского и опустилась на стул.
– О, простите, мадам! – поклонился он галантно.
Мордхе покраснел. Он редко вмешивался в разговор; для него все было так ново в этом доме. Он узнал, среди прочего, что с тем же жаром, с каким он, бывало, говорил о ребе из Коцка, христианин толкует о каком-то Товианском, «Двенадцать основ» которого Комаровский только что прочел вслух. Он хотел сказать, что Товианский ничего нового не открыл, что эти двенадцать основ имеются в каббале, но чувствовал, что в устах Комаровского текст звучит совсем иначе. У него появилось ощущение, что этого молодого христианина он мог бы слушать всю ночь.
Огненный меч «Зоара» здесь превратился в острый, стальной, зажатый в мускулистой руке.
Он видел Товианского – человека с лицом крестьянина, обросшего волосами, с сумой на плечах и с суковатой палкой… Таким он представлял себе когда-то святого Павла.
Он понимал, что князь не один. В Польше, вероятно, есть тысячи таких же недовольных, как он, Мордхе. Ему вдруг стало тоскливо. Он больше не прислушивался к тому, что говорили в гостиной, смотрел на стену, где висел портрет Фелиции, и был счастлив, что живет с нею под одной крышей. Он боготворил ее и никогда не думал о ней так, как обычно семнадцатилетний юноша думает о красивой женщине. Он был убежден, что Фелиция не такая, как все. Она – Фелиция. Ему и в голову никогда не приходило, что к ней можно применить слово «материальность». Но постепенно он так погрузился в это волшебное очарование, что каждый раз, когда задумывался о близости с женщиной, видел некий божественный женский образ: это не была обычная женщина, это была та самая тоска, которую он видел в глазах Фелиции.
Он смотрел на портрет, чувствовал, как бьется у него сердце, как оно рвется, точно пойманная птица, а в мозгу мелькают отрывистые слова, затуманивающие голову бессвязные, бессодержательные слова, ложившиеся на его сердце как гора. Он не в состоянии был связать воедино эти слова, клубившиеся над ним, и с досады ему хотелось лбом прошибить эту гору, а его юное сердце обливалось кровью…
Комаровские не довольны старой верой, они ищут новую, но так же, как и старая, их новая вера – всего лишь сиротливая мысль, порожденная неизбывной еврейской скорбью. Выше можно уже не идти. Мы, евреи, достигли самого высшего. Так почему же мы не сломаем себе шею, чтобы от нас ничего не осталось? Теперь никому уже не надо начинать с самого начала. Любой желающий может выпросить, может без боли вырвать из нас кусок, оставив на нашем теле кровоточащую рану, а потом с помощью меча спасти мир!.. Если бы мы могли так крепко держать меч, чтобы рука не дрожала, чтобы не трепетало сердце, то ого-го!
С первой минуты Мордхе полюбил Кагане. Впервые в жизни встретил он образованного еврея, который ценил хасидизм, видел в нем протест еврейского духа против застывших букв закона. Не форма, не внешность составляют главное, полагал он, а дух, который создал эту форму. Это и есть хасидизм. Он, еврей Кагане, убедил князя отдаться работе душой и телом, а ведь раньше тот, по примеру Товианского, стоял в стороне от движения за освобождение Польши.
Краснопольского Мордхе не выносил, не верил, что этот франт, который хвастает тем, что говорит по-польски без еврейского акцента, – внук реб Лейбуша Мудрого.
Краснопольский скучал в Коцке, ему не с кем было танцевать, он хотел, чтобы каникулы как можно скорее кончились, и каждый день приносил Фелиции белые розы.
За эти три месяца Мордхе стал совсем другим. Этим он был обязан родственнику; тот каждый день занимался с ним, беседовал и давал читать книги. Он все реже ходил к ребе во «двор», редко видел реб Иче и чувствовал, что до сих пор жил в слишком тесном мире.
Слуга открыл боковую дверь и поклонился:
– Ужин готов!
– Панове, – поднялась Фелиция, – пойдемте кушать!
– Не знаю, шарлатан ли он, – встал Кагане, – но если поляк может быть против освобождения Польши…
– Он хочет освободить весь мир! – перебил его Комаровский.
– Что мне весь мир? – Кагане схватил Комаровского за руку. – Наши ренегаты говорят то же самое! Чего вам больше? Мицкевич разошелся с ним в этом пункте! Если вы обожествляете его учение, то я вам должен сказать: не он его создал. Приписывая ему глобальные идеи, совершают несправедливость по отношению к такому великому мыслителю, как поляк Вронский! Я уже не говорю о мыслях, которые позаимствованы из каббалы. А как вы объясните его мировую политику? Его замыслы связаны и с Папой, и с Ротшильдом – я подразумеваю миллионы Ротшильда.
– Это ведь было мировое движение! – прервал его Комаровский.
– Да Бог с вами! – рассмеялся Кагане. – Два профессора, мистик Пьер-Мишель и истеричная француженка из Латинского квартала – это называется у вас мировым движением?
– А среди евреев?
– Среди евреев учение Товианского не могло иметь успеха. Речи Мицкевича в синагогах ни к чему не привели. Знаете почему? Потому что каждый хасид, вообще все эти морщинистые евреи с пейсами, они сами – Товианские. Они не придают этому значения, потому что это у них в крови! Нескольких евреев, которые примкнули к Товианскому, можно по пальцам перечесть. Его адъютант Гершон Рамм – вообще отброс какой-то, а польские евреи, которые называют себя потомками раввинов, на самом деле все – бывшие прихлебатели и отставные николаевские солдаты.
– Пойдемте кушать, пойдемте!.. – Фелиция первая вошла в столовую.
– Смотрите, как горячится Кагане! – сказал Краснопольский Фелиции и передразнил его.
– Зато вы никогда не бываете серьезны. – Фелиция указала каждому место за столом. – Берите пример с Кагане.
– Боюсь потерять волосы, – рассмеялся Краснопольский.
Кагане инстинктивно схватился пальцами за голову, где волосы были так жидки, что их без труда можно было перечесть, потом все же улыбнулся и обратился к Фелиции:
– Понимаете, все в жизни устроено целесообразно. Если имеешь дедушкой Лейбуша Мудрого, которого польские евреи называют «железной головой», то, будучи его внуком, можешь совсем не иметь головы. Ради гармонии… Нельзя быть слишком расточительным: Комаровские тоже должны кое-что получить. Не правда ли?
– Правда, правда! – ударил Комаровский Кагане по плечу и налил себе бокал вина. – Остроумно сказано! Удивительный народ евреи! Товианский прав, когда говорит, что у французов было только одно светлое пятно – Наполеон, который блеснул, разогнав темных призраков, губивших душу человеческую, притуплявших умы. У евреев светлых пятен было много. Да они и сейчас есть! Я пью за прекрасную еврейскую расу!
Бокалы звенели, все принялись за еду.
Мордхе заметил, что, когда Фелиция нагнулась к лампе, чтобы поправить фитиль, из-за корсажа у нее что-то упало. Он хотел нагнуться, поднять этот клочок бумаги, отдать ей, но инстинктивно наступил на него ногой, оглянулся, не смотрит ли кто, и сильно покраснел. Он больше не слушал, о чем говорили за столом, чувствуя, как этот клочок бумаги жжет ему сердце. Он весь пылал, убежденный, что был замечен, что его сочли хамом. Когда крестьянин в шинке видит, что кто-нибудь роняет монету, он наступает на нее ногой. Но ведь так делает только негодяй! Он спорил сам с собой. Должен ли он сейчас поднять упавшую записку и отдать ей? А может быть, никто не должен знать об этом? Последняя мысль его успокоила. Он не двигал больше ногой, сидел, сжавшись, до конца ужина и, когда все ушли в другую комнату, быстро схватил бумажку, сунул в карман и несмело пошел за ними.
Фелиция играла.
Он не понимал ее игры; глядя, как длинные белые пальцы Фелиции скользят по клавишам, он вспоминал о родном доме, о Рохеле, о реб Иче и вдруг почувствовал себя таким близким ей, таким родным…
Звуки, затихая, плыли в воздухе, сливаясь с полутьмой комнаты. Мордхе прислушался.
Приятный голос князя звучал таинственно:
Эти слова были Мордхе знакомы. Он не помнил, правда, где их читал. Да и читал ли? Может, это мидраш, где описывается антихрист, который должен родиться в Риме с тремя головами?.. Но откуда знает об этом иноверец, а?
– Извиняюсь, пане Краснопольский, что декламирует князь?
– Это же «Великая импровизация».
– Что?
Краснопольский ничего не ответил. Стало тихо. Слова возникали с необыкновенной быстротой, громоздились друг на друга, как камни, летящие с горы, и каждый из гостей вдруг почувствовал себя маленьким, ничтожным, согнулся в своем уголочке. Слова огненными буквами отпечатывались у Мордхе в мозгу. Слова и видения. Вдруг, не зная почему, он увидел перед собой реб Менделе, который сидит запертый в своей комнате, запертый и прикованный, бьется изо всех сил, кричит, ропщет на Бога, и тысячи лиц смеются над ним, над тем, что измученный, слабый человек бегает по запертой комнате, воюет с ветром.
«А Кагане?» – посмотрел Мордхе в ту сторону, где стоял князь, но никого не увидел.
Кагане сидел посреди комнаты, говорил быстро, нервно. Создавалось впечатление, что он торопится выговориться, чтобы не быть прерванным в середине. Слова душили его, от возбуждения он в конце концов встал и принялся жестикулировать:
– Стоило ему только закрыть глаза, как он почувствовал, что руки его превращаются в огромные крылья, достигают неба, и, к чему ни прикоснутся пальцы, везде загораются звезды. Хочет – он их тушит, хочет – зажигает, бросает одну на другую, проводит пальцами по звездам, как по огненным клавишам. Он знает, что может из ничего создавать миры, может их разрушать; что над ним нет никакой власти; что того, что он сотворяет, прежде не было и не могло быть; что оно возникло само из себя, ибо за ним никогда не следует тень!
Тем не менее он не радовался, ибо знал, что, если он даже и создаст мир за шесть дней, никто не поверит, что у него нет тени, которая бы постоянно обещала людям, что камни мощеных улиц, дорог, камни лесов и пустынь он всегда сможет превратить в хлеб!
Это главное!..
Пламенные слова вырывались у Кагане с невероятной силой, падали огненными каплями в тишине, взрывались, ослепляли его самого, он останавливался с открытым ртом, сам не зная, что говорит. Тысячи огоньков, сверкая, куда-то увлекли его, и сквозь них, как сквозь тюлевые занавеси, там и сям прорывалась глубокая синева… И он увидал корабль. На корабле были евреи – неверующие, осужденные на вечные муки в аду. Разумными речами, пищей и питьем священники хотели их спасти, чтобы на них снизошла милость Божья. Грешников с горячей кровью, тех, которые и слышать не хотели, что Христос погиб за грехи людей, утопили, а с праведными, на которых слово Божье падало, как летний дождь на сухую землю, и которые с такой любовью отдавались ему, свершилось чудо – их ноги и сердца начали истекать кровью. От чрезмерной любви их бросали одного за другим в море, чтобы святые попали прямо в рай, не стали добычей антихриста. От великой любви… от великой любви…
Все в гостиной смотрели на Кагане, который стоял с открытым ртом и с глубоко ввалившимися, словно от сильного страдания, глазами. Прошло несколько минут. Он не понимал, почему вдруг вспомнился ему какой-то эпизод времен изгнания из Испании, не находил в нем связи с тем, что сам рассказывал, хотел уже сесть, как вдруг увидел стоящего у стены Мордхе. Этого было достаточно для того, чтобы в голове у него прояснилось.
Кагане вздохнул, вспомнил, на чем остановился, ухватился обеими руками за спинку стула и тихо продолжал:








