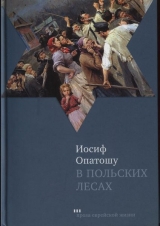
Текст книги "В польских лесах"
Автор книги: Иосиф Опатошу
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Глава X
ШЛОМО МОЛХО
В два часа ночи Мордхе наконец вернулся домой. Тихо вошел в свою комнату, не зажигая света, разделся и сел на кровать. События, перемежаясь, проносились перед его внутренним взором, вспыхивали и угасали в памяти. Он вспомнил об отце, представил себе, как тот сидит полураздетый на кровати, читает Криас шма[53]53
Молитва, которую евреи читают на ночь.
[Закрыть], а мать примостилась напротив, заплаканная, бледная. Невыразимое страдание точило его душу. Он подошел к окну. Снежные поля, звезды, похожие на глаза, не двигались, равнодушные, они смотрели вниз – как вчера, как третьего дня, как в прошлом году. Он пристально всмотрелся в небо, увидел среди звезд большие, ярко светящиеся, разглядел меньшие, совсем маленькие.
Он зажмурил глаза, и серебристые пылинки, как нити, стали сплетаться над звездами, потянулись вниз.
Мордхе объяла вдруг тоска по человеку: он готов был каждому встречному броситься в объятия и исповедаться. Ни с того ни с сего он подошел к кафельной печи, взял горсть пепла, посыпал себе голову и сел у дверей на полу. Из горла у него неожиданно вырвалась такая же заунывная мелодия без слов, как та, которую он в детстве слышал от дедушки, когда тот совершал полуночную молитву. Он не спрашивал себя, зачем это делает, не удивлялся, что он, Мордхе, уже давно переставший молиться, вдруг, обливаясь слезами, начал читать полуночную молитву. Он не спрашивал себя, откуда он знает наизусть молитву «Тикуней Зоар», он испытывал чувство человека, который во сне читает отрывок из Талмуда, дотоле ему неизвестный, говорит на языке, которого никогда не слыхал. И чем дальше Мордхе читал молитву, тем сильнее плакал, плакал от радости, что душа его очищается, трепетал от счастья, чувствуя близость к звездам, сыпавшим искры из неведомых миров. И радость его была так велика, она так переполняла все его существо, что его губы прошептали:
– Все правы, все! Реб Менделе, реб Иче, босой Исроэл! Все правы, все! Даниэль, Душка, Темреле! Все, все! Фелиция, Комаровский, Кагане… Все, все!..
* * *
Мордхе еще глубже погрузился в молитву, потом остановился, вспомнив, что «Тикуней Зоар» читают, когда умирает ребе. Он задумался и, усталый, уперся головой в стену.
Что тут творится? Что? Почему все рвут одежду в знак траура? Скончался ребе? Вот как… Вот он лежит! Реб Иче стоит у двери и читает «Тикуней Зоар». Ребе лежит укрытый своим белым шелковым лапсердаком. Как много света! Как много людей! Стены раздвигаются… Почему это он лежит на полу? Кто это? Босой Исроэл? Вышвырните его! Вышвырните его! Ни одна рука не поднимается на него. Босой Исроэл подходит к ребе:
– Коцкий ребе, покайся!
Ребе, укутанный в белый шелковый лапсердак, поднимается. Все разбегаются в стороны. Вслед за людьми убегают и стены. Комната становится все больше, остается только пустое пространство, и посреди этого пространства стоит растерянный Мордхе. Ребе берет его за руку, не говоря ни слова. Он топчется на месте, делает маленькие шажки, не двигаясь с места. Мордхе вздрагивает, оглядывается – они стоят у входа в пещеру. Воздух содрогается от Божественного гласа, подобного звуку рога:
– Йосеф Каро![54]54
Автор основополагающего труда «Шульхан арух», регулирующего повседневную жизнь еврея.
[Закрыть] Йосеф Каро!
Камень, заслонявший вход в пещеру, откатился в сторону. Изможденный человек, без рубахи, которая могла бы прикрыть его нагое тело, а только с поясом из листьев вокруг бедер, сидел у входа в пещеру и учил Тору. Обнаженный человек ни разу не обернулся, он продолжал заниматься Торой, кому-то разъяснял какую-то проблему, хотя в пещере никого не было видно. Время от времени он вздрагивал, словно посторонние взгляды ему мешали.
Заросшее волосами страшилище с ужасным лицом, похожее на какого-то удивительного зверя, выбралось из темной пещеры и тихо обратилось к Мордхе:
– Что ты дрожишь? Не надо пугаться. Я проповедник Йосеф Каро. Привыкни смотреть мне в глаза, и ты найдешь там отблеск того, что принято называть словами «жалостливый и милосердный». На тебе узелок с едой, и отправляйся в путь. Коцк – не место для тебя. Иди на восток, иди на запад, иди на север, иди на юг. Отправляйся в большой мир, к людям. А когда все пути станут тебе ясны, все люди – близки, тогда остановись у ворот Рима. А если на тебя обрушится беда… – Тут страшилище наклонилось к Мордхе. Посмотрев на него какое-то время, Мордхе застыдился: как это ему могло прийти в голову всего несколько мгновений назад, что лицо «проповедника» отвратительно? – А если на тебя обрушится беда, – повторил «проповедник» и что-то тихо прошептал Мордхе на ухо, – то этим тайным словом ты всегда сможешь меня вызвать. Иди, и да сопутствует тебе успех!
Мордхе пустился в путь. Он шел дни и ночи, проходил города и страны, языка которых он даже не понимал. Одежда на нем начала рассыпаться, от башмаков ничего не осталось, и чем сильнее он хотел прогнать из сердца отчаяние, тем глубже погружался в него. Голодный, страдающий от жажды, он тащился по безлюдной местности, искал среди камней воду, хотя бы глоток. Из-под большого камня выбивался тоненький ручеек, журча, он струился между ветвей и листьев. Мордхе пустился на шум, увидел всадника на лошади и заторопился.
– Кто это? Знакомое лицо… А, это же Кагане!..
– Хорошо, хорошо, Мордхе. Садись на моего коня, надевай мою одежду и езжай в город!
А из камней катилось эхо, словно там была пещера:
– А где он находится?
– У ворот Рима!
– А как узнать его?
– Он сидит среди бедняков, страдающий от болезней.
– И все перевязывают их и лечат раны их одновременно.
– Он перевязывает по отдельности каждую из их ран.
И сказал он: «А если я потребуюсь, то я не должен задерживаться».
Звук эха трижды повторялся, звучал тремя различными голосами, излечивая Мордхе от усталости, изгоняя его отчаяние. Он сел на коня и погнал его, проехал Ворота Тита, где он произнес предвечернюю молитву, и остановился у первого же постоялого двора иноверцев:
– Хозяин, я рыцарь из дома Пирема. У меня в Риме возлюбленная, из-за которой я страдаю, а ее родители держат ее под замком, поставили стражу, и ни один рыцарь не должен показываться в окрестностях замка, в котором она находится. Прошу тебя, хозяин, возьми мою лошадь, мои одеяния, найди у себя в стойле старые лохмотья…
Мордхе завернулся в шелковое знамя, на котором было вышито красным шелком: «Из глубин возопил я к Тебе, Господи», набросил на себя лохмотья и направился к мосту через Тибр.
Сотни калек сидели рядами, спали вокруг ограды. Люди без ног, без рук, без глаз ссорились, ругались на чем свет стоит, показывали свои раны, грея их на солнце. А когда подъезжал рыцарь, калеки затихали, принимались громко произносить благословения, глядя на длинные бичи. Открытые раны, разлагающиеся члены тел, пустые места, на которых должны были быть члены тел, – все это устремлялось к прохожему с просьбой о милостыне. При этом они перечисляли имена святых.
Среди этих калек сидел Мордхе. Он обернул свои лохмотья в форме восьмисвечника – восемь лоскутов вокруг правой руки, восемь вокруг левой, не глядя на то, что из всех углов, из всех ворот на него устремляются кресты.
Эти острия приближались к нему все ближе. Со всех концов города – тонкие, еще тоньше, они сотрясали воздух своими колоколами. Мордхе непрерывно произносил молитвы для очищения от нечисти. Он соединял искры, и сияющие буквы выросли над восьмисвечником, зажглись, погасли, снова зажглись. Они отражались в тихом Тибре, как в бриллиантовом зеркале.
Буквы над светильниками восьмисвечников разгорались все ярче. Они тянулись к свету бесконечности, как дитя к матери. Они трепетали, как белые, раскаленные языки, изгибались, сближались – первый светильник с последним, каждый – со своей парой, начало – с концом, конец – с началом, как мужчина и женщина, как огонь и уголь. И тогда раздался плач. Это буква «гей» с первого восьмисвечника и буква «нун» со второго рвались друг к другу. Они рыдали в тоске и никак не могли сойтись, потому что мужи первого восьмисвечника соединялись с женами второго восьмисвечника, а силу они тянули из самого корня, из буквы «гей» и буквы «нун», и силы их сливались, становились единым целым, как мать с ребенком, который еще не родился.
Над раскаленными добела языками выстроились в ряд двадцать две расплывающиеся буквы. Они изгибались в огненном хороводе, синие, как сапфир. Мордхе разулся и – от великого страха – упал лицом в землю и несколько раз повторил: «Мысль, слово и деяние. Все это едино у Господа, благословенно Имя Его».
Из огненного хоровода-колеса вырвалось еще одно колесо, а из этого – еще одно, и так снова и снова. А когда их число достигло десяти, колеса начали дрожать, выплевывать куски синего пламени, и из густого дыма появился Бог, окруженный серафимами.
– Свят, свят, свят! Открывайте ворота, освободите дорогу! Всемогущий грядет! – Серафимы захлопали крыльями в огненном свете над короной Всевышнего. И чем громче они хлопали, тем больше звезд отрывалось и оставалось висеть между голубых колес. Все больше и глубже становилась завеса. Усиливалась тоска серафимов по сиянию, не имеющему ни начала, ни конца, по сиянию, начало и конец которого являет ничто.
– Свят, свят, свят…
– Кто ты? – послышалось и не послышалось с востока, запада, севера и юга. – Это человек короновал себя как Бога, вырядился в громы и молнии, притворился «Господом жалостливым и милосердным», мстителем до четвертого поколения. Ты убедил себя, что в твою честь следует день и ночь петь хвалебные гимны. Кто ты такой? Даже при твоих окровавленных руках и ногах, ибо ты хотел искупить грехи людей своей кровью, кто ты такой? Твоя жизнь, твоя смерть, твое милосердие, желавшее воцариться на обломках деревянных и каменных идолов и все еще скитающееся по свету, так же бессильны, как и идолы. Так кто же ты? Даже самое прекрасное из твоих деяний, то, что Бог приблизил к себе женщину-блудницу, очень человечно, и не более. Так чего же ты хочешь? Корчись, вылезай из собственной шкуры, ты, которого человек, смертный, короновал как Бога, которому он велел сделать из Рима – Иерусалим, даже он знает, что твой час пробил, твое время истекает, истекает…
* * *
Огненное небо стало гаснуть, валы огненного света разыгрались, они рычали, как голодные львы, сжигая все вокруг. Обрывки облаков наплывали со всех сторон, принося тьму а между облаками носился реб Иче, бледный, почти теряющий сознание, он опирался на реб Менделе, босого и согбенного от старости. Мордхе видел, как они бегут, ни разу не оглянувшись, бегут напуганные, растерянные, словно их откуда-то выгнали, этого «богатого летами» вместе с этим «славным воителем». Мордхе расплакался, он жаловался бесконечности. Он заходился в плаче и видел, как со всех сторон к нему несутся калеки. Они посылают к нему девушку с дырой вместо носа; посылают девушку с отсохшими руками, на которых от пальцев не осталось и следа, а только болтаются тонкие, побелевшие косточки. Девушки принимаются кружиться, приподнимают верхние юбки, подходят все ближе и ближе, берутся за руки. Калеки стучат в такт руками и костылями, а девушки кружатся вокруг Мордхе, подхватывают с собой Магдалину-Темреле, принимаются кружиться – быстро, еще быстрее. Вдруг они набрасываются на него, мучают его до слез, непрестанно. Мордхе закричал и открыл глаза.
Он сидел у двери. Ноги его затекли так, словно не принадлежали ему. Начинало светать. Он хотел вспомнить, что ему снилось, но не вспомнил, а только почувствовал усталость. Он встал. Ноги кололо, будто булавками; и он принялся, хромая, ходить туда-сюда по комнате. Так он ходил изрядно, а потом вдруг остановился у стола. Он долго рассматривал лежащую на столе книгу и несколько раз прочитал: «Книга великолепия». Он вспомнил сразу весь свой сон. Он не был потрясен, а только тихая печаль охватила его, наполнила его сердце. Эта печаль не причиняла ему боли, не волновала. Она только непрерывно баюкала его и убаюкивала.
Ему стало ясно, почему люди, потрясающие миры, отдающие жизнь за новый смысл, не оставили после себя никаких сочинений. Каждый раз находился какой-нибудь ученик или ученики. Они-то и писали от имени ребе. И хорошо, что так!
Он взял в руки «Книгу великолепия», напечатанную в Салониках. Как убого, как убого! Тень тени! Какое отношение имеет этот паренек к светлого образа Диего Пиресу? Диего Пирее – Шломо Молхо – Элияу-пророк, который приходит известить мир о том, что Мессия сидит у ворот Рима. Он передает миру Божье слово о том, что Тибр выйдет из берегов и затопит этот грешный город. И Климент VII покидает в страхе свой дворец и бежит…
Постучали в дверь.
Глава XI
ПРОПОВЕДНИК
Мордхе открыл. Молодая служанка принесла ему завтрак. Она поводила узкими, не совсем еще развившимися плечами, желая обратить на себя внимание юноши, и долго возилась, ставя пищу на стол.
Мордхе ходил взад и вперед, будто в комнате никого не было, но, когда служанка собралась уходить, он ее остановил:
– Фрейда, ты вчера видела пожар?
– Какой пожар?
– Ничего не знаешь?
– А разве горело что?
– Двор ребе…
– Матушки! – схватилась девушка руками за голову. – Не может быть! Если б что-нибудь, упаси Боже, случилось, Трайна-булочница знала бы, а она ничего не говорила! Нет-нет, – Фрейда заулыбалась, слегка кокетничая, – Мордхе, наверное, шутит!
– Я не шучу, – сказал Мордхе мрачно, но сам тоже начал сомневаться.
– Я только вымою посуду, – девушка открыла дверь, собираясь уйти, – и пойду сейчас же в город. Не может быть, не может быть!
Мордхе принялся за еду. Глотал, не разжевывая, одновременно соображая, не приснилось ли ему в самом деле, что двор горел… Да нет же! Двор горел! Он уверен в этом! Босой Исроэл поджег его! Двор должен был гореть!.. Что? Должен был гореть? Значит, он сам не уверен… Мордхе встал, отодвинул от себя пищу, стал напряженно вспоминать все подробности вчерашнего вечера. А босого Исроэла он разве вчера вечером не встретил? Не видел пляшущую Темреле? И дама под вуалью разве не сидела у него на коленях? Душка разве не выходила в одной рубахе?.. Итак, горел ли действительно двор или все это было сном? Может быть… А проповедник? А то, что Йосеф Каро вошел в пещеру рабби Шимона бар Йохая, ему тоже показалось… Помни о почтении! Ты сравниваешь себя с Йосефом Каро, со Шломо Молхо? Это великие люди, избранники, показавшие миру, что Израиль есть главная тайна творения, что Израиль, Тора и Творец, да будет благословенно Имя Его, едины. Это люди, которые с радостью погибли ради освящения Имени Божьего…
А ты?
Его мозг начал работать быстрее, ни на минуту не давая ему покоя, словно держал его на цепи. Мысли, как стаи птиц, вдруг налетели откуда-то, бурлили в мозгу, исчезали, не оставляя следа, а за пустотой поминутно слышались отзвуки смеха… Он подошел к окну, ощущая биение собственного сердца, начал дышать на замерзшее стекло и пристально всматриваться. Между деревьями мелькали Фелиция с Комаровским. Юноша тяжело задышал, с мукой взирая на это, потом отвернулся и снова сел к столу. В самом деле, какое ему дело до Фелиции? Она ведь ему совершенно чужая! Смех в саду не прекращался. Мордхе вскочил, наглухо закрыл ставни и задернул занавески. Он шагал по комнате, как зверь в клетке, и когда смех в саду стих, остановился и прислушался. Потом раздвинул занавески, открыл форточку и стал смотреть, как парочка то исчезает за укрытыми снегом деревьями, то снова появляется.
Видения одно за другим проносились перед глазами Мордхе, словно связывая его. Он прислонился лбом к замерзшему стеклу и ощутил в себе тихую печаль.
Фелиция, Фелиция!..
Твой возлюбленный вошел в святая святых, пронзил завесу, и мы истекаем кровью.
Фелиция, Фелиция!..
Пусть ты даже в тысячу раз прекраснее Клеопатры! Что с того? Подобно Беренике и Эстерке, ты будешь только наложницей!
Фелиция, Фелиция!..
Зачем ты послала своего возлюбленного в Храм? Из-за тебя мы истекаем кровью, Фелиция. Из-за тебя…
Плачь, плачь…
Плачь, плачь…
Бедная Фелиция, несчастная сестра моя…
Кровь кипит во мне, кровь пророков кипит во мне, когда я вижу, что с тобой стало, что они из тебя сделали…
Сестра…
Мы не будем молчать. Мы отомстим за нашу кровь, за твою красоту, за твою скромность…
Мы слабы?
Да, сестра, слабейшие уже однажды швырнули мир в путаницу, из которой он не может выбраться до сих пор.
Утешься, сестра, утешься…
По еврейским кладбищам скитается не одна Фелиция. Не одна оскорбленная Сореле пророчествует о том, что Мессия уже пришел, и ждет его, своего жениха. И мы не сможем больше выносить этого страдания. Какая-нибудь Сореле или Мирьям снова запутает мир так, что он уже никогда не распутается!
За нашу кровь, Фелиция, за твою красоту, за твою скромность…
Фелиция, Фелиция…
* * *
Мордхе вышел из комнаты. Штрал шел ему навстречу с пачкой газет.
– В Варшаве неспокойно!
– Что такое?
– С тех пор как Кронберг откупил «Курьер Поранны», его нельзя в руки взять. В каждом номере все одно и то же: евреи, евреи… Поляки, вероятно, думают, что наши несчастные соплеменники вдруг заметили, как нищи они духовно, и жадно набросились на польскую культуру! Ослы! Девяносто девять процентов польских евреев даже не знают о существовании польской культуры!
– Что вы скажете про речь Ястрова на Легине? – спросил Мордхе только для того, чтобы что-нибудь сказать. Он колебался, не зная, спросить ли о вчерашнем пожаре, и все-таки решил не спрашивать.
– Новость! – пожал Штрал плечами. – Те же соображения высказал премудрый Кагане еще в прошлом году! Кагане я хоть понимаю, но когда раввин, к тому же варшавский, реб Майзельс (и его братия), берется утверждать то же самое, я в этом вижу опасность. Что ты на сей счет думаешь? – указал Штрал на газеты, словно все это он вычитал оттуда. – Если Польша – родина варшавского раввина, тогда Россия – родина московского. И если дойдет, упаси Боже, до столкновения, оба раввина должны стать смертельными врагами. Если б евреи издавна вели такую политику, от них бы и следа не осталось. Зачем тебе больше: даже князь Белопольский против этого! И когда царь был в Вильне, кто ему пел хвалебные гимны?! Одинец! Один из величайших польских поэтов! Он написал в честь царя стихотворение, превосходящее своим патриотизмом даже русского Кукольника. Ну, спрашиваю я тебя, зачем нашим «просвещенцам» пытаться превзойти поляков? Нет, Мордхе, мы, евреи, не должны вмешиваться! – Старик, довольный, махнул пачкой газет и умолк.
Мордхе мысленно сравнил своего отца и Штрала. Отец поставлял провиант в 1831 году. Лошадь под ним пала у Вали, когда неприятель взял Варшаву. А Штрал? Он кричит, что это бессмыслица, евреи не должны вмешиваться, а на его средства несколько сот ружей перетаскали из-за границы.
Служанка с метелкой вышла из двери, что-то напевая. Она увидела хозяина, умолкла и хотела уйти. Штрал ее остановил:
– Мадам еще спит?
– Мадам пошла гулять.
– Одна?
– Мадам пошла с князем.
Лицо Штрала мигом вытянулось. Он потер себе глаза двумя пальцами, сжал губы, и по лицу его разлилась усталость, как бывает у близорукого, когда тот снимает очки. Реб Йосл откашлялся:
– Славный иноверец этот Комаровский!
– Отчего же он такой славный? Оттого, что любит еврейскую рыбу? – Мордхе спохватился, что слишком далеко зашел, и покраснел.
– Что он любит? Еврейскую рыбу? – прикинулся Штрал наивным. – Откуда ты знаешь, что он любит еврейскую рыбу?
Он пронзил Мордхе взглядом, будто хотел что-то выведать у него, рассмеялся натужно и беспомощно, и в смехе его было что-то раздражающе птичье.
Подошла Фелиция, раскрасневшаяся от мороза, кокетливо взяла руку мужа и поднесла ее к своей щеке.
– Холодно?
– Где ты оставила князя? – Штрал погладил ее руку; морщины на его старом лице улыбались, показывая Мордхе, что он ошибся.
– Он сидит на веранде и просматривает почту.
– Он уже позавтракал?
– Нет.
– Тогда я его позову.
– Хорошо. Куда ты идешь? Он сидит на веранде, выходящей на улицу.
Вдохнув аромат, тонкий, как от миртовых листьев, который оставила Фелиция, Мордхе не чувствовал себя больше одиноким. Он вышел из передней.
Мороз трещал так, что дух захватывало.
Мордхе шел по протоптанной дорожке и не обвинял больше Фелицию. Он просто думал о том, как это нехорошо, когда старик женится на молодой женщине.
Озабоченные евреи бежали из синагоги с талесами под мышкой, уткнув лица в теплые кафтаны. Женщина с полным передником дров протоптала дорожку в снегу и, придерживая дрова окоченевшими от холода руками, громко кряхтела. Из бакалейной лавочки вышел еврей, тоже с талесом под мышкой, держа в руке хлеб; он постучал пальцами по корке, проверяя выпечку, и, довольный, что сможет накрошить свежего хлеба в горячую похлебку, улыбаясь, пошел домой.
Будничность, окружающая его, угнетала Мордхе. На минуту он остановился, словно очнулся ото сна. А окружающая его серая реальность словно спрашивала: «Ну и что? Ну и что?»
Он шел боковыми переулками, избегая людей, желая издали посмотреть на двор ребе.
– Здравствуй, Мордхе!
Перед ним стоял Шамай Шафт в енотовой шубе. Мордхе смотрел на шубу с большим воротником, зная, что Шафт ее не купил, а взял у помещика в счет долга, и вспомнил, как отец однажды избил Шамая.
– Давно вы уже в Коцке?
– Со вчерашнего дня. Я искал тебя у ребе в синагоге. Где ты обретаешься?
– Вы уже были во дворе?
– Как же, я видел реб Иче…
– Вчера, кажется, там был пожар? – как бы невзначай поинтересовался Мордхе.
– Да! Вот это пожар так пожар! Всю ночь горело!
Глаза Мордхе заблестели. Он и виду не показал, что этот пожар имел к нему отношение, но спросил:
– Значит, двор весь сгорел?
– Ни одной дощечки не уцелело! Убытков на много тысяч.
– А свитки Торы?
– О чем ты говоришь?
– Спасли ли хоть свитки Торы?
– Да ведь горело у помещика за кладбищем!
– Вот как! – широко раскрыл глаза Мордхе. Его будто с размаху сильно ударили по голове. – Так, значит…
– А ты что думал? – улыбнулся Шамай.
– Ничего. – Мордхе смутился. – Когда вы… Вчера, говорите, приехали? Что слышно в лесу?
– Отец такой же, как всегда. Ты же знаешь. А мать не переставая плачет, что бедному Мордхеле приходится жить на чужбине. У меня есть письмо для тебя, – начал он шарить в карманах. – На! Если ты нуждаешься в деньгах, скажи: я тебе дам.
– Вы мне поверите? – Мордхе вскрыл письмо, собираясь его читать, передумал и положил его в боковой карман.
– Слово твоего отца – надежный вексель. – Маленькие глазки Шафта заиграли. – Есть у тебя свободное время, Мордхе?
– А что?
– Я хочу с тобой поговорить. Но мне вскорости нужно быть в суде. Если у тебя есть время, проводи меня.
Мордхе пошел с ним. Ему было очень любопытно, что расскажет Шамай. Он, однако, тревожился за отца, который всегда не мог видеть, как плачет мать, который бегает один по лесу, ругает с досады крестьян, чувствует, что идет ко дну, что его помещик, Табецкий, уже погиб, а Шамай, Шамай Шафт, который вечно спрашивает, из чего это следует, что нужно носить белый воротничок и черные ботинки, а не наоборот – черный воротник и белые ботинки, этот Шамай, который вечно торчит в суде и каждый день у какого-нибудь помещика отнимает имение, становится хозяином…
– Шамай, – спросил Мордхе, – как вам не надоест судиться всю жизнь? Знаете ли вы, как много у вас врагов? Вы же богатый человек! Пора вам наслаждаться своим богатством, а не…
– Ха-ха-ха! – хитро прищурившись, засмеялся Шафт. – Я знаю, что деньги еще не все в жизни! Все же нужно уметь жить широко, как твой отец. Я могу-таки себе позволить пообедать за пять злотых, даже за десять, но, правду говоря, для меня это мучение! Эта необходимость сидеть, принимать услуги, мясо трех сортов… Не переношу этого! И я захожу в нашу столовую. Обед мне стоит всего один злотый, и я имею удовольствие. С твоим отцом, видишь ли, мне никогда не сравниться! Он ведь живет не по средствам! Ты в самом деле думаешь, что твой папа такой богач? Ничего подобного! В Плоцке ты встретишь десятки евреев, которые богаче его.
А то, что я имею много врагов, так что же мне делать? Да, – щипал он свою седую, жидкую бородку, – меня ведь считают ужасно скупым, но, поверь мне, Мордхе, если б я встретил подходящего жениха для моей Циреле, я бы ему передал все свои дела, а сам ушел бы от торговли… Понимаешь, с твоим отцом я не могу говорить! Он знает, что Шамай еще у твоего дедушки околачивался в кухне, за злотый ездил в город к резнику, кур резал, стоял навытяжку, как арендатор перед помещиком, а реб Авром – благочестивый еврей, богач, благотворитель. Он забывает, твой папа, об одном: Шамай в настоящее время – самый богатый человек в окрестностях и может во всякое время откупить лес у молодого Табецкого, и сам твой папа будет тогда служить у меня, у Шамая!
Мордхе оскорбился за отца; он не мог перенести веселых огоньков в глазах у Шамая.
– Но Шамай, – ударил себя Шафт в грудь, – зная, кто твой отец, не сделает этого. Шамай не ростовщик! Но я другое хочу сказать. Говорю я две недели тому назад с твоим отцом, – в сущности, я не умею с ним разговаривать, – говорю, что иду забрать лес и отдать его детям в приданое. «Какие дети?» – спрашивает он. Тут я уже не могу ему прямо в глаза смотреть и говорю тихо: «Я думаю, если реб Авром… как водится…» Думаешь, Мордхе, что я ошибаюсь? Знаю, что я не ровня твоему отцу! Ну, в самом деле, как может Шамай сравниться с реб Авромом? Но раз Бог осчастливил меня таким состоянием, я думаю, что это, вероятно, предначертано свыше, чтобы мы породнились. Что ты скажешь? Ты должен был видеть, как твой отец напал на меня! Я знаю отца, знаю его сумасбродства… Что ж, думаю я, поговорю с тобой, ты сдержаннее… Если это осуществится, Мордхе, я ухожу от дел, передаю тебе все мое состояние… Ну, что ты скажешь?
Мордхе своим ушам не верил. Он не представлял себе никогда, что Шамай, тот, который, по мнению людей, обладал миллионом злотых и у которого не было даже умывальника, а у дверей дома для умывания была вырыта ямка, куда стекала вода, – этот Шамай способен расстаться со всем своим богатством, лишь бы породниться с родовитыми людьми. Это так тронуло его, что он не решился признаться Шамаю, что не думает жениться, а собирается уехать. Мордхе увидел перед собою другого Шамая, которого не хотел огорчать. Он промямлил:
– Не печальтесь, Шамай, все устроится!
Оба с минуту шли молча. Снег скрипел. Шафт вдруг спохватился:
– Я совсем забыл! Что ты скажешь про этот список имен, который висит у ребе в синагоге?
– О чем вы говорите?
– Рассказывают, – Шафт втянул голову в плечи, так, что она еле была видна, – что сегодня ночью у Даниэля творилось такое, что сказать нельзя! И где? Под одной крышей с реб Менделе. Кто мог ожидать этого? Такая подлая женщина, такая…
– Висит список, вы говорите?..
– Утром висел. Потом реб Довидл велел сорвать. Поговаривают, что «двор» заставит Даниэля развестись с Душкой. Ах, как их избили! Нахмана так изувечили, что он лежит в постели! Да, послушай, как это случилось, что и твое имя там упоминается? – прикинулся Шамай дурачком. – Я сам читал.
– Мое имя?
– Да, я удивлялся. Ну, в самом деле, как это вышло? Ты… я думаю… прилично ли?.. Реб Иче очень огорчен этим! Ты же знаешь – он прямо не скажет…
Мордхе не отвечал, не слушал, что говорит Шамай, но почувствовал, что в Коцке ему стало тесно. Он не мог больше оставаться в этом городе. У реб Довидла не сегодня-завтра закроют перед ним двери… Он вспомнил о проповеднике, который велел ему отправиться бродить по белу свету, говоря, что Коцк для него не место. Вспомнил и обратился к Шамаю:
– Послушайте, Шамай, одолжите мне пять тысяч злотых. Но с условием, чтобы отец не знал об этом.
– Зачем тебе столько денег?
– Нужно.
– Когда ты станешь совершеннолетним? Через год?
– Через два.
– Хорошо, приходи ко мне в гостиницу.
– Когда?
– Когда тебе удобно. Я здесь пробуду, вероятно, недели две.
– Так мы увидимся… Какой день сегодня? Среда?
Мордхе заметил, как с противоположной улицы кто-то машет ему рукой. Он узнал Кагане и попрощался с Шамаем.
– Значит, мы на будущей неделе увидимся!
– Хорошо!
Мордхе подошел к Кагане и пожал ему руку:
– А я думал, вы в Варшаве!
– Сегодня вернулся, на рассвете, – не выпуская руку Мордхе, ответил Кагане. – Послушайте, едем со мной к францисканцам!
– В монастырь?
– Вас там не крестят, – усмехнулся Кагане. – Поезжайте с нами. Комаровский ждет меня у винной лавки Розена с запряженными санями.
– Ехать в чем есть? – Мордхе распахнул шубу и показал сюртук.
– Что ж тут такого? – Кагане пожал плечами и усмехнулся. – А если хотите – поменяемся. Возьмите мой пиджак и дайте мне ваш сюртук. Ну, идемте! – Он выпустил руку Мордхе и зашагал так быстро, что Мордхе едва за ним поспевал.








