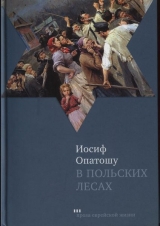
Текст книги "В польских лесах"
Автор книги: Иосиф Опатошу
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Глава III
ПОЛЬСКИЕ ЛЕСА
Леса в Польше редели. Старый помещик, длинноусый шляхтич со старинным гербом на стене дома, с двуствольным ружьем над кроватью, действительный хозяин деревни, показывался все реже. Но он охранял свой лес, как и свое старинное происхождение, как свои тяжелые, медью окованные сундуки, где с незапамятных лет хранились старинные серебряные ковши с польскими монетами.
Лишь очень редко старый шляхтич срубал дуб. Один, не более. Никогда он не продавал дубовой рощи, знал, что в священных дубовых лесах его предки воздвигали гонтины[16]16
Гонтины – языческие молельни.
[Закрыть]. Там вокруг вечного огня кружились голубоглазые, полунагие жрицы, увеселяли старейших, принося жертвы белогрудой Каледе, стыдливой Маджане, которая каждую весну отдавалась земле, расцветала и приносила плоды. А мудрый Святовид стоял против огня и, положа руки на толстый живот, сиял от радости, глядя, как его дочери, прекрасные жрицы, в медных тазах курили фимиам, бросались, окутанные облаками благовония, на свежие белые овечьи шкуры и пели, колдовали.
Воины, вооруженные копьями, на которых были вырезаны фамильные гербы, воины в синих кафтанах с крестами, вышитыми золотом и серебром, не слышали звона тяжелых церковных колоколов и толпами тянулись в священные дубовые леса к гонтинам и прекрасным жрицам.
И не один помещик, правоверный католик, который построил костел, содержал несколько сот бенедиктинцев и всю жизнь боролся против антихриста, в то же самое время, чтобы никто не знал, строил в лесу, среди разросшихся дубов, избушку, окружал ее земляной оградой и содержал там колдунью и ее прекрасных дочерей.
Старик шляхтич со старинным гербом на стене дома, делами которого управлял еврей, умирал. Новое поколение, воспитывавшееся в Варшаве, Риме, Париже, деревни не знало. Молодой шляхтич кутил, платил сотни рублей за кружевную нижнюю юбку куртизанки, швырял тысячи за право поцеловать полуобнаженную ножку. Густые леса Польши стонали, редели, переходили в руки евреев. Бревна вязались в плоты. Все лето евреи сплавляли в Германию лесной материал по Висле, по Жолдовке. Насаждать новые леса помещики не хотели: долго ждать, пока вырастут. Поэтому выжигали пни, вспахивали землю, и от лесов не оставалось следа.
В понедельник, на второй день Пасхи, рыбаки пошли в лес.
Лес был старый, смешанный. Деревья, похожие друг на друга, как близнецы, росли густо, от тесноты пробивались наружу корни, напоминая сведенные судорогой руки.
Раскидистые дубы, обезобразив, истощив окружающие деревья, цвели маленькими белыми цветочками. Далеко в лесу, куда солнце почти никогда не заглядывало, комья снега лежали, как старые, потертые куски овечьей шерсти; ярко цветущие ореховые деревья, переплетаясь с осинами, отделяли помещичий лес от крестьянского.
Внизу, у горы, в крестьянском лесу, парная рыхлая земля отдавала запахом свежеиспеченного хлеба, моченой дубовой коры. Осины с кривыми, взъерошенными ветвями мокли в жирной, вязкой почве, и их темная кора от сырости становилась красноватой.
На горе, на самом верху, в помещичьем лесу, где почва была песчаная, сосны отряхивали с себя снег и возрождались.
Мордхе с отцом стояли, считая вырубленные деревья и помечая их красным мелом. Старый Авром, в высоких сапогах, в полушубке, мрачно переходил от одного дерева к другому, нюхал табак из серебряной табакерки, морщил длинный нос, обтирал табак с пальцев о длинную седую бороду, и слова вырывались у него, как клубы пара из котла:
– Не на кого положиться! Ты же стоял при порубке? Где была твоя голова? Вечно ходишь замечтавшись!.. Изучение Торы тебя, сынок, так же мало прельщает, как и твоего отца! Пусть, я не сетую. Но в твои годы я уже был купцом! Ездил с хозяевами осматривать и оценивать лес. А ты что? Ничего! – Авром пожал плечами. – Щепки они срубили, а не деревья!
– Если это щепки, – улыбнулся Мордхе, указав рукой на лежавшие стволы, – тогда ты, папа, в следующий раз сам прикажи крестьянам рубить деревья.
– А что? Разве это деревья? – воскликнул старик, схватив сына за рукав. – Сколько лет, например, этому, по-твоему? Как ты считаешь кольца? Я в твои годы на глаз узнавал, сколько лет дереву! – разозлился отец, оттолкнул сына и нагнулся так, что красный затылок готов был лопнуть. – Посмотри, как меряют: пять дюймов, десять… Сорок с чем-то лет деревцу. Не должны ли они к черту провалиться?
– Я здесь не видел деревьев постарше! – оправдывался Мордхе.
– Так не надо рубить! – крикнул старик. – Этот негодяй ведь уничтожает лес! Даже душа болит! Когда у его отца по ошибке вырубали столетнее дерево, то приходилось это скрывать. Слишком молодым считалось. А теперь его это не трогает! Разве он, бездельник, трудился над всем этим добром? Сидит, обжора, в Париже, подписывает векселя, тратит состояние на соломенных кукол. Ведь у них, как в Писании: будем есть и пить, будем веселиться, ибо завтра погибнем!
Мордхе знал, что отвечать не нужно. Старик покричит, потом отойдет, успокоится. Но у них это было в крови: никогда не могли смолчать. И хоть Мордхе решил ничего не говорить, он невольно открыл рот:
– Чего ты горячишься? Он желает рубить – пусть рубит! Это ведь не твой лес!
– Но я не желаю! – воскликнул отец и засопел.
– Этого мало! – улыбнулся Мордхе. – Ты здесь не хозяин, папа!
– Пока я жив, я – хозяин! – кричал Авром на сына. – У меня есть договор со стариком помещиком. Пока я жив, никто не смеет меня рассчитать! Понимаешь, грубиян?
– Какое это имеет отношение? – горячился Мордхе. – Кто говорит о расчете? Я только утверждаю, что леса созданы для того, чтобы их рубили!
Вдруг, как из-под земли, вырос лесник, пятидесятилетний крестьянин, в синем суконном кафтане с двумя рядами деревянных пуговиц.
– Подойди, Мартын, – откашлялся Авром и поманил его пальцем, – что ты скажешь: нужно вырубать леса?
Лесник улыбался, довольный тем, что к нему обратился «пан управляющий», и почесывал затылок.
– Вырубать?! Всегда рубили леса! Если лес слишком густой, то чем больше его вырубают, тем лучше он растет! С человеком то же самое: если его давит, жжет – нужно пустить кровь. Не правда ли? Ха-ха-ха, это полезно для здоровья! Но вырубать весь лес – это, панове, уже грех! Если вырубишь лес, оттуда разбегается нечистая сила и обрушивает на человека всякие несчастья.
– Правда? – с удивлением спросил Мордхе у лесника.
– Почему неправда? – улыбнулся Мартын. – Э, молодой пан… Куда, думает пан, девались медведи? А через пару лет и оленей не будет! Когда лес вырубают, звери разбегаются, вымирают, а ведь в каждом животном сидит нечистая сила…
Авром, примостившись на срубленном дереве, не слушал, о чем говорил лесник. Он жевал свою длинную бороду и думал, что нужно послать картофель в город. Раввин ему писал, что евреи умирают с голоду. Дожили! Приходится Аврому напоминать! Думают, вероятно, что он все для себя бережет, что он – Шамай Шафт. Дураки! Раввин ведь знает, что его покойный отец, реб Мордхе, в течение шести месяцев кормил половину еврейского населения в городе картошкой и хлебом, а теперь – теперь проклятое время! Уже третий год, как все выгорает в полях. Крестьяне питаются отрубями, вареными кореньями, пухнут с голоду, целые деревни вымирают. Кто помнит такой голод? Ужас, просто ужас!
– Слушай, – повернулся Авром к сыну, – завтра с утра пораньше сходи на ветряную мельницу и попроси Николая смолоть несколько мер ржи. Он знает какие. Ты не забудешь?
– Не забуду.
Авром вынул серебряную табакерку, несколько раз привычно стукнул по крышке, взял понюшку табаку и, не глядя на Мартына, протянул ему коробочку.
Мартын подошел на цыпочках, приготовив два пальца, с видом человека, который собирается перейти реку по узкой дощечке.
– Кусает, черт возьми! – зачихал лесник.
– А ты, Мартын, что скажешь? Будет в этом году урожай?
– Кто знает? Одному Богу известно, что ждет нас впереди! Люди уже достаточно наголодались. А еще говорят, что крестьяне везде бунтуют. В Пепловке отказались сажать картошку в усадьбе, грозили убить хозяина. Вот времена настали! Мужики поднимают руку на помещика!
Сам Мартын, по происхождению крепостной, не любил крестьян, считал себя шляхтичем и смотрел на них свысока.
– У старика Табецкого этого не было бы! – ворчал Авром себе под нос. – Он, бывало, порол крестьян, а те целовали нагайку! Но ведь молодой Прицек считает себя умнее всех. Он выстроил для этих хамов школу, ну, вот они и научились! И, поверьте мне, хоть старик порол их, крестьяне любили его больше, чем молодого!
– Что вы говорите, пане! – ответил лесник. – Крестьяне вообще толкуют, что царь переделит помещичью землю и будет конец панщине. Ха-ха-ха! Некому смеяться!
Из лесу доносилось пение. Оно отдавалось эхом, как звуки дальнего костельного органа. Все насторожились, прислушиваясь.
– Рыбаки поют, – перекрестился Мартын. – Это идет процессия. Моя старуха и Вацек тоже с ними.
Лесник снял шапку, поклонился и собрался уходить.
– Я совсем забыл! – спохватился Авром. – А пиво ты им послал?
– Послал. Пять бочонков.
– Хорошо!
– Мартын! – крикнул Мордхе вслед уходившему леснику. – Погоди, Мартын, я тоже иду!
– Он не пойдет! – Авром махнул рукой Мартыну, чтобы тот шел один, и повернулся к Мордхе: – Посмей только побежать за ним! Я сказал тебе, что с тех пор, как они поставили изображение святого Менасии с семью дочерьми на перекрестке у самой опушки леса, моя нога туда не ступит. И ты тоже не должен туда ходить. Слышишь?
Мордхе не отвечал, стоял хмурый, ломал носком сапога сухие ветки и прислушивался. Вокруг что-то шуршало и шелестело, будто складки шелка.
Отец с сыном шли медленно и молчали. Авром вдруг остановился и прижал Мордхе к груди.
– Знаешь, сын мой единственный, несмотря на все, я тебя люблю! Ты ведь в отца! Такая же грешная душа, ха-ха-ха!..
Мордхе не верил своим ушам и, широко раскрыв глаза, смотрел на Аврома. Он никогда не слышал от него таких речей.
– Что ты на меня так смотришь? – дружески улыбнулся старик и взял сына под руку. – Ты удивлен?.. Скажи, тебе нравится реб Иче, цадик?[17]17
Цадик – праведник.
[Закрыть] – спохватился он вдруг, как бы желая перевести разговор на другое. – Между нами говоря, мне он нравится больше, чем реб Менделе. Тот слишком окружает себя женщинами. Все до них падки, но реб Иче, понимаешь ли, чист, как ангел! Кто знает, может быть, его милостью… Мы ведь с ним под одной крышей живем… Нет, если на то будет Божья воля, я пошлю тебя на Рош а-Шона[18]18
Рош а-Шона – Новый год у евреев.
[Закрыть] с реб Иче в Коцк.
Авром отпустил Мордхе, потер руки, разгладил длинную бороду и, пройдя несколько шагов, обернулся.
– Я же вижу, что тебя тянет к рыбакам, правда? Так иди, иди! Но смотри, негодный, – пригрозил старик пальцем, усмехаясь, – не возись с девушками-рыбачками. Слышишь?
Мордхе сконфузился при последних словах отца, как красная девица. Он остановился, посмотрел вслед Аврому, который шел твердой поступью, с поднятой головой, оставляя за собой глубокие следы и размахивая руками. И его вдруг охватила великая нежность к отцу. Но тут он заметил, как старик постепенно опускает голову, как сгибаются его прямые плечи, и вообще он вдруг как-то отяжелел на глазах, постарел…
У Мордхе мелькнула мысль, что совсем скоро, видно, он останется один-одинешенек в необъятном лесу. Последний отпрыск рода…
Устыдившись этой мысли, он беззвучно обругал себя последними словами, по бледному лицу разлилась печаль. Он любил старика, любил даже за его раздражительность, даже за побои, которые нередко получал, и ему стало страшно, больно и страшно, что со смертью отца почти кончится их род.
Глава IV
ПРОЦЕССИЯ
Мордхе шел к избушкам рыбаков.
Старый, иссохший бук, единственный во всем лесу, с корой, морщинистой, как засохший гриб, стоял на холме. Дерево было снизу доверху изрезано: незнакомые имена, имена влюбленных, даты… Среди всего этого в глаза бросались квадратные еврейские буквы, вырезанные давным-давно дедушкой Мордхе и его прадедушкой. Может быть, старшие поколения согревала мысль о том, что внуки и правнуки когда-нибудь прочтут их надписи и задумаются, вспомнят о них. Мордхе остановился. Большие серые глаза раскрылись от волнения. Шестнадцатилетний юноша вдруг явственно ощутил позади себя шаги бесчисленных предков. Поколение за поколением. Он верил, как и лесорубы, что если бук – единственный, быть может, во всей Польше – исчезнет в одной стране, то появится в другой, и через несколько поколений снова вырастет в польской чаще.
В лесу раздавалось пение.
Мордхе приложил ухо к земле, стараясь понять, откуда несутся звуки, но голоса вдруг смешались, понеслись со всех сторон, и эхо звенело, словно пчелы в улье.
Он шел лесом, срывал по дороге прошлогодние волчьи ягоды, похожие на крупную чернику, жевал их и думал об отце, о процессии и вспоминал, что крестьяне мочат эти горькие волчьи ягоды в воде, смешивают с хмелем и тайно варят из них черное пиво…
Он вышел из леса и остановился, разглядывая старые сосны. Иглы образовывали на верхушках сосен что-то вроде корон – признак, что деревья больше расти не будут. Подняв вверх гордые головы, безмолвно, как осужденные на смерть, ждали они лесорубов.
Мордхе влез на сосну, чтобы посмотреть, где теперь рыбаки. Вокруг стоял старый, густой лес, тянувшийся на целые мили; но он видел, как из сгнивших дубов пробиваются молодые побеги, видел, как голые поля покрываются травой, а из маленьких рыбацких избушек, будто только что вылупившиеся из яйца, выползают на четвереньках после долгой тяжелой зимы крохотные создания и открывают удивленные ротики, и то жмурят ясные глазки, то смотрят на синеющие леса, на голубые небеса… Мордхе от всей души наслаждался прекрасным Божьим миром.
Рыбаки – стар и млад – шли с пением из крестьянского леса в помещичий, дальше – из помещичьего в казенный. Впереди шагали четыре девушки в красных полосатых платьях и несли на плечах соломенное чучело. Белые тюлевые вуали, которые прикрывали их лица, то и дело поднимались и развевались над чучелом, как знамена.
Рыбаки, загорелые, статные, шли со своими женами и громко пели. Вспугнутые птицы сорвались с ветвей, повисли неподвижно в воздухе, засвистали, сначала тихо, потом все громче и громче, зачирикали, залились трелью, и трель рассыпалась по лесу, по широким полям, смешалась с пением рыбаков и понесла радость в каждую заброшенную избушку.
За рыбаками следовала телега с калеками – большей частью детьми с раздувшимися от водянки головами, с худыми, точно палки, ногами, с тугими, как барабаны, животами, постоянно набиваемыми неочищенной картошкой.
Возле образа Богоматери, установленного много лет назад на перекрестке дорог для изгнания холеры, процессия остановилась. Под образом, где по преданию затаилась нечистая сила, положили чучело, и молодежь разожгла костер.
Матери поднесли детей к образу; маленькие калеки возложили к иконе венки из бумажных цветов и можжевельника. Потом больные дети протянули свои худые руки к лику Божьей Матери, смотрели в ее огромные, задумчивые глаза, любовались ее красивыми полусомкнутыми губами и, счастливые, сияющие, чувствовали, что им становится легче.
Несчастные женщины падали ниц вместе со своими больными детьми, плакали перед образом Богородицы, перед чучелом и со слезами на глазах долго молились…
– Ну, довольно, бабы, довольно! – крикнул наконец один из рыбаков. – Ступайте с детьми в телегу!
– Что ж, – почесал затылок другой рыбак. – Поможет это как мертвецу ладан!
– Поможет или нет, не знаю! Это дело Божье, – решительно вскочила с земли крестьянка средних лет и схватила больного ребенка на руки, – но смеяться ты не смеешь! У тебя тоже ноги высохнут и согнутся – да так, что тебя придется на носилках тащить домой.
– Не наказывай меня за такие речи, Пресвятая Дева! – вскочила вторая и перекрестилась перед иконой. – Но пусть за богохульство рот у него свернется набок!
– Довольно, бабы, хватит! – неслось со всех сторон. Какой-то рыбак с проседью в волосах засунул руки в карманы брюк, сплюнул и произнес словно про себя:
– Кто хочет часто Божьей Матери молиться, у того в душе нечистое творится.
Все засмеялись.
Матери посадили калек обратно на телегу. Пожилые рыбаки угощали друг друга водкой, потом уселись вокруг огня, ели крашеные яйца и жаловались, что молодежь с каждым годом все меньше почитает праздник.
Молодые ребята тем временем целыми ведрами лили воду за ворот девушкам; те с визгом, да еще хлопая в ладоши, носились по лесу, как стаи вспугнутых птиц, и прятались за деревьями. Парни гонялись за ними, ловили их и с шумом и смехом рассыпались попарно по лесу. Под старыми дубами прижимались они друг к другу, празднуя вместе со старым густым лесом праздник Маджаны, отдающейся матери-земле.
Среди празднующих был и Мордхе. Одной рукой он обнимал смуглую Рохеле, дочь арендатора, другой гладил черные спутанные волосы, которые почти совсем закрывали ей лицо.
Мордхе сидел, затаив дыхание, не веря, что это правда, не понимая, как все случилось. Когда он погнался вместе с польскими парнями за девушками, он все осматривался кругом, хотя и был уверен, что никто из своих его не видит. Забежав далеко в лес, он понял, что гонится за Рохеле, и растерялся. Он знал, что Рохеле считает его мальчишкой, вообще не замечает. Мордхе убеждал себя, что не любит ее. Да и кто она? Дочь бедного арендатора! Если он захочет, то попросит отца их выселить. И чем больше Рохеле его избегала, тем больше Мордхе верил тому, что не любит ее, но тем не менее вместо одного мешка отрубей для лошади посылал арендатору два.
Теперь в лесу, наедине с Рохеле, он чувствовал, как кровь приливает к вискам; он хотел было спрятаться за дерево, чтобы она его не заметила, но Рохеле внезапно остановилась и обернулась. Минуту они смотрели друг на друга. Рохеле смутилась, опустила свои большие, темные, как лес, глаза, но потом подняла их и посмотрела на Мордхе так нежно, так приветливо… А в лесу было сумрачно, кругом – ни души… Мордхе забылся и обнял ее. Они остались стоять под деревом. Мордхе от радости даже закрыл глаза, чувствуя, как кровь отливает от висков, ноги делаются крепкими, точно корни, сидящие в земле, мысль становится прозрачной, ясной и видит он далеко, на расстоянии многих миль. Он крепче обнял Рохеле, целовал ее глаза, шею. Девушка не сопротивлялась, прижавшись к его плечу в полузабытье и чуть приоткрыв губы. Мордхе чувствовал, как ее черные волосы прядями падают ему на лицо, а дыхание ласкает ухо.
Лес тихо шумел.
Гигантские сосны в свете заходящего солнца казались медными колоннами, подпирающими небо. Кустики волчьих ягод качались, склоняясь среди сосен, словно старые женщины на молитве. Обрывки облаков, рассеянные по небу, понемногу сгрудились над лесом, окутали верхушки деревьев и, прорезанные ими, открыли небо, казавшееся кровавым.
Рыбаки, как по команде, наклонились к корням деревьев, приложили ко рту руки и хором крикнули. Эхо глухо отдалось в лесу, будто звук несся из-под земли. Это старики звали молодежь.
Рохеле вырвалась из объятий Мордхе, полусмущенная, полусердитая, поправила волосы, потом начала рвать мох и осыпать им Мордхе, будто злилась на него.
– Уйди, нехороший человек!
Из лесу молодежь со всех сторон ответила на зов свистом; парни и девушки парами брели меж деревьев; казалось, боги лесов воскресли в глубоких пещерах и вместе с темным лесом отправились к Висле встречать Ванду.
Мордхе шел рядом с Рохеле; ему хотелось ее развлечь, рассмешить, но он не знал как. Он каждую минуту то брал ее руку, то отпускал, то снова брал… Все медленнее шел Мордхе за процессией, а скоро и вовсе отстал и, слыша, как затихает пение, сел вместе с Рохеле под деревом.
Над Вислой поднялись водяные птицы с длинными клювами, повисли, точно светлые призраки во тьме, и приветствовали ночь своими криками.
Мрак опустился над лесом; деревья казались теперь гуще и выше. Ночные птицы зашевелились, большими зелеными глазами глядели с верхушек деревьев, били тяжелыми крыльями. Лес волновал и пугал.
Вдали сверкала Висла – раскаленная гибкая полоска стали; она как будто придвигалась все ближе и ближе; казалось, лесной царь поменял местами деревья и воду, потом выпустил из своих широких рукавов летучих мышей и, все подготовив, ждал полуночи. Рыбаки густыми тенями копошились на берегу реки. Их задушевное пение до глубокой темноты уныло раздавалось над голыми полями, над лесом. Тихо ворчали, рассказывая быль, столетние дубы:
«Много веков назад, когда человечество было юным и понимало язык лесов, жил на свете принц Кракус, младший сын Ляха.
Жил Кракус со своей молодой женой Ланданой у истоков Вислы, в пещере, которая имела форму человеческого черепа. Про эту пещеру шел слух и в далеких странах.
Люди тогда были добры. Они знали, что властелин лесов, седой лесной царь, от старости обросший мхом, ласкает каждое деревце, целует каждую ветку, любит лес, как мать своих детей. Они знали, что седому лесному старцу, который обитает в каждой ветке, в каждом листе, было бы тесно и душно в стенах дома, и они не воздвигали ему обители. Каждую ночь он созывал ветры, зверей и птиц и, доверив их лесу, носился от одной пещеры к другой, где жили люди, целовал голубоглазых дочерей.
Кракус видел, как ржавеет на стене его шпага, и однажды его охватила печаль. Он созвал полчища обросших волосами людей, пошел с ними за добычей по снежным горам за Вислу и оставил в пещере прекрасную Ландану, ибо рубить мечом человеческие головы доставляло Кракусу большее наслаждение, чем целовать красавицу жену.
Тосковала Ландана по Кракусу, ждала его, долго ждала, выплакала ночами свои голубые глаза – Кракус не возвращался. Лесной царь не мог спокойно видеть ее горе, осушал ее слезы своими поцелуями.
Тогда и родилась Ванда, дитя воды, с зелеными глазами. Годы проходили, Кракус точно в воду канул, и Ванда, прекрасная, как солнечное сияние, росла с печалью в душе, тоскуя по отцу. Со снежных гор, из-за Вислы надвинулись полчища чужеземцев, нахлынули, словно саранча. Страх напал на волосатых людей, и они воззвали к Ванде:
– Царствуй над нами!
Собрала Ванда войско на берегу реки, ждала врага и воспевала Вислу. Коснется пальцами арфы – станет трава пробиваться, станут деревья цвести, лес и река начинают ей вторить…
Враг замедлил шествие своих легионов. Принц Ритингер вышел к Ванде, воткнул свой меч глубоко в землю и склонился перед девушкой:
– Прекрасная принцесса, в бурю мои ладьи еще никогда не причаливали к берегу, мои люди смеются над ветром, смеются над снежными горами… Смотри – за моим кровавым мечом тянутся стаи воронов… Прекрасная принцесса…
Ванда подняла глаза:
– Я не буду твоей, проклятый тевтон!
Принц вытащил свою шпагу из земли, трижды дал сигнал, но его войско, очарованное красотой Ванды, не трогалось с места. С горя и стыда принц бросился в Вислу.
– Теперь я стану твоей! – воскликнула Ванда.
Так она превратилась в повелительницу Вислы».








