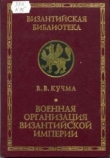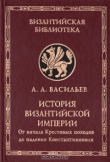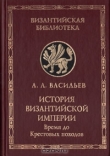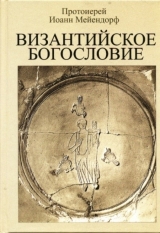
Текст книги "Византийское богословие"
Автор книги: Иоанн Мейендорф
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Византийская богословская, литургическая и каноническая традиция единодушно подчеркивает абсолютную уникальность христианского брака, опираясь в этом на 5–ю главу Послания к Ефесянам. Как Таинство (mysterion) брачный союз отражает союз между Христом и Церковью, между Яхве и Израилем и потому может быть только одним единственным – вечными узами, которые не разрушимы самой смертью. В своей сакраментальной природе брак преображает и превосходит телесный, плотский союз, и договорное соединение, подкрепляемое заключаемым по закону контрактом: любовь человеческая проецируется в вечное Царство Божие.
Лишь такое основополагающее понимание христианского брака может объяснить тот факт, что до X столетия ни один повторный брак, вступали ли в него овдовевшие или же разведенные, не благословлялся в Церкви. Имея в виду обычай «коронования» брачующейся пары – который представляет собой характерную черту византийского обряда бракосочетания, – канон, приписываемый Никифору Исповеднику (806—815), уточняет: «Те, кто вступают во второй брак, не венчаются и не допускаются к пречистым таинствам в течение двух лет; те же, кто вступают в третий брак, отлучаются на пять лет» [487]487
Канон 2, см. Syntagma Canonum IV, edd. G. Rhalles and M. Potles (Athens, 1854), p. 457. О брачной дисциплине в Византийской Церкви см., прежде всего: J. Zhishman, Das Eherecht der orientalischen Kirche (Vienna, 1864); K. Ritzer, Le manage dans les églises Chrétiennes du I au XI siècle (Paris: Cerf, 1970), p. 163–213; and J. Meyendorff, Marriage: An Orthodox Perspective (New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1971).
[Закрыть]. Этот текст, только повторяющий более ранние предписания канонов Василия [488]488
Особенно см. каноны 4 и 50 в упомянутой кн. Rhalles–Potles, op. cit., p. 102 and 203.
[Закрыть], предполагает, что второй и третий браки овдовевших или разведенных могут считаться лишь гражданскими договорами. На самом деле, если супружество получало благословение, дарованное на Евхаристии, где новобрачных причащали, то требуемое временное отлучение исключало участие Церкви или ее благословение в случаях, когда вступали в повторные браки.
Полнейшая неповторимость как норма христианского брака утверждалась также повышенной требовательностью византийского канонического права к духовенству: человек, который был женат дважды или же первым браком, но на вдове или разведенной, не признавался подходящим кандидатом на посвящение в диаконы или священники [489]489
Пято–Шестой собор, канон 3, там же, II, с. 312–314
[Закрыть]. Но миряне, после периода покаяния и отлучения от церковных таинств, вновь допускались к полному общению с Церковью, даже после второго или третьего брака; понимание и терпимость распростирались и на них, когда они или не могли согласиться на одиночество или же решали воспользоваться вторым шансом для создания истинно христианского супружества. Очевидно, что византийская традиция подходила к вопросу о повторном бракосочетании – после вдовства или развода – в рамках покаянной дисциплины. Брак как Таинство подразумевает получение благодати Божией; но чтобы эта благодать действовала, необходимо участие человека («синергия»). Это верно в отношении всех таинств, но особенно Крещения, плоды которого могут быть растрачены грехом и вновь обретены через покаяние. Что же касается брака, который предполагает личное понимание и психологическое подстраивание двух людей, то византийский обычай признавал возможность первоначальной ошибки, заодно соглашаясь с тем, что жизнь в одиночестве, в случаях смерти партнера или просто его отсутствия, есть большее зло, чем повторное вступление в брак тех, кто не в силах «вынести» одиночество.
Возможность развода во все эпохи оставалась неотъемлемой составляющей византийского гражданского законодательства. В рамках «симфонии», т. е. согласия между Церковью и государством, право на развод никогда не оспаривалось, – факт, который никак нельзя объяснить, ссылаясь лишь на цезарепапизм. В Византийской Церкви никогда не было недостатка в святых, всегда готовых клеймить имперский деспотизм, социальную несправедливость и прочее зло, противное Евангелию. Иоанн Златоуст (398—404), Феодор Студит (ум. в 820 г.) или патриарх Полиевкт (956—970) находили в себе силы бесстрашно выступать против властей; никто из них, тем не менее, не выступал против законодательства о разводе. Очевидно, они считали развод неминуемым фактором человеческой жизни в падшем мире, где человек волен и принять благодать, и отвергнуть ее; где грех неизбежен, но и покаяние всегда доступно; где церковным будет не компромисс, предающий нормы Евангелия, но сочувствие и милосердие к человеческой слабости.
Этот подход Византийской Церкви выдерживался вполне строго до тех пор, пока оставались ясно различимыми первейшие функции Церкви (Церковь должна добиваться присутствия в человеческой жизни Царства Божия) и функции государства (ему надлежит управлять падшим человечеством, выбирая меньшее зло и поддерживая порядок законными средствами). В вопросе о браке это существенное различие исчезло (по меньшей мере, на практике), когда император Лев VI (ум. в 912 г.) издал свою Новеллу 89, формально наделившую Церковь законной обязанностью удостоверять действительность всех бракосочетаний [490]490
Les novelles de Leon VI, le Sage, ed. A. Dain (Paris: Belles Lettres, 1944), P. 294–297.
[Закрыть]. Гражданский брак как законный вариант жизнеустройства свободных граждан исчез; а вскоре, что вполне логично, Алексий I Комнин вменил в обязанность рабам оформление бракосочетания в Церкви. Этими постановлениями имперская власть теоретически предоставляла Церкви формальный контроль над супружеским поведением всех граждан. На деле, однако, на Церковь перекладывалась прямая ответственность за те неминуемые компромиссы, которые прежде разрешались возможностью гражданских браков и разводов, причем заодно исчезала возможность применения покаянных обычаев. Если уж Церковь получила законную власть над институтом брака, то ей же приходилось теперь справляться с юридическими затруднениями, сопряженными с ее новой ответственностью. Разумеется, она стала «даровать разводы» (прежде они разрешались только светскими судами) и дозволять «перевенчивания» в храмах; ведь без такого «перезаключения брака» второй или третий брак, по новому закону, оставался бы юридически ничтожным. Правда, Церковь добилась признания полной недействительности четвертого брака (на Соборе в 920 г.) [491]491
Rhalles–Potles, op. cit.. V, p. 4–10.
[Закрыть], но ей пришлось пойти на уступки по многим иным вопросам.
Однако Церкви удалось сохранить в основном принципе существенное различение между первым и последующими вступлениями в брак: для повторных бракосочетаний была разработана специальная служба – венчание отделялось от Евхаристии и всему чину придан был покаянный характер. Благодаря этому становилось понятным, что второй и третий браки не являются нормой и как таковые имеют сакраментальный недостаток. Самое большое различие между византийским богословием брака и ее средневековым латинским соответствием состоит в том, что византийцы сильно подчеркивали единственность христианского брака и вечность супружеских уз; византийцам и в голову не приходило, что бракосочетание – это юридический договор, автоматически теряющий силу после смерти одной из договаривающихся сторон. В Византии терпимо относились к вступлению в брак вдовца или вдовы, как и к браку после развода. Но эта «терпимость» не равнозначна одобрению. Она подразумевала покаяние, и повторный брак дозволялся лишь тем мужчинам и женщинам, чьи предыдущие супружества могли рассматриваться в качестве практически несуществующих (различные своды имперских законов перечисляли возможные варианты такого положения). Тем временем латинский Запад не терпел юридического развода, но признавал, причем без ограничения, право на любое число повторных вступлений в брак для вдовца или вдовы. Руководствуясь в своей практике правовым понятием контракта, нерасторжимого до тех пор, пока живы обе стороны, заключившие договор, Запад, кажется, не принимал во внимание то соображение, что брак, если он является Таинством церковным, проецируется, в качестве вечных уз, в Царство Божие; и, подобно всем иным таинствам, брак предполагает свободный ответ и возможность того, что человек отвергнет брак или ошибется в нем и что, после такого грешного отказа от брака или ошибки, все же всегда остается возможность покаяться и начать с начала. Таковы были богословские основания терпимости раннехристианской Церкви в отношении разводов, таковыми они оставались и в Византии.
5. Исцеление и смертьЧасто объединявшееся в единое Таинство с покаянием, проведение «соборования» так и не развилось, если не считать ряда областей на христианском Востоке, где после XVI в. это произошло – в Таинство «последнего помазания», совершаемого только над умирающими. В Византии таинство Соборования представляло собой обряд священнослужителей (обычно семи, согласно стиха Иак. 5:14, который считался библейским основанием этого Таинства). Оно состояло из чтения отрывков из Писания и вознесения молитв об исцелении, тексты которых решительно не допускали магических толкований обряда. Исцеление испрашивалось лишь в рамках покаяния и духовного спасения и вовсе не считалось целью самой по себе. Каков бы ни оказался исход недуга, само помазание знаменовало Божественное прощение и освобождение из порочного круга греха, страдания и смерти, в котором пленено падшее человечество. Сочувствуя страданиям человека, Церковь устами своих пресвитеров испрашивает облегчения, прощения и вечной свободы для своего страждущего члена. Таков смысл святого помазания тела.
Погребальная служба, также считавшаяся некоторыми византийскими авторами «таинством», не имела какого–то иного значения. Равно и в смерти христианин остается членом Живого и воскресшего Тела Христова, в Которое он был включен через Крещение и Евхаристию. На заупокойную службу Церковь собирается, чтобы засвидетельствовать эту истину, зримую лишь очами веры, но уже переживаемую каждым христианином, обладающим благоговейным страхом перед грядущим Царством.
16. ЕВХАРИСТИЯ
Термальный консерватизм был одной из главных особенностей византийской цивилизации, распространяясь как на светские, так и на сакральные стороны жизни, и особенно проявляясь в формах Литургии. Но если открыто декларировалось намерение оставить все так, как есть, если структура Евхаристии не менялась с первых столетий христианства и даже сегодня сохраняет вид, сложившийся в IX столетии, то истолкование слов и жестов претерпевало существенные перемены и развитие. Итак, византийский ритуальный консерватизм явился орудием сохранения изначального христианского lex orandi, интерпретированного в контексте платонического или морализированного символизма, что, впрочем, иногда случалось. В то же время этот консерватизм позволял, когда это бывало уместно – особенно примечательны примеры Николая Кавасилы и исихастских богословов XIV в., – строго подтвердить исконный сакраментальный реализм в литургическом богословии.
1. Символы, образы, реальностьНачальное христианство и патристическое Предание понимали Евхаристию как Таинство подлинного и реального общения со Христом. Говоря о Евхаристии, Златоуст настаивал, что «Христос и ныне присутствует, и ныне действует» [492]492
Horn, in II Tim. 2, 4; PG 62:612.
[Закрыть]; а Григорий Нисский, несмотря на склонность его мысли к платонизму, по–другому излагает то же воззрение на Евхаристию – как на Таинство действительного «участия» в прославленном Теле Христовом как семени бессмертия.
Раздаянием милости Своей Он сеет Себя во всяком верующем через плоть, пресуществленные хлеб и вино, соединяя Себя с телами верующих. И этим соединением с Вечным человек также может участвовать в бессмертии. Он дарует это в силу благословения, которым Он переначаливает [metastoicheiosis] природное качество сих зримых вещей в ту нетленную вещь [493]493
Catechetical oration, 37, ed. Strawley, p. 152.
[Закрыть].
Участие в этих источниках бессмертия и единства – постоянная забота всякого христианина:
Хорошо и благотворно причащаться каждый день [пишет Василий] и вкушать Святые Тело и Кровь Христовы. Ибо точно Он говорит: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» (Ин. 6:55). А кто усомнится в том, что часто участвовать в жизни есть то же самое, что иметь полную жизнь? Я же причащаюсь четырежды в неделю, по дням Господним, средам, пятницам и субботам, да и в другие дни, когда поминается какой–то святой [494]494
Letter 93, ed. Deferrari, II, 145.
[Закрыть] .
Такое реалистическое и экзистенциальное богословие Евхаристии вступило, как мы видели [495]495
См. Глава 1. Хороший исторический обзор византийских евхаристических теологии и обычаев (с библиографией, не включающей в себя новейшие позиции) см. в кн. H. J. Schulz, Die bysantinische Liturgie – von Werden ihrer Symbolgestalt (Freiburg: Lambertus–Verlag, 1964).
[Закрыть], в противоречие с пастырскими нуждами в послеконстантиновской Церкви: собрания большого числа верующих в больших храмах привели к уменьшению участия мирян в жизни общины.
Можно попытаться доказать, что пастырские соображения, стоявшие за подобным развитием, могут быть оправданы, по крайней мере, частично; эсхатологический смысл Евхаристии подразумевал отстранение от «мира», «уход» из него «замкнутой» общины посвященных участников. А теперь, когда в империи Константина и Юстиниана стало трудно различать между Церковью и миром, потому что общество выглядело единым, Евхаристию надлежало охранять от «толпы», которая перестала быть «народом Божиим». Наиболее спорно, однако, богословское обоснование этой новой ситуации, проповедуемое некоторыми толкователями Литургии, которые начали объяснять Евхаристию как систему символов, подлежащих «созерцанию»; сакраментальное участие, таким образом, исподволь заменялось умозрением. Нет нужды говорить, что подобный новый подход прекрасно вписывался в оригенист–ское и евагрианское понимание религии как восхождения разума к Богу, а литургическое деяние – лишь символ такого восхождения.
Самым действенным орудием распространения такого символического понимания Евхаристии стали сочинения Псевдо–Дионисия. Низводя евхаристический «синаксис» [496]496
«Соединение всех» (греч.).
[Закрыть] до уровня моралистического воззвания, Ареопагит призывает своих читателей к «более высокому» созерцанию:
Да оставим несовершенные знаки эти, которые, как я говорил, превосходно изображены в преддвериях святилищ; довольно их будет, чтобы напитаться их созерцанием. Если уж мы столь озабочены, да обратимся вспять, в рассмотрение святого общения, от следствий к их причинам, и, благодаря свету, который дарует нам Иисус, мы станем способны гармонично созерцать умопостижимые реалии, в которых ясно отражена освященная благость образцов [497]497
Eccl. Hier., III, 3,1–2; PG 3:428лс.
[Закрыть] .
Итак, Евхаристия есть только зримое «следствие» невидимого «образца»; а совершающий Таинство, «предлагая Иисуса Христа очам нашим, показует нам ощутимым образом и как бы в некотором образе, нашу умопостижимую жизнь» [498]498
Там же, III, 13; 444с; см. наши комментарии на эти тексты в кн. Chnst, с–79–60.
[Закрыть]. Потому для Дионисия «возвышеннейший смысл евхаристических обрядов и общения в Таинстве самом по себе состоит в знаменовании союза наших умов с Богом и со Христом. … Дионисий никогда формально не представляет Евхаристическое общение как преложение Тела и Крови Христовых» [499]499
R. Roques, Lunwers dionysien. Structure hiérarchique du monde selon le pseudo–Denys (Paris: Aubier, 1954), p. 267, 269.
[Закрыть].
Символизм Дионисия лишь поверхностно повлиял на Евхаристию как таковую, но снискал большую популярность среди толкователей Литургии. Так, великий Максим Исповедник, который более реалистично, чем Дионисий, истолковывал понятие «символа», тем не менее последовательно употребляет термины «символ» и «образ» по отношению к Евхаристической литургии вообще и к таким ее элементам, как хлеб и вино, в частности [500]500
См. в особенности Quaestiones et dubia 41; PG 90:820л. О литургическом богословии Максима см. R. Bornert, Les commentaires byzantins de la divine liturgie du Vile au XVe siècle, Archives de l'Orient chrétien, 9 (Paris: Institut français d'études byzantines, 1966), p. 82–124.
[Закрыть].
В VIII столетии этот символизм привел к серьезному богословскому спору об Евхаристии – единственному спору на эту тему, который когда–либо ведала Византия. Иконоборческий собор 754 г., осуждая употребление религиозных образов, провозгласил единственным допустимым «образом» Христа тот, что был учрежден Самим Христом – Евхаристические Тело и Кровь [501]501
Mansi, XIII, 26lD–264c.
[Закрыть]. Такое радикальное и ясное заявление было реальным вызовом Православию, и оно еще раз подтвердило неоднозначность Ареопагита и символизма в целом.
Поэтому защитники образов, особенно Феодор Студит и патриарх Никифор, решительно отвергли это притязание собора. Для Феодора Евхаристия есть не тип , но сама истина ; она есть тайна, которая восстанавливает полноту [божественного] Промысла» [502]502
Antirrh. I; PC 99:340AC.
[Закрыть]. Согласно Никифору, это сама «плоть Бога», «одна и та же вещь» с Телом и Кровью Христа [503]503
Antirrh. II; PG 100:336в–337А.
[Закрыть], Который пришел, чтобы спасти саму реальность плоти человека, и Который стал и оставался «плотью», даже и после Его прославления; поэтому, в Евхаристии, «что же тогда есть предмет таинства, если плоть не настоящая? Что же тогда мы видим, совершаемое Духом?» [504]504
Contra Eusebium, éd. J. B. Pitra.Spici/egium Solesmense, I (Paris, t832f) p. 440–442.
[Закрыть].
В результате иконоборческих раздоров византийский «Евхаристический реализм», четко обособившийся от терминологии Дионисия, получил новое направление и стал излагаться в русле христологической и сотериологической проблематики; в Евхаристии человек участвует в прославленной человечности Христовой, которая не есть «сущность Бога» [505]505
Никифор, там же, с. 446.
[Закрыть], но Человечность, по–прежнему единосущная человеку и доступная ему как пища и питье. В трактате «Против Евсевия и Епифания» патриарх Никифор особенно осуждает оригенистскую идею, что в Евхаристии человек созерцает или участвует в «сущности» Божией [506]506
Там же, с. 468–469.
[Закрыть]. Для него, как и для позднейших византийских богословов, Евхаристия есть Христово преображенное, жизнедарующее, но все же человеческое тело, воипостасированное в Логосе и пронизанное божественными «энергиями». Примечательно, что у византийских богословов невозможно найти случай употребления термина «сущность» (ousia) в евхаристическом контексте. А термины наподобие «пресуществления» (metousiōsis), полагали не подобающими для обозначения таинства Евхаристии, и обычно пользовались понятием metabole [507]507
Обмен (греч.).
[Закрыть], встречающимся в каноне Иоанна Златоуста, или такими динамичными терминами, как «переначаливание» (metastoicheiōsis) или «переназначение» (metarrhythmisis). Пресуществление (metousiōsis) появится лишь в сочинениях Latinophrones («латиноумствующих») XIII в., и этот термин есть не что иное, как прямой перевод с латыни. Первым православным автором, который использовал это слово, стал Геннадий Схоларий, но и в его случае непосредственное латинское влияние очевидно [508]508
De sacramentali corpore Christi, edd. L. Petit and M. Jugie, I (Paris: Bonne Presse, 1928), p. 126, 134.
[Закрыть]. Евхаристия не есть знамение, которое надлежит «созерцать» извне, ни «сущность», отличная от человечности, но это – Сам Иисус, Воскресший Господь, Который «был узнан… в преломлении хлеба» (Лк. 24:35); византийские богословы редко выходили в своих умозрительных рассуждениях за пределы подобного реалистического и сотериологического утверждения Евхаристического присутствия как присутствия прославленной человечности Христовой.
Отвержение понимания Евхаристии как «образа» или «символа» имеет, с другой стороны, очень большое значение для понимания всего «восприятия» Евхаристии византийцами; для них Евхаристия всегда оставалась тайной, которую надлежало принимать как пищу и питье и которую нельзя «видеть» телесными очами. Эти аспекты всегда оставались скрытыми, за исключением моментов произнесения молитвы освящения и Причастия; и, в противоположность западному средневековому благочестию, они никогда не «почитались» иначе, как в рамках собственно Евхаристической литургии. Евхаристия не могла ничего открыть мысленному взору; она есть только Хлеб Небесный. Зрению предлагалось иное средство откровения – иконы: отсюда открытие плана византийского иконостаса с фигурами Христа и святых, выставленных именно для того, чтобы их видели и почитали. «Христос не показывается в Святых Дарах, – пишет Леонид Успенский, – Он дан в них. Он показывается в иконах. Зримая сторона реальности Евхаристии – это образ, который никак нельзя заменить ни воображением, ни созерцанием Святых Даров» [509]509
«The Problem of the Iconostasis», St. Vladimir's Seminary Quarterly 8 (1964), No. 4, 215.
[Закрыть].
В результате иконоборческих противоречий византийское евхаристическое богословие сохранило и вновь подчеркнуло таинственность и сокровенность этого самого важного литургического действия Церкви. Но оно также подтвердило, что Евхаристия есть, в сущности, трапеза, в которой возможно участвовать только через вкушение и питие, потому что Бог принял полноту нашей человечности, со всеми ее физическими и психическими функциями, чтобы привести ее к воскресению.
Византийским богословам представилась возможность указать на все вышеизложенное в их споре с латинянами, когда византийцы нападали на использование на Западе неквасного хлеба в Евхаристии. Спор об азимах (опресноках), начавшийся в XI столетии, как правило, увязал в доводах чисто символического свойства (греки, к примеру, утверждали, что евхаристический хлеб должен заквашиваться, чтобы знаменовать собою одушевленную человечность Христову, тогда как использование латинянами пресного хлеба подразумевает аполлинаризм, то есть, отрицание того, что у Христа была человеческая душа), но словопрения возникали еще и из–за того, что византийцы понимали евхаристический хлеб по необходимости единосушным человечности, тогда как латинское средневековое благочестие подчеркивало «сверхсущественность» Евхаристии, ее неотмирность. Употребление обыкновенного хлеба, такого же, который ежедневно употребляется в пищу, было знамением истинного Воплощения. «Что такое насущный хлеб [из молитвы Господней], – вопрошает Никита Стифат, – как не то, что он единосущный с нами? А хлеб, единосущный нам, есть не что иное, как Тело Христа, Который стал единосущным с нами через плоть Своей человечности» [510]510
Dialexis et antidialogus, ed. A. Michel, Humbert und Kerullanos II (Pader–born: Quellen und Forschungen, 1930), p. 322–323.
[Закрыть].
Византийцы не считали, что в таинстве Евхаристии субстанция хлеба каким–то образом превращается в иную субстанцию – Тело Христово, – но видели в этом хлебе «тип», то есть «образец» или «отпечаток» человечности: нашей человечности, которая изменилась в преображенную человечность Христову [511]511
Эта сторона противостояния из–за квасных и неквасных хлебов блестяще показана в статье: J. H. Erickson, «Leavened and Unleavened: Some Theological Implications of the Schism of 1054,» St. Vladimir's Theological Quarterly 14 (1970), No. 3, p. 155–176.
[Закрыть]. В силу этой причины евхаристическое богословие сыграло столь видную роль в богословских спорах XIV в., основным вопросом которых было противостояние между концепцией самодостаточности человека и защищаемой исихастами концепции «обожения». Великий Николай Кавасила, хотя и сохраняет привязанность к старинному символизму Дионисия, преодолевает опасности номинализма; ясно, что для него, как и для Григория Паламы, Евхаристия есть Таинство, не только «представляющее» жизнь Христову и предлагающее ее для нашего «созерцания»: это время и место, где и когда обоженная человечность Христова становится нашей.
Он не просто облекся в тело. Он также принял душу, разум, волю и все человеческое, так, чтобы Он смог соединиться со всеми нами, проникнуть в нас и растворить нас в Себе, имея во всех отношениях Свое собственное, соединененным с тем, что наше. …Ибо поскольку невозможно для нас возвыситься и участвовать в том, что Его, Он снизошел к нам и участвует в том, что наше. И так точно Он сообразуется с тем, что он принял, что, даруя нам то, что Он получил от нас, Он дает нам Себя. Причащаясь Тела и Крови от Его человечности, мы получаем Бога Самого в души наши – Тело и Кровь Бога, и душу, ум, волю Бога – не менее, чем Его человечность [512]512
De vita in Christo, IV, 9; PG 150:592о–593д.
[Закрыть] .
Последним словом об Евхаристии, произнесенным византийским богословием, стало, таким образом, антропологическое и сотериологическое понимание этого Таинства. «Приступая к Евхаристии, византийцы начинали не с хлеба qua [513]513
Как (лат.).
[Закрыть] хлеба, но с хлеба qua человека» [514]514
Erickson, op. cit., p. 165.
[Закрыть]. Хлеб и вино предлагаются лишь потому, что Логос принял человечность, а они – хлеб и вино – изменились и обожились действием Духа, потому что человечность Христова преобразовалась в славу Крестом и Воскресением. Такова мысль Кавасилы в только что приведенной цитате и таков смысл канона Иоанна Златоуста: «Ниспошли Твоего Духа Святого на нас и на эти дары, и сделай этот хлеб драгоценным Телом Христа Твоего, а то, что в этой чаше, драгоценной Кровью Христа Твоего, так, чтобы те, кто причастятся, могли бы иметь очищение души, отпущение грехов, приобщение Твоего Святого Духа, полноту Царства Небесного…» [515]515
Славянский текст: «…низпосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие Дары сия… И сотвори убо Хлеб сей Честное Тело Христа Твоего… А еже в Чаши сей, Честную Кровь Христа Твоего… Якоже быти причащающимся, во трезвение души, во оставление грехов; в приобщение Святаго Твоего Духа, во исполнение Царствия Небеснаго…».
[Закрыть].
Таинство новой человечности par excellence, Евхаристия, для Кавасилы «единственное из таинств, совершенствующее иные таинства, поскольку они не могут без нее исполнить посвящения» [516]516
De vita in Christo, IV, 4, 585ß. See also Gregory Palamas, Confession of Faith;PG 151:765, trans. A. Papadakis, «Gregory Palamas at the Council of Blachernae, 1351,» Creek. Roman, and Byzantine Studies 10 (1969), 340.
[Закрыть]. Христиане причащаются «непрерывно», «ибо это есть совершенное Таинство для всех целей и нет ничего, чего не давало бы оно, главным образом тем, которые имеют в нем свое участие» [517]517
Там же, 11; 596с.
[Закрыть]. Евхаристия есть еще и «прехвальное бракосочетание, на котором пресвятой Жених сочетается с Церковью, как с невестой» [518]518
Там же, 10; 593.
[Закрыть]; Евхаристия есть истинное Таинство, которое преображает человеческую общину в «Церковь Божию», и которое, как мы увидим позднее, последний критерий и основание церковного устроения.