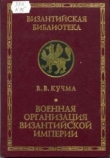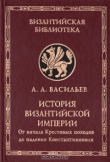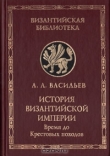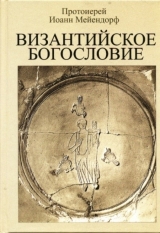
Текст книги "Византийское богословие"
Автор книги: Иоанн Мейендорф
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Единственным доктринальным определением о Марии, которое было формально обязательным для Византийской Церкви, является решение Собора в Эфесе, назвавшее Ее Theotokos, то есть «Матерью Божией». Это постановление явно имело христологический, а не мариологический характер, но тем не менее оно было созвучно мариологической теме «Новой Евы», которая появилась в христианской богословской литературе во II столетии и свидетельствовала, в свете восточных воззрений, на наследие Адамово, в пользу концепции человеческой свободы, более оптимистичной, чем мнения на этот счет, преобладавшие на Западе.
Но именно богословие Кирилла Александрийского, утверждающее личностное, ипостасное тождество Иисуса с предсуществующим Логосом, было одобрено в Эфесе и послужило христологическим основанием для пышного расцвета благочестия, сосредоточенного на личности Марии, начавшегося в V в. Бог стал нашим Спасителем, становясь Человеком; но это «очеловечивание» Бога произошло через Марию, Которая, стало быть, неотъемлема от Личности и трудов Сына Своего. Поскольку в Иисусе нет человеческой ипостаси и поскольку мать может быть матерью только «кого–то», а не чего–то, то Мария, разумеется, Мать воплощенного Логоса, «Матерь Бога». А поскольку обожение человека имеет место «во Христе», Она является также – в смысле, столь же реальном, что и участие человека «во Христе», – и Матерью всего Тела Церкви.
Эта близость Марии ко Христу вела к росту популярности на Востоке тех апокрифических преданий, которые сообщали о Ее телесном прославлении после смерти. Эти предания отражены в гимнографической поэзии Праздника Успения (Koimesis, 15 августа), однако так никогда и не стали предметом богословских рассуждений или доктринальных определений. Предание о телесном «взятии на небо» [385]385
Православному Успению соответствует западное Assumptio, по–латыни «Принятие, «Взятие», Марию приняли в число небожителей.
[Закрыть] Марии трактовалось поэтами и проповедниками как эсхатологическое знамение, следование примеру Воскресения Христова, предчувствие грядущего общего Воскресения. Тексты очень ясно говорят о естественной смерти Девы, исключая даже намек на какую–то связь этого события с учением о Непорочном Зачатии, из которого могла бы последовать попытка приписать Деве бессмертие, что уж совершенно немыслимо в свете восточных представлений о первородном грехе как унаследованной смертности[386]386
Я не хочу тут этим сказать, что западное учение о Непорочном Зачатии с необходимостью подразумевает бессмертие Марии, хотя некоторые римокатолические богословы и подталкивают к такому выводу (см., напр., M. Jugie, l'Immaculée Conception dans l'Ecriture sainte et dan's la Tradition onentale, Bibliotheca Immaculatae Conceptionis, 3 [Rome, 1952]).
[Закрыть]. Поэтому безудержность в проявлении почитания Марии в византийской Литургии есть не что иное, как иллюстрация к доктрине об ипостасном единстве во Христе Божественности с человечеством. В каком–то смысле они являют собой законный и органичный способ перевода довольно абстрактных концепций христологии V—VI вв. на уровень простого верующего.
13. СВЯТОЙ ДУХ
Раннехристианское понимание творения и конечной участи человека неотделимо от пневматологии; но учение о Святом Духе в Новом Завете и у ранних отцов не так–то просто свести к системе понятий. Прения IV в. о Божественности Духа оставались в рамках сотериологического, экзистенциального контекста. Поскольку действие Духа дает жизнь «во Христе», Он не может быть творением; Он, разумеется, единосущен с Отцом и Сыном. Этот довод использовали и Афанасий в своих «Письмах к Серациону», и Василий – в знаменитом трактате «О Святом Духе». Эти два патристических сочинения оставались на протяжении всего византийского периода стандартными авторитетами в области пневматологии. Не считая спора о «Филиокве» – который шел скорее о природе Божией, чем о собственно Духе, – византийское Средневековье оставило очень мало концептуальных пневматологических разработок. Это не означает, однако, что переживание Святого Духа не было подчеркнуто с большей силой, чем на Западе, особенно в гимнологии, в сакраментальном богословии и в духовной литературе.
«Подобно тому, как если бы некто, ухватившись за один конец цепи, тянул ее, приближая тем самым и второй конец цепи к себе, так и тот, кто привлекает Духа, привлекает с Ним еще и Сына и Отца», – пишет Василий [387]387
Послание 38, 4; PG 32:332c; trans. R. J. Deferrari (London: Heinemann. 1961), p. 211.
[Закрыть]. Этот отрывок, столь показательный именно для мышления каппадокийской школы, подразумевает, первым делом, что все главные акты Бога – это деяния Троицы, а во–вторых, что особенная роль Духа состоит в установлении «первого контакта», за которым следует – экзистенциально, но не хронологически – откровение Сына и, через Него, Отца. Личное Бытие Духа остается таинственно сокровенным, пусть Он и деятелен на каждом великом этапе Божественной активности: сотворении, искуплении, окончательном исполнении. Его функцией является не явление Себя, но явление Сына, «через Которого все было создано» [388]388
См. Ин. 1:3 Все чрез Него начало быть (синодальный перевод)
[Закрыть] , и Который также лично известен в Его человечности как Иисус Христос. «Невозможно дать точное определение Ипостаси Святого Духа, и мы должны просто сопротивляться ошибкам, касающимся Его, каковые приходят с разных сторон» [389]389
Cat. 16, 11; PG 33:932C.
[Закрыть]. Личное существование Святого Духа поэтому остается тайной. Это – «кенотическое» [390]390
От греч. «кеносис» – умаление, уничижение.
[Закрыть] Бытие, исполнение которого состоит в явлении Царства Логоса в творении и в истории спасения.
Каппадокийские отцы считали, что тринитарное истолкование всех деяний Бога подразумевает участие Духа в Акте творения. Когда книга Бытия говорит, что «Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2), то патристическое Предание истолковывает это место в смысле изначального поддержания всего сущего Духом, что сделало возможным последующее явление сотворенного логичного порядка Словом Божиим. Здесь, разумеется, не имеется в виду хронологическая последовательность, деяние Духа есть составляющая непреходящего творческого действия Бога в мире. «Начало всего сущего одно, – пишет Василий, – то, что творит через Сына и совершенствует в Духе» [391]391
De Spir. S., 16, 38; PG 32:136B.
[Закрыть].
Василий отождествляет эту функцию «совершенствования» творения с «освящением», имея в виду, что не только человек, но и природа в целом совершенны сами по себе лишь в общении с Богом и при «наполнении» себя Духом. «Мирское» всегда несовершенно или, вернее, существует лишь в падшем и ущербном состоянии творения. Это, в частности, верно в отношении человека, природа которого состоит в том, что он есть существо «теоцентричное». Человек получил эту «теоцентричность», которую греческие отцы всегда понимали как реальное «участие» в жизни Божией, тогда, когда он был сотворен и когда Бог «вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт. 2:7). Это «дыхание» жизни Божией, отождествляемое со Святым Духом на основании текста Септуагинты, и есть то, что делает человека «образом Божиим». «Будучи взятым от земли, – пишет Кирилл Александрийский, – он не мог бы явиться образом Всевышнего, не получи он это [дыхание]» [392]392
In Joh. XI, 10; PG 74–541c.
[Закрыть]. Поэтому «совершенствующая» деятельность Духа не принадлежит к категории «чудес», но образует собой составляющую изначального и естественного замысла Божиего. Он принимает, вдохновляет и оживляет все то, что все еще в основах своих хорошо и прекрасно, несмотря на Грехопадение, и сохраняет в творении первые плоды эсхатологического преображения. В этом смысле Дух есть само содержание Царствия Божия. Григорий Нисский сообщает о древнем варианте молитвы Господней «Да приидет Царствие Твое» (Лк. 11:2) как «Да снизойдет Твой Святой Дух на нас и очистит нас» [393]393
CM. R.Leaney, «The Lucan text of the Lord's Prayer (in Gregory of Nyssa)*, Novum Testamentum 1 (1956), p. 103–111.
[Закрыть]. А византийское литургическое предание сохранило эту традицию, когда каждая отдельная служба в Церкви начинается с эсхатологического призывания Духа, к Которому обращаются как к «Царю Небесному» [394]394
«Царю Небесный, … прииди и вселися в ны, и очисти ны…».
[Закрыть].
Литургические службы Пятидесятницы, хотя и сосредоточены прежде всего на роли Духа в искуплении и спасении, еще и славят Духа как «Единого, Кто руководит всем сущим, Кто есть Господь всего и Кто хранит творение от распада» [395]395
Apodeipnon, canon, ode 5.
[Закрыть]. Византийские народные обычаи, связанные с Пятидесятницей, наводят на мысль о том, что излияние Духа есть некоторое предвкушение вселенского преображения: по обычаю на Троицу храмы украшаются зеленью и цветами, что отображает переживание нового творения. Та же идея господствует в обряде «Великого освящения воды», совершаемого с великой торжественностью на Праздник Богоявления (6 января). Вода, первичное и исконное тварное начало, освящается «силой, творящим действием [«энергией»] и нахождением Духа Святого» (Великая ектения Праздника). Поскольку после Грехопадения мирские начала подвластны «князю мира сего», действие Духа должно иметь очищающую функцию. «Ты освятил еси потоки Иорданские, – возглашает иерей, – в кои Ты ниспослал с небес Духа Твоего Святого, и сокрушил головы змей, таившихся там».
Полное значение этого экзорцистского ритуала становится очевидным, если вспомнить о том, что, в библейских категориях, вода есть источник жизни для всего космоса, над которым призван властвовать человек. Только вследствие падения природа становится подвластна сатане. Но Дух освобождает человека из–под власти природы. А природа, вместо того чтобы оставаться источником власти бесовской, подучает «благодать искупления, благословение Иорданское» и превращается «в ключ бессмертия, дар освящения, отпущения грехов, исцеления немощей, сокрушения бесов» [396]396
Великое освящение воды.
[Закрыть]. Вместо того, чтобы господствовать над человеком, природа становится его служанкой, поскольку он есть образ Божий. Первоначальные райские взаимоотношения между Богом, человеком и космосом провозглашаются вновь: нисхождение Духа предвещает последнее исполнение, когда Бог будет «все во всем».
Это предчувствие, между тем, не магия, проявляющаяся в материальной Вселенной. Вселенная в своем эмпирическом существовании не меняется. Изменение можно увидеть лишь очами веры – то есть потому, что человек принял в сердце свое Духа, который вопиет: «Авва, Отче!» (Гал. 4:6), и, следовательно, человек в силах испытать в тайне веры райскую реальность природы, служащей ему, и распознать в таком своем опыте не какую–то субъективную фантазию, но понять, что это опытное переживание открывает окончательную истину о природе и творении в целом. Силою Духа истинная и природная связь между Богом, человеком и творением восстановлена.
2. Дух и искупление человекаВ «икономии» спасения Сын и Дух неразлучимы. «Когда Слово вселилось в святую Деву Марию, – пишет Афанасий, – Дух, вместе со Словом, вошел в Нее; в Духе Слово образовало тело для Себя, творя его сообразно Себе, сообразно Своей воле привести все творение к Отцу через Себя» [397]397
Ad Strap. I, 31; PG 26:605A.
[Закрыть]. Главным доводом в пользу единосущности Духа с Сыном и Отцом у Афанасия, Кирилла Александрийского и каппадокийских отцов является единство творящего и искупительного действия Божиего, которое всегда троично: «Отец все творит Словом в Духе Святом» [398]398
Там же, 1, 28; PG 26:590А.
[Закрыть].
Но существенное отличие деяния Логоса от действия Духа состоит в том, что Логос, а не Дух, стал Человеком и поэтому может непосредственно созерцаться в облике конкретного Лица и Ипостаси Иисуса Христа, тогда как Личное Бытие Святого Духа остается сокрытым Божественной непознаваемостью. Дух в Его действии открывает не Себя, но Сына: когда Он вселяется в Марию, Слово зачинается; когда Он покоится на Сыне при крещении во Иордане, Он открывает благую волю Отца к Сыну. Такова библейская и богословская основа самого распространенного мнения, обнаруживаемого у отцов и в литургических текстах, о Духе как образе Сына [399]399
See for example Basil, De Spirit, S., 9, 23; PG 32:109в.
[Закрыть]. Невозможно видеть Духа, но в Нем можно видеть Сына, тогда как Сам Сын – образ Отца. В контексте динамического сотериологического мышления статичная эллинская концепция образа отражает живую связь между Божественными Лицами, в которую, через воплощение Сына, включен человеческий род.
Мы уже видели, что в греческой патристической и византийской мысли спасение понималось, по существу, в терминах участия в обоженной человечности Воплощенного Логоса, Нового Адама и общения с ней. Когда отцы называют Дух «образом Сына», они имеют в виду, что Он, Дух, есть главный Деятель, превращающий такое общение в реальность. Сын дарует нам «первые плоды Духа, – пишет Афанасий, – с тем, чтобы мы смогли преобразиться в сынов Божиих, согласно образу Сына Божия» [400]400
On the Incarnation and Against the Arians, 8; PG 26:99?A.
[Закрыть]. Таким образом, если через Дух Логос стал Человеком, то также и истинная жизнь достигается у всех людей через Дух. «Каковы цель и результат страданий, трудов и учений Христа? – спрашивает Николай Кавасила. – Если рассматривать этот вопрос в отношении нас, то выходит, что ничто иное, как нисхождение Духа Святого на Церковь» [401]401
A Commentary on the. Divine Liturgy, 37, 3, SC 4 bis, p. 229; trans. J. M. Hussey and P. A. McNulty (London: SPCK, I960), p. 90.
[Закрыть].
Святой Дух преобразует христианскую общину в «Тело Христово». В византийских гимнах на день Пятидесятницы Дух иногда именуется «славой Христовой», дарованной ученикам после Вознесения [402]402
Кафизма 1.
[Закрыть], а на каждой Евхаристии собрание верных по Причастии поет: «Мы видели истинный свет; мы получили Небесного Духа; мы обрели истинную веру; мы поклоняемся нераздельной Троице, ибо Та спасла нас» [403]403
Славянский текст: «Видехом Свет Истинный, прияхом Духа Небеснаго, обрето–хом веру истинную, Нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас спасла есть».
[Закрыть]. Пятидесятница, день рождения Церкви, есть момент, когда открывается истинное значение креста Христова и Воскресения, когда новый человеческий род возвращается к единству с Богом, когда новое знание даруется «рыбакам». Такова главная тема праздника Пятидесятницы в византийской традиции и, что любопытно, такое понимание совпадает с убежденностью многих новейших исследователей истоков христианства в том, что полное понимание наставлений Христовых – это, разумеется, «после–Воскресенский» опыт первоначальной Церкви: «Святой Дух, через явление Свое в языках огня прочно насаждает память о тех человекоспасительных словах, которые Христос сказал Апостолам, получив их от Отца» [404]404
Канон 2, песнь 8.
[Закрыть]. Но «знание» или «память», даруемые Духом, это не какая–то интеллектуальная функция; это «знание» подразумевает «просвещение» человеческой жизни в целом. Тема «света», которая при посредничестве Оригена и Григория Нисского, позволила связать библейские теофании с греческим мистицизмом неоплатоников, пронизывает и литургическую гимнографию Пятидесятницы. «Отец есть Свет, Слово есть Свет, и Святой Дух есть Свет, Который был послан Апостолам в виде огненных языков и Которым весь мир просвещается и поклоняется Святой Троице» (торжественный гимн, который называется exaposteilarion). Ибо несомненно Святой Дух есть «слава» Христова, которая преображает не только человеческое тело исторического Иисуса, как это было в случае Преображения, но прославляет еще и Его более пространное «Тело», то есть всех тех, кто веруют в Него. Сравнение византийских литургических текстов Пятидесятницы с текстами на Праздник Преображения (6 августа) – причем, всегда важно помнить, что для византийца Литургия есть высочайшее выражение его веры и христианского опыта, – показывает, что чудо Пятидесятницы воспринималось как расширенная форма Фаворской тайны. На горе Фавор Божественный Свет был явлен ограниченному кругу учеников, но в Пятидесятницу Христос, «посылая Духа, просиял светом мира» [405]405
Канон 1, песнь 1.
[Закрыть], потому что Дух просвещает учеников и посвятил их в таинства небесные» [406]406
Кафизма 1.
[Закрыть].
Примеры можно без особого труда умножать, чтобы показать, что византийская богословская традиция все время сознавала то, что в «икономии» творения и спасения Сын и Дух исполняют одно Божественное деяние – без того, однако, чтобы подчиняться друг другу в своем ипостасном или личном существовании. «Глава» нового, искупленного человечества, несомненно, Христос, но Дух есть не только орудие Христа; Он, по словам Иоанна Дамаскина (перефразированным в гимнах Пятидесятницы), «Дух Божий, правый и сильный; источник мудрости, жизни и святости; Который есть и зовется Богом, подобно Отцу и Сыну; несотворенный, полный, творящий, всем правящий, все совершающий, всемогущий, беспредельно властный Господь всего творения и Сам ничему не подвластный; боготворящий, не боготворимый наполняющий, не наполненный; разделяемый, не разделяющий; освящающий, не освященный» [407]407
De fide orth. l, 8; PG 94:821ßC.
[Закрыть].
Эта личная «независимость» Духа связана, как указывает Владимир Лосский, со всей Тайной искупления, – которая есть и объединение (или «рекапитуляция») человеческого рода в одной Божественночеловеческой Ипостаси Христа, Нового Адама, и таинственная личная встреча каждого человека с Богом. Объединение природы человеческой – это свободный Божественный дар, но личная встреча основывается на человеческой свободе: «Христос становится единственным образом, подобающим общей для человечества природе. Святой Дух дарует каждой сотворенной по образу Божию личности возможность исполнения подобия в общей природе. Один дарует Свою Ипостась природе, другой дарует Свою Божественность личностям» [408]408
Lossky, Mystical Theology, p. 166–167.
[Закрыть]. Тут есть одна Божественность и одно Божественное действие, или «энергия», ведущая человеческий род к одной эсхатологической цели – обожению; но личные, ипостасные функции Сына и Духа не тождественны друг другу. Божественная благодать и Божественная жизнь суть одной единственной действительности, но Бог есть Троица, а не безликая и безличностная сущность, в которую зовут влиться человечество. Таким образом, здесь, как мы видели выше, византийская христианская традиция требует различения в Боге Единой непостижимой Сущности, трех Ипостасей, а также благодати, или энергии, через которую Бог входит в общение со Своими созданиями.
Таинство Пятидесятницы не есть Воплощение Духа, но ниспослание даров. Дух не открывает Свое Лицо, подобно тому как это делает Сын в Иисусе, и не производит во–существления человеческой природы в целом; Он сообщает Свою несотворенную благодать каждой чеовеческой личности, каждому члену Тела Христова. Новая человечность осуществляется в Ипостаси воплощенного Сына, но она получает от Духа только дары. Различие между Лицом Духа и Его дарами привлечет большое внимание византийского богословия в связи с богословскими спорами XIII и XIV вв. Григорий Кипрский и Григорий Палама будут в разных контекстах настаивать на том, что на Пятидесятницу апостолы получили вечные дары или «энергии» Духа, но что тогда не было нового ипостасного союза между Духом и человечеством [409]409
Cp. J. Meyendorff, Gregory Palamas, p. 14–15, 231.
[Закрыть].
Итак, богословие Святого Духа подразумевает чрезвычайно важную противоположность, имеющую отношение к природе самой христианской веры. В день Пятидесятницы произошло рождение Церкви – общины, которая обзаведется устройством и будет внутри себя иметь преемственность, и авторитет, и ниспослание духовных даров, освобождающих человека от рабства, дарующих ему свободу и личный опыт Бога. Византийское христианство сохранит осознание неизбежности трений между этими двумя сторонами веры: веры как доктринальной преемственности и авторитета и веры как личного опыта святых. Оно будет, как правило, понимать, что преувеличенное внимание к тому или другому из этих аспектов разрушает сам смысл христианского Евангелия. Дух дает строй общине Церкви и подтверждает подлинность священнослужителей, обладающих властью хранить этот строй, вести и учить; но тот же Дух поддерживает в Церкви и пророческие функции и открывает всю истину каждому члену Тела Христова, если только тот способен и достоин «принять» ее. Жизнь Церкви, потому что она сотворена Духом, не может быть низведена ни к «учреждению», ни к «событию», ни к авторитету, ни к свободе. Это есть «новое» сообщество, созданное Духом во Христе, где истинная свобода восстанавливается в духовном общении Тела Христова.
3. Дух и ЦерковьНа византийском литургическом языке термин komonia («общение») является специфическим выражением, обозначающим присутствие Святого Духа в евхаристической общине, и одним из ключевых понятий в трактате Василия Великого о Святом Духе [410]410
Boris Bobrinskoy, «Liturgie et eccle'siologie trinitaire de St. Basile», Etudes patriotiques; le traite sur le Saint–Esprit de Saint Basile, Foi et Constitution, 1969, p. 89–90; also in Verbum Caro, 23, No. 88.
[Закрыть]. Это замечание Важно постольку, поскольку оно подчеркивает, что «общение» Отца, Сына и Духа, как Божественной Троицы, «общение Святого Духа», которое вводит человека в Божественную жизнь, и «соборность», которая тогда сотворяется между людьми во Христе, не только обозначаются одним и тем же словом, но, в конечном итоге, представляют один и тот же духовный опыт, одну и ту же духовную реальность. Церковь есть не просто общество человеческих существ, объединенных друг с другом общими верованиями и устремлениями; это – koinonia в Боге и с Богом. И не будь Сам Бог Троичной koinonia, Церковь не смогла бы стать объединением лиц, несводимых друг к другу в своих индивидуальностях. И тогда участие в Божественной жизни было бы ничем иным, как неоплатоническим или буддистским слиянием с безличным «Единым».
Так что весьма особенное «единство», которое осуществляется в евхаристической koinonia, есть, par excellence, Дар Духа.
Одной из постоянно повторяющихся тем в византийской гимнографии Пятидесятницы является параллель, проводимая между «смешением» Вавилонским и «единством» и «согласием», произведенных нисхождением Духа в языках огненных: «Когда Всевышний снизшел и смешал языки, Он разделил народы; но когда Он раздавал языки огненные, Он всех воззвал к единству. Поэтому, мы единогласно славим Всесвятого Духа» [411]411
Славянский текст: «Егда снисшед языки слия, разделяше языки Вышний; егда же огненный языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа».
[Закрыть] [412]412
Кондак Пятидесятницы.
[Закрыть]. Дух не подавляет разнообразие творения; и, в особенности, не исключает Он истину личного опыта Бога, доступного каждому человеку; Он преодолевает разделение, противоречия и порчу. Он Сам есть «симфония» творения, которая осуществится во всей полноте в эсхатологическом совершении. Назначение Церкви в том, чтобы сделать доступным это совершение через предчувствие и с помощью своей роли «освящения», совершаемого Духом.
«Творение освящено, – пишет Василий, – а Дух есть Освятитель. Таким же образом, ангелы, архангелы и все небесные силы получают свою святость от Духа. Но Сам Дух обладает святостью по природе. Он не получает ее по благодати, но по существу; отсюда Он имеет отличительное наименование «Святой». Таким образом, Он священ по природе, как Отец и Сын священны по природе» [413]413
Послание 159, 2; PG 32:62lAB; ed. Deferrari, p. 396.
[Закрыть]. Таинственную, но всеобъемлющую роль Духа в «икономии» спасения нельзя выразить полнее, чем в этой подсказывающей тавтологии: Святой Дух «освящает», то есть Он творит koinonia человека с Богом, и отсюда между самими людьми образуется «община святых». Это наилучшим образом выражено в «анафоре Святого Василия» при богослужении в Византийской Церкви десять раз в году. Анафора звучит в самый торжественный момент эпиклесиса:
Молим Тебя и взываем к Тебе, Святая Святых, да, ради благости Твоей, снизошел Твой Святой Дух на нас и на дары ныне приносимые во благословение, освящение и явление хлеба сего в драгоценное Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Чаши сей в драгоценную Кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, ради жизни мира пролитую, и [чтобы Дух мог] соединить всех нас друг с другом, чтобы мы стали причастниками одного Хлеба и Чаши в общении [koinonia] Святого Духа.
Каждый крещается «в смерть Христову» индивидуально и получает «печать дара Святого Духа» в таинстве Миропомазания, но в таинстве Евхаристии все верующие участвуют сообща. Существование этой koinonia есть равно и условие Евхаристического чуда – Дух вызывается не только на «дары», но и «на нас и на дары» – и следствие этого чуда: Дух освящает дары с тем, чтобы koinonia могла стать всегда обновляющейся реальностью.
Роль Духа в преобразовании общины грешников в «Церковь Бога» отлична, но не существенно, в сравнении с Его ролью в творении; ибо «Новый Адам», будучи «новым творением», является еще и предвкушением всеобщего преображения мира, что и составляет конечное устремление и цель творческой деятельности Божией. Византийская Литургия и богословие всегда осознавали, что «Святым Духом всякая вещь живая получает жизнь» [414]414
Воскресная утреня, антифон, глас 4.
[Закрыть], из чего следует, что, будучи новым храмом Духа, Церковь наделена Божественной миссией в мире. Она не получает Духа ради себя самой, но чтобы исполнить замысел Божий в человеческой истории и во всем космосе. Параллелизм, как и различие между «первым» и «новым» творением, удачно выражены у Николая Кавасилы: «[Бог] не творил вновь из той же материи, которую Он сотворил вначале. Тогда Он использовал прах земной; сегодня Он предоставляет собственное Свое тело. Он восстановил нам жизнь, не образуя вновь жизнетворное начало, которое Он прежде сохранил в природном устроении, но проливая Кровь Свою в сердца причащающихся, так, чтобы Он мог побудить Свою Жизнь расцвести в них. Прежде Он вдунул дыхание жизни; ныне Он дает нам Своего Духа» [415]415
On the Life in Christ. IV; PG 150:617ß.
[Закрыть].
«Новое творение» связано с миссией в мире; поэтому Церковь всегда – «апостольская», то есть не только зиждется на вере тех, кто видел Воскресшего Господа, но и приемлет на себя их обязанность «посланных» провозглашать и учреждать Царствие Божие. И эта миссия получает свою подлинность от Духа. Византийские гимны на день Пятидесятницы славят Христа, «Который соделал рыбаков мудрейшими, посылая на них Святого Духа, а через них уловив мир в Свои сети» [416]416
Тропарь96. – Славянский текст: «…иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную».
[Закрыть].
Дух наделил Церковь апостольской преемственностью в день Пятидесятницы и продолжает с тех пор даровать ей то же; и только Духом может Церковь сохранить связность и преемственность с первоначальным христианским Благовествованием. Различные формы пастырства, сотворенные Духом в христианской koinonia, a конкретнее, участие епископа, имеют целью сохранение и устроение такой преемственности, тем самым обеспечивая чистоту и действенность миссии Церкви в мире.