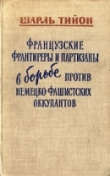Текст книги "Сердце солдата"
Автор книги: Илья Туричин
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Через тридцать минут Штумм явился к Вайнеру.
Похороны трех старост должны были быть пышными. Население оповестили о них заблаговременно. Был вызван военный оркестр из Барановичей. Заказаны нарядные гробы. Подобраны упряжки лошадей.
Сразу после похорон там же, на кладбище, Вайнер предполагал расстрелять на глазах у всех девять человек из числа «подозрительных», схваченных тотчас после взрыва. Вина «подозрительных» не была доказана, но это не имело существенного значения. И пышные похороны и расстрел должны были показать величие власти и послужить грозным предупреждением всем, кто попытается выказать ей неповиновение.
Но планы рушились. Население не явилось на похороны предателей. Люди заперлись в своих домах. Поселок будто вымер.
Оркестр из Барановичей своевременно выехал на грузовике, но в Ивацевичи не прибыл. Похороны задержали, но оркестра так и не дождались. Позже выяснилось, что грузовик напоролся на доски с гвоздями. Оба передних ската оказались проколотыми, заменить их было нечем. И перепуганные музыканты рысью отправились в обратный путь, гремя никелированными трубами.
Чтобы спасти положение, Козич сбегал за Петрусем, и тот пришел с баяном.
Штумм приказал выгнать жителей ближайших домов на улицу. Солдаты начали барабанить прикладами в двери. И вскоре возле госпиталя собралось человек тридцать – старушки, женщины, дети. Они испуганно сбились в кучу, окруженные автоматчиками.
Из ворот госпиталя солдаты вынесли три черных с серебряной каймой гроба. Их установили на обтянутые черным крепом телеги, и процессия тронулась. Впереди каждой упряжки шел солдат и нес на пестрой подушечке, прикрытой тем же крепом, железный крест. Этими крестами Вайнер от имени фюрера наградил покойников. За телегами следовал Петрусь с баяном. За ним – офицеры во главе со Штуммом. Потом – солдаты, за ними три десятка перепуганных жителей. Замыкал шествие отряд вооруженных полицейских. Вайнера не было.
Процессия двигалась по пустым улицам в полном молчании. Слышно было только шарканье ног, смягченное пылью. Откуда-то появившийся Козич с непокрытой головой подсеменил к Петрусю и шепнул:
– Играй.
– Что?
– Похоронный марш.
– С удовольствием, – буркнул Петрусь и растянул меха баяна.
Над процессией повисли звуки похоронного марша, который Петрусь тут же импровизировал. В неведомую мелодию то и дело вплетались старинные песни белорусов – тягучие и печальные. Будто музыкант собрал в своем баяне все слезы, всю печаль земли родной. И еще угрюмей стала тишина поселка. Но не по этим черным гробам плачет баян Петруся. И не трех старост жалеет старуха, что утирает концом серого платка влажные глаза.
Когда процессия остановилась возле кладбища и гробы понесли к старой облупившейся часовне, подъехало два грузовика. Один был с закрытым кузовом. На другом, открытом, сидели автоматчики. Из кабинок выскочили офицеры. Один из них что-то резко приказал солдатам. Те проворно соскочили на землю и кольцом окружили крытую машину. Офицер отомкнул висячий замок на двери кузова.
– Выходить! Шнель!
В узкой дверце появился человек. Босой, в изорванной рубахе. Он остановился и закрыл глаза. После тьмы машины солнце ослепило его.
– Шнеллер! – крикнул офицер и ударил его рукояткой револьвера по босым пальцам.
Человек упал на землю, ничего не видя от боли и яркого солнца. За ним, один за другим, спрыгнули еще восемь. Среди них женщина и парнишка лет тринадцати. Солдаты сбили их в кучу и повели следом за похоронной процессией на кладбище.
Возле часовни трясущийся священник в черной засаленной рясе, торопливо проглатывая слова, отслужил панихиду. Священника немцы тоже откуда-то привезли.
Потом войт, прижимая к груди перебинтованную руку и морщась от боли, сказал речь…
Солдаты ни слова не понимали по-белорусски, но стояли по стойке «смирно». Лица их были равнодушно тупы.
Три десятка жителей, пригнанных на кладбище, не слушали войта. Они смотрели на тех девятерых, что стояли в стороне, в кольце автоматчиков.
Когда войт умолк, Штумм сделал знак солдатам. Они подняли гробы и понесли к приготовленным могилам. Возле свежевырытых ям, опираясь на лопату, стоял одноглазый рыжебородый мужик – известный всему поселку кладбищенский сторож.
Вместо трех могил было вырыто четыре. Козич подскочил к сторожу и прошипел:
– Ты что четыре вырыл? Не знаешь, что три покойничка-то?
– Знаю.
– Зачем же четыре вырыл?
Сторож, не мигая, посмотрел на Козича единственным глазом.
– Про запас.
Козич плюнул и выругался.
– Не богохуль! Грех! – поучительно сказал сторож и усмехнулся.
Козичу стало не по себе от этой четвертой сырой могилы, будто ее вырыли для него. Он снова перекрестился дрожащей рукой и спрятался в группе полицейских.
Гробы подхватили веревками и стали по очереди опускать в могилы. Священник что-то бормотал.
А Петрусь все смотрел на тех девятерых в кольце автоматчиков. Он понял, зачем их сюда привезли. Сквозь молодую листву деревьев, за памятниками и крестами, на самом краю кладбища, он приметил нескольких солдат с лопатами в руках…
Рядом кто-то сказал:
– Играй!
Петрусь сразу и не понял, что это относится к нему. Потом, будто очнулся, вздрогнул и машинально положил пальцы на лады.
– Играй!
Петрусь заиграл. Лицо его окаменело, брови сдвинулись, глаза потемнели.
И над покосившимися крестами, над каменными плитами, над молодой зеленью деревьев, над первыми желтыми цветами в изумрудной траве, над стоящими по стойке «смирно» чужими ненавистными солдатами и снявшими фуражки офицерами полилась торжественная, мужественная мелодия похоронного марша.
Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу…
Петрусь играл и смотрел на тех девятерых незнакомых, но бесконечно близких людей…
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу…
Петрусь играл для девятерых приговоренных. И они поняли его. Некоторые из них выпрямились, стали плечом к плечу, гордо подняли головы, а парнишка сжал кулаки, и только женщина заплакала громко, навзрыд.
Петрусь возвратился с кладбища один. Вошел в избу. Поставил на лавку футляр с баяном. Ребята возились возле печи, двигая по рассохшимся половицам щепки – танки. Варвара чистила картошку, сидя на низеньком чурбане. Она подняла голову и воспаленными от слез и бессонницы глазами внимательно посмотрела на квартиранта. Петрусь отвернулся. Ни на кого не глядя, прошел в угол. Сел на лавку и уставился в противоположную стену, будто слепой.
– Ты что, Петрусь?
– Уйду… – Он скрипнул зубами. – Не могу больше. Нервов нету… – И вдруг крикнул на ребят, по-петушиному срывая голос: – Да бросьте вы щепками скрести!..
Ребята замерли от неожиданности. У Виташки задрожали губы. Петрусь обхватил голову руками и застонал.
– А ну-ка, идите во двор. Погуляйте, – сказала Варвара ребятишкам. – Видите, хворый дяденька…
Она выпроводила ребят в сенцы, плотно прикрыла дверь и села рядом с Петрусем.
– Прости, Варвара, – тихо сказал Петрусь. – Сердце горит на душегубов… Мочи нет… Девятерых расстреляли на кладбище… И не знакомые, а будто – в тебя пули. – Петрусь постучал кулаком по груди и протяжно вздохнул.
Варвара молчала, опустив голову, будто вслушиваясь в наступившую тишину. Хрустнула возле печки ссохшаяся половица. Где-то печально и робко свистнул сверчок.
– Уйду… – сказал Петрусь. – Не могу я в пивной играть. Не баян – автомат просят руки. – Он встал. – Ты мой инструмент схорони до поры. Больно приметная штука – ящик…
Варвара кивнула.
– А придет этот, скажи, за нотами подался. Скоро, мол, вернусь.
Варвара снова молча кивнула.
– Ну прощай, не поминай, как говорится, лихом.
Петрусь ушел, оставив у Варвары баян и свой вещевой мешок. Не прячась, направился он прямо к заставе. Предъявил часовым пропуск и размеренным шагом пошел по шоссе.
Козич вернулся домой час спустя после ухода Петруся. Вошел в избу, огляделся.
– Петрусь не приходил?
– Приходил, – нехотя буркнула Варвара.
– Где ж он?
– Ушел.
– Куда?
– Домой!
– Толком говори! – крикнул Козич.
– Не ори, – зло сказала Варвара, – лопнешь.
– У-у-у!.. – Козич замахнулся.
Варвара посмотрела прямо в его белесые сверлящие глазки и сжала рукоять ухвата.
– Но-но! – Козич отступил на шаг. – Куда он пошел?
– Сказано: домой.
Козич убитый сел на лавку. Сцепил пальцы.
– Зачем?
Варвара прогремела ухватом:
– Ноты какие-то забрать.
– Ноты?.. А гармонь?
– Вон она, гармонь, ослепли, что ли?!
– Не дерзи! – крикнул Козич и тотчас притих. «А что если Петрусь не вернется? Ведь господин Вайнер…» Козич почувствовал, как пополз по спине неприятный холодок.
– Он ничего не сказал?
Варвара уловила в голосе Козича дрожь и, чтобы досадить ему, притворилась, что не слышит вопроса.
– Петрусь ничего не сказал?
– Сказал.
– Что?
– Что за нотами идет.
– А вернется-то когда? Вернется?
Варвара видела, как встревожил Козича уход Петруся. Ей очень хотелось крикнуть в лицо предателю, что Петрусь ушел в лес, к партизанам, а когда вернется, то и Козичу и начальникам его несдобровать! Но она сдержалась. Она понимала, как важно, чтобы сейчас Козич был спокоен, чтобы вслед за Петрусем не помчалась погоня. Надо дать Петрусю уйти в лес. И она сказала:
– К вечеру обещался.
До вечера просидел Козич у окна. Но Петрусь не вернулся. Всю ночь ворочался Козич на жесткой постели, вздрагивая от малейшего шороха. Утром бледный, с ввалившимися глазами он казался больным.
– Что же делать? Докладывать Вайнеру или нет? Не доложишь – он все равно узнает об исчезновении Петруся, и тогда будут пытать, могут обвинить в соучастии, поведут на кладбище, как тех девятерых. Рубашка прилипла к телу, Козич сжался, стал похожим на загнанную в угол мышь.
– Варвара, не вернулся Петрусь?
Варвара усмехнулась.
– Сами видите.
Козич ждал до полудня. Потом, забыв шапку, выскочил за дверь и торопливо засеменил по улице. Скорей, скорей, может, еще не поздно… Жуткий, животный страх гнал его, одеревеневшие ноги, казалось, двигались сами, будто спрятан был в них какой-то механизм.
Вайнер по его виду догадался, что что-то произошло. Он сдвинул брови и кивнул на графин:
– Выпейте воды.
Козич не понял. Глотнул воздух, как выброшенная на берег рыба.
Вайнер нетерпеливо постучал ладошкой по столу.
– Ну!..
– Ушел, – хрипло выдохнул Козич.
– Кто?
– Гармонист… За нотами…
– Ну?..
– Ушел…
– Когда?
– Вчера… С кладбища…
– Зо-о!..
Вайнер посмотрел на Козича так, что тому захотелось провалиться сквозь пол, только бы не видеть этих холодных беспощадных глаз.
– Обещал вернуться… – невнятно забормотал Козич, – обещал… к вечеру…
– Слушайте меня внимательно, Козич, – размеренно, четко выговаривая каждый слог, сказал Вайнер. – Если ваш гармонист не будет возвращаться до завтрашнего вечера, я прикажу спустить вашу шкуру и набить из нее чучело соломой. Вы понимаете, что я не шучу? И не вздумайте тоже бежать. Я вас достану из-под земли.
Козич не помнил, как вышел на улицу, как добрел до дому. Его трясло, в глазах рябило, медленно кружились какие-то голубые мухи.
– Петрусь пришел? – еще с порога спросил он Варвару.
– Нет.
Козич почувствовал слабость. Ноги подкосились. Если бы не попалась лавка, он сел бы прямо на пол. Отдышавшись, с трудом дотащился до постели и лег.
Гулко стучали ходики на стене: «так-тик», «так-тик», «так-тик». Что им! Они бездушны и холодны. Козич не выдержал, вскочил с постели, бросился к ходикам и остановил маятник.
Но наступившая тишина не принесла облегчения. От нее стало жутко. Хата казалась просторным деревянным гробом. Козич зарылся головой в подушку и зарыдал.
Прошел еще день, а Петрусь не вернулся. Надо найти его. Иначе от Вайнера пощады не жди!.. А может, он дома, в Яблонке? Но туда страшно… Там – партизаны… А может, и нет их там, а Петрусь дома? Да если и схватят, можно сказать, что бежал от немцев. Хотели, мол, схватить за укрывательство Петруся… Все одно пропадать. От Вайнера пощады не жди!.. А если Петрусь дома – упрошу вернуться…
На рассвете, надев пальто, Козич вышел на улицу…
На заставе он увидел человека в штатском, который закуривал с часовыми. Знакомая спина. Козич подошел ближе.
– Хальт! – приказал часовой.
Человек в штатском обернулся и весело заговорил:
– Почтение, Тарас Иванович. От супруги поклон!
– Петрусь! – У Козича перехватило дыхание. – Петрусь! – Он ухватился за рукав Петруся, будто боясь, что гармонист опять исчезнет. – А я тебя искал…
Петрусь поднял брови:
– А чего меня искать?
Козич понял, что сказал на радостях лишнее, и, стараясь выправить положение, добавил:
– Думал, беда с тобой приключилась…
– Выручать шел?
– Вот-вот…
– Спасибо, Тарас Иванович. Век не забуду. Ауфвидерзеен, – попрощался Петрусь с солдатами. – Пошли!
Он взял Козича под руку, и они пошли в поселок.
– Я целый день ховался в лесу, – рассказывал Петрусь. – Неспокойно кругом. Пристрелить могут в расцвете лет. А у меня – талант артиста. Жалко его менять на дырочку в башке… Играю я на кладбище похоронное, а чего играю – сам не знаю. На ходу сочиняю. Из настоящих маршей я только «Жертвою пали» хорошо знаю. А маршик-то большевистский… Ну, думаю, один раз сыграл, не заметили, может, и другой раз пронесет. А уж в третий раз попадемся мы с вами, Тарас Иванович! Вижу, без хороших похоронных маршей мне не обойтись. Дай махну за нотами. Одна нога здесь – другая там. И отправился.
– Это верно ты рассуждаешь. Верно, Петрусь. А ноты принес?
Петрусь засмеялся:
– А как же… Вот они. – Он похлопал по свертку, который нес под мышкой. – Похоронные марши, Шопен, Бетховен. Европа! Культура! Это вам не «Жертвою пали»! И… сальце. Супруга вам прислала.
– Заходил?
– А как же! Специально крючок дал.
– Спасибо, Петрусь. Уважил старика. Спасибо.
Последние сомнения Козича рассеялись. Он шел рядом с Петрусем счастливый, будто удалось ему вернуться с того света. Господин Вайнер будет доволен!
Успокоился и Петрусь. Он понимал, что уход его не мог остаться незамеченным. И не знал, как встретят его по возвращении.
Двое суток назад Петрусь ушел из Ивацевичей с твердым намерением не возвращаться больше в это село, пока в нем хозяйничают немцы. Но случилось то, чего он никак не ожидал… Товарищ Мартын не только не разрешил ему покинуть Ивацевичи, но строго-настрого приказал вернуться назад и играть немцам до тех пор, пока это будет необходимо партизанскому командованию.
– Вам придется расстаться с госпиталем, Отто.
У Отто дрогнули губы.
Вайнер подавил усмешку.
– На небольшой срок. Вы мне нужны в другом месте. – Он ладонью похлопал по лежащей на столе карте. – Смотрите, Отто! Вы поедете по узкоколейке вот сюда, в Святую Волю. Там расквартирован отряд Губерга. Вы будете в распоряжении обер-лейтенанта. Присматривайтесь к солдатам, Отто. И к самому Губергу. И к его офицерам. Помните: вы – мои глаза и уши. Понимаете, Отто?
Отто кивнул.
– Рассеивайте страх перед партизанами. Партизаны – кучка необученных, плохо вооруженных мужиков. К тому же, по достоверенным данным, у них повальное пьянство. Мы возьмем их голыми руками.
Отто возвращался в госпиталь медленно, грыз сорванную у забора сухую травинку.
Там, в домике за колючей проволокой, у него дрогнули губы. Вайнер, видимо, подумал, что от страха. Дурак! Идти в прорыв не страшнее, чем служить здесь, в этом маленьком городке, где не только люди, – слепые окна домов смотрят на тебя с ненавистью.
Сколько ему говорили о России – и в школе, и в университете! Говорили, что Россия – огромная, богатая, но дикая страна. Что великая историческая миссия немцев – освободить мир от коммунистов и навести порядок не только в России, но и на всей земле.
И Отто кричал «ура» и с умилением смотрел на марширующие батальоны, и восторженно слушал фюрера.
И вот он сам – солдат. Он «выполняет свою историческую миссию». Он – в России. Она действительно огромна и богата. И солдатские сапоги топчут ее возделанные поля. И реки России солоны от слез и красны от крови.
И в этом его, Отто, «великая историческая миссия»? А ведь он изучал в университете международное право!
Его попросту обманули. Но в этом нельзя признаться даже самому себе. За такие мысли…
Вайнер заставляет его следить за другими, а кто-нибудь следит за ним, Отто, и кто-то, в свою очередь, за Вайнером. Всё – армия, нацистская партия, государство, – всё построено на недоверии, шпионаже, смерти.
На следующий день утром Отто пришел на станцию, как было приказано.
Было еще темно. Возле штабелей бревен и досок стояли два поезда. Маленькие паровозы-кукушки с прицепленными к ним такими же маленькими платформами казались игрушечными, и узкая, тускло поблескивающая в свете фонаря колея рельс тоже казалась игрушечной.
Возле первого поезда стояли военный комендант и несколько автоматчиков. Отто подошел к ним. Предъявил удостоверение.
– Садитесь на любую платформу, – кивнул комендант.
Отто козырнул и забрался на платформу, где лежали несколько мешков и какие-то ящики.
Пришли машинисты в сопровождении автоматчиков. Первый паровоз тоненько, по-детски свистнул, и поезда тронулись один за другим.
Отто знобило от утреннего ветерка. Автомат оттягивал плечо. Он снял его и положил между мешками, чтобы не свалился. Туда же сунул и каску. Потом снял шинель. Завернулся в нее и прилег, положил ладонь под щеку.
Мерно постукивали колеса, вздрагивала платформа. Отто пригрелся и уснул.
Снился ему дом. Ярко горели в печке сухие дрова. Приятно дышали жаром в лицо. Потом дрова начали трещать, будто в печку кто-то бросил патроны.
– Отто, помешай дрова в печке, – сказала мать.
Но Отто не хотелось двигаться. Пусть трещат.
Потом кто-то потряс его за плечо. Отто сел и открыл глаза.
Над лесом разлилась тонкая полоска зари. Возле платформы двигались какие-то люди. Рядом сидел на корточках незнакомый парень в старом сером пиджаке и порыжевших высоких сапогах. Из-под кепки выбивалась рыжая прядь. В руках у парня был пистолет.
– А ну, вставай, вставай, фриц!
Отто понял и поднялся. Шинель упала с плеч. Ноги ослабели. Все тело било ознобом. Он озирался беспомощно, ничего не понимая.
– Да ты чего, пьяный? – Парень опустил пистолет. – Где твое оружие? Автомат?
Отто моргнул воспаленными глазами.
– От дубина! – выдохнул парень и спросил, медленно подбирая немецкие слова: – Во ист дайнер… это… пиф-паф?
Отто понял.
– Дорт, – показал он на мешки.
Парень нагнулся и вдруг тронул его лоб.
– Да он болен! Зи зинд кранк?
Отто не ответил. Его трясло. Качались деревья. Всходившее солнце сорвалось с их верхушек, упало на Отто, ослепило, обожгло мозг…
Удивительное искусство доктора Краммера поставило Крашке на ноги. Правда, у него остался только один правый глаз и на лице, испещренном шрамами, – синие пятна. Перед выпиской из госпиталя Крашке предстал перед медицинской комиссией.
Краммер с удивлением посмотрел на плоды своей работы, довольно хмыкнул и сказал:
– Ну и образина!
Начальник госпиталя сердито повел плечами:
– Неуместно, доктор Краммер…
Краммер вскинул брови:
– Некоторым образом эту физиономию делал я. Как вас там?.. Крашке? Сейчас нет времени. А когда кончится война – если она вообще когда-нибудь кончится, – отыщите меня. Я с удовольствием поставлю на вашем лице все на свои места.
Начальник госпиталя поднялся из-за стола.
– Теперь вы здоровы, Крашке, и, мы полагаем, снова сможете служить нашему обожаемому фюреру! – Он выбросил руку вперед и воскликнул: – Хайль Гитлер!
Все, кроме Краммера, торопливо вскочили.
– Хайль!
– А домой? – спросил Крашке.
– Успеете и домой, – ласково сказал начальник госпиталя и похлопал Крашке по плечу. – Пока что останетесь при госпитале.
– В качестве наглядного пособия по лицевой хирургии? – усмехнулся Краммер.
– В качестве санитара, – возразил начальник.
– А как же домой? – снова спросил Крашке.
– Об этом мы поговорим особо, – увильнул начальник. – Идите, Крашке, вы свободны. Доктор Краммер, останьтесь.
Все ушли. Краммер сидел, ссутулясь, положив руки на колени. Начальник прошелся по кабинету.
– Это становится невыносимым, доктор Краммер.
– Что именно, господин начальник?
– Вы забываете, что он – нижний чин. Как понимать ваши слова: «Если она вообще кончится»?
– Кто она, господин начальник?
– Наша победоносная война. Вы что же, не верите фюреру?
Краммер пожал плечами:
– Я верю только в хирургию.
– Фюрер, подобно великому хирургу, взял в руки скальпель чтобы вскрыть нарыв коммунизма и изменить лицо мира.
Краммер вдруг весело рассмеялся:
– Это вы ловко подметили… Хирург… Меняет лицо… Вы видели лицо у этого Крашке?
Начальник госпиталя покраснел.
– Вы забываетесь, Краммер! Речь идет о нашем фюрере!
– О хирургии, господин начальник, о хирургии. – Краммер встал и, не спрашивая разрешения, направился к двери. На пороге обернулся и подмигнул. – Честное слово, начальник, если вы когда-нибудь попадете ко мне на операционный стол, я дополнительно произведу трепанацию черепа. Науки ради.
Он вышел, аккуратно прикрыв дверь. Начальник госпиталя задохнулся от гнева, резко повернулся, сбил со стола какую-то пробирку. Тоненько звякнув, она разлетелась на мелкие осколки.
Огорченного Крашке привели к Вайнеру. Вайнер был ласков. Усадил солдата против себя на стул.
– Как вы себя чувствуете, Крашке?
Крашке решил во что бы то ни стало добиться демобилизации или хотя бы отпуска. В конце концов, он заплатил за это глазом… Он ответил:
– Плохо…
– Врачи считают состояние вашего здоровья удовлетворительным.
– Им двумя глазами виднее, – зло сказал Крашке.
– Вы настаиваете на отправке домой?
– Да.
– Хорошо. Обсудим это спокойно. Взвесим все и решим. Скажите, кто вас ждет дома?
– Берта.
– Жена?
– Невеста.
Вайнер откинулся на спинку стула и захохотал. Крашке настороженно смотрел на него единственным глазом. Вайнер вдруг резко оборвал смех, черты красивого лица стали жесткими, он наклонился к Крашке и произнес, отчеканивая каждое слово:
– Вы – урод, Крашке. Ни одна девушка не выйдет за вас замуж! Ваша невеста повесится прежде, чем пойти с вами к венцу. Вы это понимаете?
Крашке съежился, будто от удара. Безобразное лицо его покраснело, на нем еще отчетливее проступили белые полосы шрамов. Он заплакал.
– Я рад, что вы это поняли, Крашке, – радуясь произведенному впечатлению, сказал Вайнер. – Но не надо отчаиваться. Если ваше лицо прикрыть несколькими тысячами марок, оно не будет таким безобразным. – Вайнер снова захохотал, довольный своей остротой. – Вы говорили, что узнаете того негодяя, который стрелял в вас?
Крашке кивнул.
– Так вот, я дам вам деньги и сигареты. Будете торговать на базаре. В госпиталь можете приходить только ночевать. Если появится тот парень – дайте мне знать и не упускайте его из виду. За это вы получите двадцать тысяч марок, и ваша невеста непременно выйдет за вас замуж.
Вайнер с удовольствием заметил, как высохли слезы Крашке и в единственном глазу вспыхнул алчный огонек.
На следующий день на базаре появился одноглазый немецкий солдат-инвалид с безобразным, покрытым синими пороховыми пятнами лицом. Он торговал сигаретами разных сортов. Первое время люди поглядывали на него с любопытством, но потом привыкли и перестали замечать.