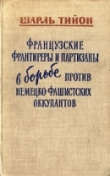Текст книги "Сердце солдата"
Автор книги: Илья Туричин
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
РАССКАЗЫ
ВЫСОТА 407

Давно это было. Еще гражданскую войну.
Вместе с другими частями Красной Армии дралась с белыми и вторая рота. Белые отходили. Рота наступала им на пятки, не давая закрепляться. И вдруг остановилась в лесу, перед высоткой, что на картах была обозначена цифрой «407». Белые, отступая, успели подготовить здесь свою оборону. Место было удобным. На взгорке стояла полуразвалившаяся ветряная мельница. Она была запорошена снегом, будто надела белый маскировочный халат. Сетчатые скелеты крыльев казались воздетыми к небу руками. Будто мельница сигналила издали красноармейцам: «Остановитесь, люди! Здесь подстерегает вас смерть».
И верно. Несколько раз ходила рота в атаку. Усталые, с потемневшими лицами, продрогшие и голодные, в ярости сжав зубы, выскакивали красноармейцы из низкорослого ельничка на заснеженное поле. Охрипшие голоса выводили нестройное «ура».
И тотчас начинали стрекотать невидимые пулеметы на высоте 407. И некуда было спрятаться от жалящего свинца. Люди падали, зарывались в снег, отступали к ельнику, с трудом утаскивая убитых и раненых, оставляя на снегу розовые пятна.
Уже в сумерках захлебнулась последняя, десятая атака.
– Люди устали, – глухо сказал комиссар, садясь на землю и отправляя в рот горсть снега.
Комроты только мотнул перебинтованной головой. В одной из атак пуля хлестнула его по лицу, и говорить было больно.
– Отдыхайте, товарищи. – Комиссар махнул рукой и закрыл глаза.
Через несколько минут кто-то тронул его за рукав:
– Товарищ комиссар… А этот… Маляр-то… Ушел… Интеллигент паршивый!..
Комиссар по сиплому голосу узнал командира первого взвода. Но глаз не открыл. Сил не было.
– Куда ушел?
– А кто его знает. Может, к белякам…
– Это ты брось, панику наводить… К белякам… Его, часом, в бою не подстрелили?
– Жив. Своими глазами видел… Интеллигент паршивый!.. – зло просипел комвзвода.
– Может, найдется, – неуверенно сказал комиссар. – Может, дрыхнет где в кустах.
И комиссар отчетливо представил себе этого странноватого человека, что пристал к роте в маленьком городке. На нем были надеты женское зимнее пальто, подпоясанное синим кучерским кушаком, и дорогая бобровая шапка с бархатным верхом. На ногах старинные сапоги с расширяющимися кверху голенищами – ботфорты. Одутловатые щеки, морщинистые мешочки под глазами, крупный бесформенный нос – все казалось вылепленным из бледного воска. Он подошел к солдатской походной кухне, остановился и долго стоял, вдыхая горьковатый запах дымка и подгорелой пшенной каши. В светлых глазах его застыло какое-то детское выражение, будто он удивлялся, что вот существуют еще на свете такие немыслимые вещи, как огонь, дымок, каша.
– Давно не ели? – вдруг спросил его комиссар.
– Да как вам сказать, – человек замялся, пожевал бескровными губами. – Последний раз, если не ошибаюсь, принимал пищу пару дней назад. – Он вздохнул и добавил, как бы оправдываясь: – Театр, знаете закрыт, а просить не умею.
– Вы что ж, актер?
– Художник. Реквизитор.
– Реквизируете чего? – не понял комиссар.
– Если можно так выразиться, совсем напротив. Создаю, так сказать, вещи из ничего. Могу слепить отличного жареного гуся – слюнки потекут… – Человек вздохнул прерывисто, будто наплакавшийся ребенок.
Комиссар приказал наложить ему полный котелок.
Человек присел на корточки возле кухни и быстро, но без жадной торопливости, очистил котелок, набил его подтаявшим снегом, тщательно протер и возвратил кашевару. Потом повернулся к комиссару и сказал строго:
– Спасибо, товарищ.
А когда рота двинулась дальше и вышла за город, по обочине, обходя насыпанные за ночь синеватые в утренней мгле сугробы, шагал этот странный человек. Впрочем, у человека было имя – Иван, Иванов сын, по прозвищу Солоухин, как он себя сам называл.
А потом начались тяжелые бои. Солоухин сменил ботфорты на австрийские ботинки из грубой свиной кожи, на толстой подошве. Они были великоваты, и он набивал в них сено. Раздобыл где-то винтовку, хотя никто не видел, как он из нее стреляет. А в минуты коротких передышек по рукам красноармейцев ходили нарисованные им смешные картинки, на которых были изображены то фабрикант, танцующий со скелетом, то царский генерал, подавившийся костью, и тому подобное. Когда только он успевал рисовать!
Однажды Солоухин, как всегда серьезно, сказал комиссару:
– Во мне погиб великий художник… Это очень печальный факт. Иван Солоухин могло бы звучать, как Илья Репин, если бы не борьба за существование. Ведь мне еще нет и сорока. Как вы думаете, при Советской власти я еще успею что-нибудь создать?
– При Советской власти мы создадим коммунизм для всех трудящихся, – убежденно ответил комиссар.
Солоухин хмыкнул неопределенно и отошел. Так и неясно было – понял ли он, что хотел сказать комиссар.
И вот Солоухин исчез… Комиссар с трудом раздвинул воспаленные веки и глянул на комвзвода.
– Ты вот что… Ты иди, отдыхай. Утром будем брать высотку.
– Как бы он чего… – просипел комвзвода. – Может, я сам в караул пойду?
– Что ж, иди… – и комиссар снова закрыл глаза.
…На рассвете потянуло с запада по-весеннему влажным ветром. Край неба чуть посветлел. Снег стал голубым. Красноармейцы молча поднялись. Сухо защелкали затворы. Кто-то закашлялся, глуша кашель рукавицей. Даже раненые перестали стонать, будто от тишины зависела победа. Темные лица бойцов были угрюмы.
– Вот что, – вполголоса сказал комиссар. – Идем брать высотку. Взять ее надо во что бы то ни стало. – Он вынул из потертого деревянного футляра маузер и пошел вперед. Рядом с ним зашагал комроты, упрямо нагнув забинтованную голову. Следом двинулась цепь У самого края леса комиссар вдруг крикнул срывающимся голосом:
– Вперед, товарищи! За революцию! Ура-а-а!
– А-а-а… – пронеслось по цепи.
– А-а-а… – подхватил ветер.
Красноармейцы, взяв винтовки наперевес, рванулись за комиссаром и командиром. Холодно блеснули штыки. И тотчас рассветную мглу рассекла дробь пулеметов. Несколько красноармейцев попа́дали в снег, но остальные продолжали бежать. Пулеметы бились будто в истерике; пули вздымали под ногами легкие снежные облачка. Смерть летела навстречу. А ветряная мельница, еще чуть видимая во мгле, вздымала к небу призрачные руки, будто заклиная остановиться.
И цепь остановилась. Люди полегли на землю. Атака захлебнулась. Тотчас возле мельницы возникла серая полоса, и сверху начали скатываться цепи. Белые шли в контратаку.
Красноармейцы, дав несколько выстрелов, дрогнули, повскакали на ноги, пригибаясь, бросились назад, к лесу.
Но те, что первыми добежали до темной кромки леса, останавливались как вкопанные. Свистели пули, – их не слышали. Подбежал комиссар. Отодвинул кого-то плечом и тоже замер на мгновение.
Среди низкого темно-зеленого подлеска над глыбой снега подымался человек. Голова его была чуть откинута, вперед выдавался клинышек бородки. Было в его облике что-то упорное, волевое, что-то волнующе знакомое. Комиссар сказал тихо:
– Ленин… – И повторил уже громче: – Ленин, товарищи, Ленин!
Еще мгновение смотрел комиссар на слепленную из снега такую знакомую приземистую фигуру, потом повернулся и пошел вперед, навстречу бегущим цепям белых.
– Ле-е-нин! – крикнул комиссар.
– Ле-е-нин! – подхватила цепь.
– Ле-е-нин! – запел ветер.
И казалось, пули врага, заслышав это имя, в ужасе никнут к земле.
И уже не было на свете силы, которая могла бы остановить вторую роту.
Противник дрогнул, побежал.
Высота 407 была взята.
А через некоторое время к ветряной мельнице красноармейцы бережно принесли чуть живого Ивана Солоухина. Вспухшие руки его были без кровинки, белыми-белыми.
Солоухин судорожно вздыхал, и по восковому лицу его катились слезы.
Комиссар склонился к нему; хотелось сказать что-то очень большое, значительное, какие-то необыкновенные слова. А они не находились, и он только сказал:
– Что, брат, болят руки-то?
– Да нет… Уже и не болят.
Кругом столпились красноармейцы.
– Ты прости. Нехорошо я о тебе подумал, – сипло сказал командир первого взвода.
– Ничего. Как говорится, бывает…
– А ты не беспокойся, Солоухин. Мы тебя вы́ходим, – сказал комиссар. – Еще назовут твое имя: Иван Солоухин.
– Не в том суть… – Солоухин слабо улыбнулся. – Главное, чтобы коммунизм. Для всех трудящихся.
СЕРДЦЕ СОЛДАТА
Наши войска освободили Польшу. Фронт стремительно передвигался на юго-запад. Чтобы догнать его, наш полк должен был пройти за сутки шестьдесят километров.
Шел теплый весенний дождь. Он и до этого лил трое суток, так что дороги размокли, под ногами хлюпала грязь. Встречные машины окатывали нас потоками мутной воды.
На придорожных деревьях кое-где уже полопались почки, будто серые ветки кто-то обрызгал веселой светло-зеленой краской. По обочинам дороги пробивалась сквозь прошлогодние листья упрямая молодая травка.
Очень трудно идти по размокшим, вязким дорогам. Просто выматывают они. Идешь как неумелый конькобежец по льду. Ноги разъезжаются. Того и гляди шлепнешься в жидкую грязь. От постоянного напряжения и устаешь сильнее.
Но больше всего доставалось в нашем взводе Егору Тимофеевичу Бринько. Это был уже немолодой, грузный человек. Самый старший среди нас и самый высокий. До войны работал колхозным бригадиром на Полтавщине. Большой и сильный Егор Тимофеевич тяжело переносил дальние марши. И, как бы оправдываясь, каждый раз после такого перехода говорил самому выносливому из нас, Паше Шевердяеву:
– В тебе сколько весу? Пятьдесят кило с небольшим, а во мне сто с гаком. Ну-ка, я на тебя еще пятьдесят навалю! Пойдешь? То-то! А я, бачишь, иду.
Тяжело было Егору Тимофеевичу на переходах, а особенно по таким хлюпким дорогам. Идет Егор Тимофеевич, сжав зубы, и, наверно, думает: «Эх, скорей бы привал! Передышка!..»
Километров через двадцать, уже днем, сделали мы большой привал на краю полусожженного польского села, чтобы пообедать.

Дождь кончился. По небу плыли хмурые тучи, но кое-где в разрывах между ними виднелось синее небо, а иногда и солнце выглядывало. Оно казалось неправдоподобно ярким среди серых красок дождливого весеннего дня.
Егор Тимофеевич не сел, а свалился под деревом на плащ-палатку. Он вытянул усталые ноги в больших кирзовых сапогах, заляпанных грязью, прислонился головой к мокрому стволу и закрыл глаза. По лицу его скользнула блаженная улыбка.
Через несколько минут он открыл глаза и огляделся.
Возле дороги, постелив на мокрую землю плащ-палатки, сидели и лежали солдаты. Рядом дымилась походная кухня.
Поодаль полем тащилась костлявая рыжая лошаденка. Она волокла за собой тускло поблескивающий плуг. На ручки плуга всем телом навалилась старуха в черном платке и сером длинном старушечьем платье. Рядом с лошадью, смешно подпрыгивая, семенила девочка в розовом ситцевом платьице в белый горошек.
Егор Тимофеевич смотрел на лошадь, на старуху, на девочку, и в глазах его появились теплые огоньки. Он с трудом поднялся и пошел к командиру взвода.
О чем он с ним говорил, – я не слышал. Только видел, как Егор Тимофеевич направился в поле.
Там он сказал что-то старухе. Та отстранилась от плуга, а Егор Тимофеевич поплевал на ладони, взялся за ручки плуга и крикнул на лошадь.
То ли лошади стало легче, то ли услышала она мужской голос, только пошла она быстрее, а позади нее зашагал Егор Тимофеевич, и у ног его рождалась глубокая влажная борозда вспаханной земли. От нее подымался легкий пар. Казалось, что земля, взрытая плугом, дышит…
Через час мы уходили дальше. Егор Тимофеевич шел, улыбаясь, и иногда с удовольствием поглядывал на свои широкие ладони. И шаг его был упругим, будто добрые сутки отдыхал солдат от похода.
А на краю поля стояли старуха и девочка и махали нам вслед платками.
Я спросил:
– Что улыбаешься, Егор Тимофеевич?
Он помолчал, а потом сказал тихо:
– Люблю землю пахать. Стосковался. Вот сердце отвел – и идти легче.
ЗА ПЕРЕДНИМ КРАЕМ
После короткой передышки наша часть выдвинулась на передний край и заняла оборону. Вырыли мы себе окопчики. Ночью наши саперы перед окопчиками незаметно для фашистов заложили мины и замаскировали их.
А я и товарищ мой Костя Бураков получили задание: пробраться в «ничейную зону» и вести наблюдение за передним краем противника. «Ничейной зоной» называли узкую полосу земли между нашей линией обороны и линией обороны фашистов.
Вот выползли мы с Костей еще затемно из наших окопчиков.
Кругом туман висит, как вата. Под руками трава, мокрая от росы. Земля мягкая, прохладная.
Стараемся тихо ползти, даже дыхание сдерживаем. Противник-то рядом, рукой подать. Вот-вот может нас обнаружить!
Я оглядываюсь, воронку ищу. Вдруг Костя трогает меня за рукав и показывает большим пальцем вправо.
Я понял: нашел Костя воронку, меня зовет.
Воронка была неглубокой, но такой круглой, будто на этом месте большой волчок крутили, он осел в мягкую землю и след оставил.
В общем, вдвоем мы в ней отлично устроились. Залегли, укрылись аккуратно маскировочными халатами.
Есть такая зеленая гусеница. Лежит она на листе, ее и не заметишь, потому что она зеленая и лист зеленый. Или, скажем, заяц зимой белый и снег белый. Его на снегу и не разглядишь. Вот и наши маскхалаты специально разрисованы. И зеленые на них пятна, и бурые, и желтые. Издали глядеть – они с землей сливаются, и человека под ними не видно.

Лежим мы. Наблюдаем. Туман растаял, будто его и вовсе не было. Солнышко взошло. В траве крупные капли росы искрятся под его лучами, как стеклянные шарики.
Впереди, метрах в двадцати от нас, молодой кустарник, подлесок. Там и голубоватый ольшаник, и темно-зеленые елочки с тонкими макушками, и еще какие-то кусты – отсюда не разглядишь. Растут они не сплошной стеной, а стайками. Кое-где кустарник поломан бомбами или снарядами, а то и вырван с корнями и успел пожелтеть, пожухнуть.
За кустарником – фашистские окопы.
Это и есть их передний край.
Лежим мы с Костей в воронке, наблюдаем. Лежать нам до ночи. Спать хочется. Я ему шепчу:
– Спи одним глазом. Я погляжу.
Он кивнул головой, но спать не стал. Вытащил из кармана блокнотик и карандаш и принялся рисовать. И кусты рисует, и траву, и деревья, что за фашистскими окопчиками.
Он художник по профессии. До войны учился в художественном училище. И в армии своего любимого дела не оставлял. Всегда носил при себе блокнот и карандаши и каждую свободную минуту принимался рисовать. Бойцов рисовал, офицеров, деревни сожженные, подбитые фашистские танки, пленных… Вот и сейчас…
Часа через четыре Костя меня сменил. Свернулся я клубком на дне воронки. Лежу, в небо смотрю. Небо голубое-голубое, даже смотреть больно. Легкое белое облачко ползет медленно. Рядом под ветерком трава шуршит. Медом пахнет. Если бы не стреляли где-то недалеко да не гремели отдаленные орудийные раскаты и не лежал бы рядом автомат, я бы забыл про то, что я на войне. Ведь все мы в душе мирные люди, строители, а не разрушители. Нам бы хлеба растить, сады разводить, дома строить, рекам новые русла прокладывать! А фашисты заставили нас за оружие взяться!
Так сменяли мы с Костей друг друга до темноты, а потом бесшумно вылезли из воронки и поползли назад, к своим.
А вскоре снова получили мы приказ выдвинуться за наш передний край с особым заданием.
Появился у фашистов снайпер – очень меткий стрелок: высмотрит цель и бьет без промаха. С утра нам покою не давал.
Вот и получили мы с Костей задание: найти этого снайпера и уничтожить.
Как и в прошлый раз, перед рассветом поползли мы с Костей из окопов на наше старое место – в воронку. Приползли. Замаскировались. Ждем.
Посветлело.
Наши из окопов высунули каску. Бац! – выстрел. А откуда стреляет, – не понять.
Полчаса прошло. Час. Второй кончается.
«Вот, – думаю, – незадача. Где же он спрятался, проклятый?»
А Костя как ни в чем не бывало вынимает из кармана свой блокнотик.
«Ну, – думаю, – рехнулся парень. Задание выполнить не можем, а он опять за свои картинки принимается».
Только я успел это подумать и еще больше начал сердиться, как придвинулся Костя ко мне вплотную и зашептал:
– Ползи в соседнюю воронку. Высунь раза два каску. Только осторожно.
Легко сказать: ползи. Снайпер где-то рядом.
Но приказ есть приказ. Костя старший в наряде, а приказы не обсуждаются.
Выполз я из воронки. Тихо ползу, медленно. Двину рукой и замру, чтобы со стороны казалось, будто ветер траву колышет. Но, видно, снайпер не глядел в мою сторону или так уж удалось мне проползти, что он меня не заметил. Добрался я до другой воронки. Отдышался, снял тихонько каску. На ствол автомата надел и поднял ее.
Бац! – пуля ударила в каску.
Каска зазвенела, будто стукнули легкой палочкой по колоколу.
Через полминуты снова высунул каску. Опять она зазвенела.
И вдруг рядом очередь из автомата раздалась. Костя стреляет.
Высунул я снова каску над воронкой – тишина. Поболтал ею в воздухе – тишина. Не стреляет снайпер.
«Значит, – думаю, – нашел его Костя».
Очень хорошо у меня на душе стало. Выполнили мы все-таки задание.
Тут у фашистов переполох начался. Стрельба поднялась. Пули над головой свищут, о землю шлепаются.
Пролежали мы так каждый в своей воронке до темноты. А как стемнело, слышу – подползает кто-то к моей воронке. Я – автомат на изготовку. «Сейчас, – думаю, – встречу непрошеного гостя». Но не стреляю, жду.
Потом слышу шепот:
– Жив?
Костя, значит.
– Жив, – отвечаю.
– И я, – говорит, – тоже жив. Ползем домой!..
Доложили мы командиру, что задание выполнено, и пошли отдыхать.
По дороге я у Кости спрашиваю:
– Как это ты его нашел?
Все же интересно знать!
– А просто, – отвечает. – Я, когда мы с тобой первый раз в воронке лежали, по привычке рисовал их передний край. Все подробно нарисовал. А в этот раз подумал: когда снайпер маскировался, он что-нибудь, наверно, изменил в пейзаже. Либо что-нибудь передвинулось, либо прибавилось. Вытащил я свой рисунок и стал сравнивать его с тем, что вижу. Все так. Только в одном месте за кусточком пенек торчит. Или я его прошлый раз не приметил или его тогда не было. Надо, – думаю, – каску поднять. Понятно?
– Не совсем, – говорю.
– А чего ж тут непонятного! Ты каску высунул, снайпер выстрелил, листья на кусте дрогнули чуть-чуть. Ну, я и дал очередь по пеньку. Снайпер и смолк!
– Вот теперь, – говорю, – понятно.
И засмеялся. И Костя засмеялся.
– Выходит, – говорю, – что ты его перехитрил! И наука твоя художественная пригодилась.
– Наука, брат, всякая человеку на пользу.
А утром командир сказал нам, что за выполнение этого задания он представил нас обоих к награде. Костю – к ордену Славы, а меня – к медали «За отвагу».
Костю-то это правильно, а меня, по-моему, не за что. Впрочем, командованию виднее.
ПРОСТО ФЕДЯ
Чем дальше продвигались мы на запад, тем пустыннее выглядели за окнами поля, перелески, деревни. Все здесь опалила война. Где еще недавно были избы, торчали одинокие печи с длинными кирпичными трубами. Будто жирафы с отрубленными головами.
Иногда наш поезд замедлял ход, и мимо окон проплывали обгорелые остовы железнодорожных вагонов, опрокинутые помятые цистерны и даже паровозы, на вид еще совсем целые, с лоснящимися красными ободами колес. Словно бы сами машинисты своротили их набок, чтобы удобнее было протирать тряпками.
Никто из нас не знал ни станции назначения, ни сколько нам еще ехать. Сопровождавший нас капитан, когда ему задавали вопросы, только улыбался растерянно и пожимал плечами. Мы стали подозревать, что он и сам не знает. Мы ехали в общей сложности не более суток, но нам казалось, что едем мы давным-давно.
Поздно вечером поезд остановился возле разбитого вокзала. Было очень темно, потому что ни на станции, ни в вагонах не было света. И только где-то за горизонтом появились внезапно какие-то розоватые сполохи. Орудия ли стреляли, или взрывалось что – мы не знали. Но чувствовали и понимали: там – фронт.
Капитан приказал никуда из вагона не отлучаться и ушел. Минут через десять он вернулся и сказал, что поезда дальше не идут, что штаб фронта знает о нашем прибытии, что сейчас надо выгрузиться, потому что вагоны займет госпиталь.
Разгружаться в темноте было довольно сложно: имущество наше состояло из зачехленных продолговатых тюков – декораций, ящиков с реквизитом и костюмами, да еще всяких свертков, чемоданов и баулов, – ехали мы на месяц. И было нас шестнадцать актрис и актеров – фронтовой театр.
Не успели разгрузиться, как пошел дождь.
Женщин кое-как удалось пристроить в бараке, до отказа набитом ожидающими пассажирами, а мы мокли под дождем.
Дождь лил всю ночь, и от этого она казалась на редкость длинной. Иногда наш молчаливый капитан уходил куда-то звонить по телефону, возвращался и усаживался на старое место – на ящик с костюмами. Мы ни о чем не спрашивали его, привыкли уже к тому, что он только пожмет плечами и улыбнется. Будут новости – сам сообщит.
Под утро, когда край неба начал чуть светлеть, возле нашего бивуака остановился солдат. Мы не обратили на него внимания, потому что многие останавливались и глазели на нашу группу. Мы выглядели, наверно, несколько необычно вблизи фронта: фетровые шляпы, галстуки, штиблеты.
Солдат некоторое время внимательно рассматривал нас, потом спросил:
– Вы не артисты будете?
– Артисты, – нехотя откликнулся кто-то.
– Здравствуйте. Мое фамилие Прохоров Федор Поликарпыч. Можно звать просто Федя. Будем знакомыми.
Так как до сих пор нам еще никто не представлялся, мы посмотрели на солдата повнимательней. На нем был короткий ватник, подпоясанный ремнем. На ватнике, даже в хмуром свете нарождающегося утра, явственно проступали темные расплывчатые пятна. Сапоги, несмотря на дождь и грязь, были начищены, словно солдат пришагал сюда по воздуху, не касаясь земли. Пилотка натянута на уши, но когда он назвался и, козыряя, поднес руку к голове, едва уловимым движением он сбил пилотку чуть набок, и одно ухо, высвободившись, оттопырилось. Лицо худощавое, немолодое, над верхней губой светлые усы, такие светлые, что мы их сразу и не заметили.
– Ну, и что ж дальше, «просто Федя»? – спросил весело старший нашей группы – актер со странной фамилией Лосик.
– А дальше, товарищи артисты, будем грузиться. Имею приказание быть при вас. Машина у меня исправная. Куда везти, дорогу знаю. Не все тут? Мне говорили – шешнадцать артистов.
– Не все. Женский пол скрывается от дождя в энском бараке.
– Ясно, – Прохоров улыбнулся, кашлянул деликатно и зачем-то поправил ремень, который и без того туго перетягивал ватник. – А имущество?
– Все тут.
– Конечно, две бы машины лучше, но где их возьмешь, две? Война.
Подошел сопровождавший нас капитан.
Лосик кивнул на Прохорова:
– Солдат за нами приехал.
Прохоров повернулся к капитану, посмотрел на него строго, поднес руку к пилотке:
– Разрешите обратиться, товарищ капитан?
– Обращайтесь.
– Рядовой Прохоров прибыл в ваше распоряжение с машиной. За артистами, значит, – пояснил он на всякий случай.
– Хорошо. Только долго ехали.
Прохоров усмехнулся загадочно:
– Дороги, товарищ капитан. Разрешите грузиться?
– Грузитесь. Сходите кто-нибудь за женщинами.
– Пускай сидят, – буркнул Прохоров. – Хочь и не сахарные, а намокнут. Дождик-то, товарищ капитан, – он вытянул руки ладонями кверху, – дождик! Фрицы нынче насквозь мокрые, – в голосе его слышалось удовлетворение, будто это не кто иной, как именно он сам, Прохоров, наслал на фрицев дождь.
– Так и мы ж не сухие, – сказал Лосик.
– То ж мы, – возразил укоризненно Прохоров, – мы – люди русские, и земля тут наша, русская, и дождик наш, русский. Фрицам хужее нашего. Сейчас я машину поближе подгоню. Чего на горбу ящики-то тягать. – Он кивнул и размашисто зашагал прочь.
Никогда, ни до той осени, ни после, не видел я такой дороги. Словно кто-то впереди вспахивал ее и поливал водой, а потом, вспаханную и политую, добросовестно месил, чтобы земля превратилась в бурую гущу, прикрыла ямы-ловушки, колдобины, увалы.
Иногда казалось, что грузовик наш плывет по бурой взбаламученной реке, переваливаясь с боку на бок на невидимых волнах, оставляя позади совсем пароходный след.
Мы хватались за тюки, свертки и чемоданы и подпирали спинами тяжелые ящики с костюмами и реквизитом. И не только потому, что боялись растерять вещи, просто как-то легче, когда держишься хоть за что-нибудь. Хотя шансов вылететь за борт вместе с чемоданом было не меньше, чем вылететь без него.
Несколько раз машина увязала, мотор глох. Наступала внезапная тишина, и становилось слышно, как со скатов стекает вода.
«Просто Федя» открывал дверцу кабины, вставал на подножку и сокрушенно качал головой:
– Дорожка!.. – Он спрыгивал прямо в грязь, обходил машину и снова вздыхал: – Дорожка! Верблюд не пройдет, не токмо что машина. Будем ждать скорую помощь.
Почему-то он считал, что самой высокой проходимостью из всего, что движется по земле, обладает верблюд.
– Может, подтолкнем? – предлагал кто-нибудь из нас.
«Просто Федя» сокрушенно качал головой:
– Куда уж! Тут бахилы нужны. Это в каком же виде я вас довезу? Засмеют люди. Нет уж. Ждать недолго.
Ждать действительно приходилось недолго. Подходил какой-нибудь грузовик, груженный снарядами, или тягач с орудием. Из кабины высовывался шофер:
– Загораешь?
– Подмогни, – просил «просто Федя».
– Не могу. Срочный груз. Снаряды.
«Просто Федя» равнодушно пожимал плечами:
– У меня тоже срочный груз. Артисты.
– Ну да?! – недоверчиво спрашивал шофер.
«Просто Федя» обращался к нам:
– Товарищи артисты, предъявитесь.
Мы подымались в кузове, отряхивая помятые шляпы. Лосик брал гитару:
– Первым номером нашей программы солдатская фронтовая песня «Землянка».
Он брал несколько аккордов, и Галя Синицына, девушка с синими печальными глазами, наша «героиня», тихонько запевала: «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза». Она была драматической актрисой, не певицей, голос у нее был маленький, но пела она с душой. И здесь, на разбитой фронтовой дороге, где только что прокатилась война и штатскую девушку не встретишь, песня звучала как-то по-особенному, словно заново рождалась каждый раз, словно раньше и не слышал ее никогда. И шоферы, и мы сами слушали Галю затаив дыхание, не шевелясь. На усталом лице незнакомого шофера появлялось такое же выражение, что и у поющей девушки, оно становилось печально-задумчивым. Потом, когда смолкали последние аккорды гитары, шофер вздыхал, жалея, что песня кончилась, и спрашивал:
– Трос есть?
– Без троса не ездим, – и «просто Федя» доставал из-под своего сиденья заляпанный грязью трос, свернутый в клубок и напоминавший удава.
Ревели моторы. Машина выползала из грязи. Незнакомый шофер желал нам счастливого пути и непременно пытался выяснить, заедем ли мы к нему в часть, потому что именно его часть самая главная на этом участке и не побывать в ней…
Потом «просто Федя» произносил, высунувшись из кабины:
– Товарищи артисты, спасибо за поддержку. А вам, товарищ Синицына, особо.
И мы двигались дальше. До следующей остановки. Сейчас уж не берусь утверждать, так это было или не так, но мне показалось, что «просто Федя» иногда нарочно останавливался, чтобы заставить Галю спеть.
Когда мы, наконец, добрались до части, в которой должно было состояться первое наше выступление, был уже полдень. Так докучавший нам всю дорогу дождь прекратился. Небо посветлело. Разорванные в клочья тучи бежали быстро, сталкивались, словно спешили закрыть появлявшиеся кое-где голубые щели.
Часть располагалась в лесу. Подернутые желтизной березы перемежались с темными елями, кое-где на пригорках торчали одинокие длинные сосны. А под соснами рос пожухлый кустарник. Только позже, когда мы огляделись, поняли, что это и не кустарник вовсе, а замаскированная техника. Где-то неподалеку громыхали орудия. И если бы не этот грохот, не подумаешь, что ты на фронте. Лес как лес. Только трава примята да земля кое-где нарезана на кирпичики гусеницами танков.
Разгружаться нам не пришлось. Солдаты, с любопытством поглядывая на нас, сняли тюки и ящики с машины. Прикрыли все брезентом. Распоряжался разгрузкой «просто Федя». Сапоги его снова блестели. Но лицо было хмуро.
Подошел какой-то старшина в удивительно ладном обмундировании, совсем новеньком. «Просто Федя» глянул на него внимательно, похмурел еще больше и полез в свою кабину. Старшина представился, взял у Лосика продовольственный аттестат и пригласил нас обедать.
– А вы, товарищ Федя, что ж не идете? – спросила Галя Синицына.
«Просто Федя» крякнул неопределенно, но из кабины не вылез.
– Спасибо. Я машину посторожу. Раскулачат. Мы пошли следом за старшиной.
Столовая оказалась большим замаскированным сеткой навесом, под которым стояли длинные, сбитые из досок столы и мощные лавки. Мы побывали потом во многих частях, питались и в землянках, и просто сидя на расстеленном брезенте с солдатскими котелками в руках. Всяко приходилось. Но одно всегда было общим – фронтовое гостеприимство. Несмотря на сложные условия, нас везде старались принять, как дорогих гостей, и накормить повкуснее. А вкусным считалось то, что было наиболее дефицитным. В то время завезли немного рису и американскую консервированную колбасу, которую ядовито прозвали «вторым фронтом». Так вот, куда бы мы ни приезжали, нас ждала рисовая каша с этим самым «вторым фронтом». И через неделю мы, приходя на обед, стали вздрагивать. Такова неблагодарная человеческая природа. Впрочем, это так, к слову.
Когда мы возвратились к машине, «просто Феди» не было. Лосик ушел договариваться с командованием о месте, где нам можно будет соорудить сцену. Яркие декорации не должны демаскировать часть. Ведь если фашисты заметят их с воздуха, дорого может обойтись спектакль. Актеры отдыхали. Кое-кто даже умудрился поспать. А мне не сиделось на месте. Я считал себя уже обстрелянным солдатом, во фронтовой театр попал после госпиталя. Поэтому ко всему, что видел вокруг, относился с показным равнодушием. Ну, чего, спрашивается, опытному солдату вскрикивать при виде тяжелых орудий Резерва Главного Командования, ахать и охать, как наши девушки, которые попали впервые в прифронтовую полосу? Но я притворялся. Сейчас не стыдно в этом признаться. Потому что здесь я увидел такое, чего не видывал в первые месяцы войны. Я увидел армию во всей ее мощи. Я увидел артиллерию такую, что сердце у меня замирало от гордости. Я видел новенькие танки и «катюши» в брезентовых плащах. Видел солдат – не утомленных, в кровавых бинтах, темнолицых солдат сорок первого года, а новых, каких-то спокойно уверенных, подтянутых, готовых наступать. И я вдруг начинал чувствовать себя таким же, потому что еще не снял полинявшей гимнастерки, и старался поменьше хромать, опираясь на свой проклятый дрючок.
В тот первый день мне не сиделось на месте, и я бродил потихоньку вокруг. И случайно набрел на «просто Федю». Он не заметил меня за стволом дерева. Он стоял перед круглолицым майором, опустив руки по швам, и бубнил: