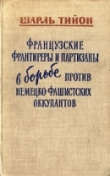Текст книги "Сердце солдата"
Автор книги: Илья Туричин
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Эрих Вайнер держал чемоданы наготове. Черная закрытая машина стояла под окнами. Баки заполнены бензином до отказа. Шофер спит прямо в машине. Эрих Вайнер не из трусливых, но нервы его так расшатались, что уроненный автоматчиком на пол в соседней комнате солдатский котелок заставляет вздрагивать. От скрипнувшей ставни в сердце возникает сосущий холод… Партизаны могут появиться внезапно, в любое время суток, с любой стороны.
Недавно Вайнер ездил с докладом в Берлин.
Но и Берлин не принес успокоения. Собственно, он, Вайнер, и не видел Берлина. Кочевал из бомбоубежища в бомбоубежище. И вой сирен, санитарных и пожарных машин бил по нервам не меньше скрипа ставен белорусской хаты.
Неужели это – начало конца, конца великой Германии? Где же это новое оружие, которое должно спасти Германию от разгрома, от смерти?
Теперь вот под Орлом творится что-то непонятное. Город этот далеко, но Вайнер слышит скрежет металла и чует едкий запах искореженной огнем стали. Танки горят, его, немецкие танки!..
Но что бы там ни происходило под Орлом, Вайнер должен удерживать позиции Германии здесь, в Белоруссии.
– Фюрер знает о вас, фюрер ценит ваши усилия, – сказали ему в Берлине.
Надо держать нервы в порядке. Надо запугать русских, подавить их волю к сопротивлению.
Паршивая служба! Здесь чувствуешь себя, как на болотной кочке, – малейшее движение, и почва уйдет из-под ног.
Штумма убили. Вайнеру Штумм никогда не был симпатичен. Мясник! Заплывшая салом тупая скотина! И все-таки гибель Штумма заставила Вайнера содрогнуться. Сосущий холодок страха, закравшийся в сердце еще на похоронах, не проходит. Очень хочется жить!
Козич лежал на кровати и кутался в одеяло: его знобило. В ввалившихся глазах затаился ужас.
Варвару мутило от одного вида сморщенного, серого лица квартиранта. Тьфу! Она старалась не смотреть на него.
А Козича трясло. Он кутался в одеяло и изредка взвизгивал по-щенячьи, сам того не замечая. Только что он вернулся от Вайнера. Сколько крови стоит каждый такой вызов! Умереть можно от страха. Штумм внушал ужас. Штумма убили, слава богу! Но Вайнер страшнее. Когда входишь в его кабинет, кажется, будто чьи-то незримые пальцы сжимают горло. В коленях рождается неуемная дрожь. И долго потом трясет вот так, как сейчас.
Вайнер приказал идти в Вольку. Ему хорошо приказывать, сидя за колючей проволокой! А если там партизаны?..
Козич еще плотнее укутался одеялом и взвизгнул.
– Заткнись! – крикнула Варвара. Ей не по себе от этого нечеловеческого визга. Лязганье зубов вызывает в ней ярость, которую трудно унять. Так бы и придушила этого гада!
– Смерти моей хочешь! – завизжал Козич. – Все вы гибели моей хотите!.. А что я тебе сделал? Ублюдков твоих кормил. Подохли б они, кабы не я… – Козич лязгнул зубами. Маленькие злые глазки, в которых застыл ужас, уставились на Варвару.
– Погоди, скоро наши придут, вздернут тебя на суку, – процедила Варвара.
– У-у-у! – взвыл Козич. – Змеюка ядовитая! Я вот скажу, что у тебя муж в Красной Армии.
– Не скажешь! – Варвара в упор посмотрела на Козича побелевшими от ненависти глазами. – Не скажешь, подлец. Побоишься. Они и тебя придушат вместе со мной.
Козич сухой трясущейся рукой натянул на голову одеяло, чтобы уйти от страшных Варвариных глаз. Взвизгивания прекратились. Через несколько минут он снова высунулся из-под одеяла.
– Ты не сердись, Варя, – сказал он ласково. – Я ребятишкам карамелек добуду… В Вольку меня начальство посылает… Вернее, я сам… Ну, до женки хочу съездить. Хозяйство посмотреть. Так ты тут пригляди за моим добром. Горбом нажито.
Затаенная недобрая усмешка тронула Варварины губы.
– Да уж, горбом…
– А за мной не станет… – бормотал Козич, будто не слышал Варвару. Потом тоненько всхлипнул и снова вполз под одеяло.
– Когда идешь-то? – спросила Варвара немного погодя.
– Завтра, как стемнеет.
«Будто вор, домой пойдет, – подумала Варвара. – Света боится»…
Она погремела ведрами в сенях, вышла и, как была без платка, простоволосая, торопливо пошла по улице. Потом остановилась, оглянулась и свернула в калитку тети Кати.
Солнце быстро скатывалось за верхушки деревьев. Небо загустело, зазолотилось. Хрустел под ногами сухой валежник. Остро пахло хвоей и грибами. Коля, Яша и Петрусь шли лесом напрямик, не выбирая дороги. Пробирались сквозь частый подлесок, защищаясь от веток локтями, пересекали сердито чавкающие болота.
Партизаны торопились. Солнце уже садилось, а до Вольки еще километров пять по бездорожью. Да и в Вольку заходить не хотелось. Лучше бы обойти ее стороной. Незачем привлекать к себе внимание, идти по улице с автоматами.
Быстро темнело. И когда вышли наконец из лесу, последняя полоска зари погасла, рассыпав по небу голубые искры звезд.
Коля повел друзей полем, мимо пепелища. Тоскливо сжалось сердце. Он не был здесь с того февральского вечера, когда ушли всей семьей в лес и фашисты спалили хату. Он остановился у изгороди.
– Хата наша была…
Постояли молча. Над грудой обуглившихся бревен тянулась вверх темная кирпичная труба, будто сожженная хата в горе заломила руки.
Яша постучал кулаком по изгороди:
– За все расплатимся!..
Низко и глухо загудели жерди.
– Пошли, – сказал Коля.
И три фигуры растворились в темноте.
Козич шел по шоссе. Ему казалось, что он не идет, а ноги несут его сами. Сердце то начинало стучать так, что в ушах звенело, то замирало, и он жадно принимался глотать воздух, шлепая сухими провалившимися губами. При этом бородка его, похожая на ком свалявшейся шерсти, начинала подрагивать.
Каждый звук застигал его врасплох, он вздрагивал, неприятный холодок пробегал по спине. Не успокаивала даже мечта о родном доме за прочным забором.
У поворота с шоссе Козич остановился и, прижав руки к груди, чтобы унять сердце, прислушался.
Было тихо. Только звенели в траве кузнечики и какая-то неуснувшая одинокая лягушка кричала скрипуче:
«Клюет, клюет, клюет…»
Мигали звезды. От болота подымалась прозрачная легкая дымка и висела в воздухе недвижными пластами.
Вздохнув, Козич перекрестился, свернул с шоссе и торопливо пошагал к Вольке.
Угрюмо молчал придорожный лес. Перед самым селом от кустов отделились три темные фигуры.
У Козича замерло сердце, но не было сил даже остановиться. Дрожащие ноги сами сделали еще несколько шагов.
– Стой! – сказала одна из фигур. – Кто таков? Голос показался Козичу знакомым:
– Свой я… Свой… – пробормотал он.
– Чей свой?..
– Советский, как есть советский…
– Ах, советский? – зловеще спросила фигура. – Так мы тебя сейчас вздернем на суку!
– Ой-ой-ой, ясновельможные паны, – Козич шарахнулся в сторону. Ноги еле держали его дрожащее, как в ознобе, скрюченное тело. – Вру я… вру… Наш я… Хайль Гитлер!
– Так чей же ты все-таки, Тарас Иванович?
Одна из фигур приблизилась, Козич узнал Петруся и облизнул сухим языком сухие губы.
– Чей же ты все-таки, Тарас Иванович? – переспросил Петрусь.
– Я… ничего… я… свой… – хрипло прошептал Козич, – я никогда… И тебе, Петрусь, только добро… Я тебе баян новый подарю.
– Может, ты мне батю нового подаришь? – звонким мальчишечьим голосом спросил тот, что был ростом поменьше.
Козич узнал Колю и понял, что отсюда ему не уйти живым. Ноги подкосились, он рухнул вдруг на колени и завыл страшно, по-волчьи.
Потом пополз к кустам, все время повторяя:
– Братцы, не губите… Братцы, не губите.
Сухо щелкнул затвор.
– Погоди, Яша, – сказал Коля. – Встаньте, Козич Тарас Иванович.
Козич вдруг притих. Надежда вкралась в сердце. Может, пощадят.
– Встаньте, – повторил Коля. Козич покорно встал.
– Мы не убийцы. – Голос Коли звучал глухо. – Ни один из нас троих не убил в своей жизни ни одного человека. – Петрусь и Яша встали рядом с ним. – А ты не человек. Ты – предатель.
Козич моргал. Медленно, будто пробиваясь на ощупь сквозь ночную мглу, доходила мысль: это – не пощада, это – суд, это – конец.
– И мы тебя не убиваем, Козич. Мы землю от тебя очищаем, как от заразы.
– По закону и по нашей партизанской совести, – добавил Петрусь.
– Именем Советской власти и нашего народа приговариваем тебя, Козича, за измену Родине к расстрелу, – звонко сказал Яша и щелкнул затвором.
– Погоди, – остановил его Петрусь. – Может быть, он хочет что-нибудь сказать.

У Козича перехватило горло. Он облизнул сморщенные губы и ничего не сказал.
Тогда Коля и Яша одновременно подняли автоматы. Но Яша тотчас опустил свой, молчаливо признавая за товарищем право на возмездие. Ведь Козич предал Колиного отца.
На Козича глянуло дуло автомата. Он закрыл лицо руками и закричал. Одинокий крик его ударил по верхушкам деревьев. Лес молчал. Крик рванулся к звездам. Но звезды равнодушно смотрели вниз.
Ударила короткая очередь. Опять наступила тишина. А потом где-то далеко в селе завыла собака, откликаясь на оборванный крик.
– Приговор приведен в исполнение, – сурово сказал Петрусь.
И все трое молча повернулись и пошли к лесу.
Время летит незаметно, если каждый час, каждая минута заполнены делом, которому отдаешь всего себя без остатка. Таким делом для Коли и его товарищей стала война. Ночь превратилась в день, день – в ночь, перепутались утренние и вечерние зори.
Клубились над головами весенние грозовые тучи. Палило расплавленное июльское солнце. Хлестали холодные косые дожди, сбивая с деревьев последние желтые листья. Февральские метели сыпали за ворот колючую крупку-порошу. А подрывники неутомимо шагали лесными тропами, отмахивая в день по пятьдесят километров, чтобы залечь у шоссе или у железнодорожного моста, перехитрить врага, пустить под откос эшелон. Неделями бродили они вдали от лагеря, ели что придется, пили воду из речек, болот, луж. Спали и зарывшись в сено, и сидя на мокрой ненадежной кочке, и просто прислонясь к дереву.
В феврале Колю приняли в комсомол. Быть комсомольцем, как Миша, Петрусь, Яша, как все товарищи по оружию, было заветной мечтой Коли. Но сам он не решался подать заявление, мешала какая-то неодолимая робость.
И каждый раз, когда он собирался поговорить с кем-нибудь о вступлении в комсомол, его одолевали сомнения. А вдруг засмеют, скажут – «мал». Да и что он такого сделал выдающегося, чтобы его в комсомол приняли? В засады ходил, по паровозам бил из противотанкового ружья. Так не один же, вместе со всеми! Вот Миша – командир. Петрусь – карателей завел в лес. Яша – комсомольский работник, в райкоме до войны работал…
Сомнения терзали Колю, усугубляя природную робость, и он откладывал разговор до «подходящего» раза.
Все решила напористость Яши. Однажды вечером сидели всей группой в землянке и по очереди помешивали в печке дрова железной ножкой от кровати, превращенной в кочергу. Слушали Петруся. Чуть трогая пальцами лады, Петрусь пел песню о парнишке, что ушел в разведку.
В разведку шел мальчишка
Четырнадцати лет.
– Вернись, если боишься, —
Сестра сказала вслед. —
Вернись, пока не поздно,
Я говорю любя,
Чтоб не пришлось в отряде
Краснеть мне за тебя.
Мальчишка обернулся:
– Ну, не пытай ума,
Идти в разведку, знаю,
Просилась ты сама.
Мне ссориться с сестренкой,
Прощаясь, не под стать.
Но командир отряда —
Он знал кого послать.
Коле нравилась эта песня. Он одобрял бойкий ответ мальчишки. Правильно. И сам не растерялся бы, ответил так же.
Цвел на лесной полянке
Туманный бересклет.
В разведку шел мальчишка
Четырнадцати лет.
А с палкой-попирашкой
Да с нищенской сумой
Через луга и пашни
Такому путь прямой.
Их мало разве бродит,
Дорожных трав желтей,
Без племени, без роду
Оставшихся детей…
Каждый раз, когда Петрусь пел этот куплет, Коля вспоминал маленькую девочку без имени, обгоревшую в деревне Зыбайлы, и чудился ему в голосах баяна ее глухой, то усиливающийся, то затихающий крик.
Дальше в песне говорилось о том, как поймали мальчишку фашисты, требовали, чтобы выдал он своих товарищей. Но молчал мальчишка.
…Среди деревни врыты
Дубовых два столба.
Катился у мальчишки
Кровавый пот со лба.
Не замедляя шага,
Он поглядел вокруг:
Под пыткой не заплакал,
А тут заплакал вдруг.
На вопрос фашистского офицера «О чем ты плачешь?» мальчишка ответил:
– Я плачу от обиды,
Что, сидя у костра,
«Не выдержал братишка»,
Подумает сестра.
Никто ей не расскажет,
Пройдя за ветром вслед,
Как умирал мальчишка
Четырнадцати лет.
Петрусь окончил петь. Положил голову на баян, задумался.
– Как умирал мальчишка четырнадцати лет, – повторил Яша. – Когда мне было четырнадцать, я тоже о такой смерти мечтал. Чтоб мучали меня враги, а я бы ни слова. Как Мальчиш-Кибальчиш. И чтобы погиб я геройски и похоронили меня на берегу, над рекой. Пройдут пароходы – салют Яшке, пролетят самолеты – салют Яшке, пройдет пионерский отряд – салют Яшке. Вот, братцы, какая ситуация была. А нынче вот о жизни думаю. Какая она будет после войны… Я смерти не боюсь, а жить – ох как хочется. Во всю силу! Ты как, Микола, жить хочешь?
– Хочу. Я после войны учиться буду.
– Все учиться будем. Слышите, гаврики? – Яша повысил голос. – Кто не будет после войны учиться, тот цену своей крови не постиг. Признаюсь честно – формулировка не моя. Подслушана… – И вдруг повернулся к Коле: – Между прочим, Микола, ты у нас один отсталый элемент, неохваченный. Ты почему в комсомол не вступаешь?
Коля покраснел.
– Да так… Я… собираюсь… Да боязно.
– Что-о?!
– Ведь и не принять могут.
– Кого? Тебя? Да что мы тебя не знаем? Ты это брось, я тебе как потомственный комсомольский работник говорю. На днях собрание будет. Пиши заявление – разберем.
У Коли вдруг перехватило дыхание…
– Кто может дать рекомендацию Гайшику, прошу поднять руку, – сказал Яша.
Руки подняли все.
– Видишь? – торжествовал Яша. – А ты говоришь «боязно». Я, брат, не ошибусь. У меня опыт. Я знаю «вкусы и запросы» масс. Пиши заявление.
Но Коля написал заявление только через два дня. Аккуратно обрезал бритвой клочок серой оберточной бумаги, примостился возле обледенелого пня прямо на снегу и медленно вывел по-ученически круглыми буквами:
«В первичную комсомольскую организацию партизанского отряда им. Черкова, бригады им. Дзержинского от партизана Гайшика Николая Васильевича
Заявление…»
Коля подолгу думал над каждым словом, прежде чем написать его. Подолгу мусолил в губах химический карандаш. Губы стали фиолетовыми.
«…Я еще молод, мне всего пятнадцать лет, но я не пощажу своей жизни для того, чтобы отомстить немецким фашистам за смерть моего отца, за смерть всех отцов и матерей, погибших и в настоящее время страдающих от рук фашистских палачей…»
Ни одна землянка не смогла бы вместить комсомольцев отряда, поэтому собрание проходило в лесу, в ельнике. Комсомольцы сидели и лежали прямо на снегу, с оружием на случай тревоги. Со стороны могло показаться, что это просто походный привал.
Яша зачитал заявление Коли. Его выслушали внимательно. Никто не задавал привычных вопросов: кто может быть комсомольцем да что такое демократический централизм? Никто не просил рассказать биографию. Зачем? Жизнь Николая Гайшика шла на виду у всех. Только какой-то паренек в белом маскхалате спросил:
– Что сделаешь, если встретишь фашиста?
– Убью, – ответил Коля.
Потом вставали молодые партизаны. Говорили коротко, деловито. Они знали Колю, верили ему, готовы были делить с ним последний кусок хлеба и последнюю обойму.
– Предлагаю принять, – сказал Петрусь.
Коля увидел лес поднятых рук. Они будто оттолкнули мороз вверх, к студеному небу. Стало жарко. Коля расстегнул полушубок и улыбнулся от распиравшей его радости. Его приняли в комсомол, в великое братство юности и мужества!
Как он теперь будет драться!..
Собрание шло своим чередом, но Коля, оглушенный волнением, плохо соображал, кто и о чем говорит.
Потом он уловил дружное движение и повернул голову в ту сторону, куда посмотрели все. К ельнику в сопровождении комиссара отряда подходил товарищ Мартын.
Товарищ Мартын поздоровался и обвел комсомольцев внимательным потеплевшим взглядом.
– Так вот, друзья, если позволите, два слова. – Стало тихо-тихо. – Дни Гитлера сочтены. Исход войны предрешен. Но фашисты не хотят сдаваться без боя. Они сопротивляются и будут сопротивляться. Еще немало прольется крови, немало отважных падет в священной битве. – Товарищ Мартын поднял голову, сверкнули глаза. – Я не могу вам назвать точно день и час, когда наши войска нанесут сокрушительный удар на Белорусском фронте. Но час этот близок. И от нас с вами, народных мстителей, во многом зависит успех этого удара. Мы должны парализовать основные артерии, по которым враг доставляет на фронт свежие силы, боеприпасы, вооружение. Взрывать железные дороги, минировать шоссе, создавать «пробки». Поймите и запомните: чем труднее будет фашистам, тем легче нашим, советским воинам. Советский народ, партия верят вам, славному орлиному племени, верят в ваше мужество, в вашу силу, в вашу беззаветную преданность матери-Родине. Весь мир следит за нашей борьбой. Будем же драться с врагом так, чтобы навсегда отбить кому бы то ни было охоту лезть непрошенными гостями на нашу землю. Желаю вам успеха, товарищи! Победа – в ваших руках.
Коля никогда не выступал на собраниях, даже не представлял себе, как это можно говорить, когда на тебя обращены десятки глаз. А тут в голове собрался хоровод хороших, нужных слов, сердце забилось так, словно хотело выскочить из груди, и какая-то сила подняла его на ноги. Машинально он стряхнул с полушубка снег.
– Давай, Гайшик, – сказал комиссар.
Десятки лиц повернулись к Коле, десятки серьезных глаз смотрели на него в упор.
Коля жадно вдохнул морозный воздух. Только что вертевшиеся в голове хорошие и нужные слова разбежались и никак не хотели складываться в фразы.
А товарищи ждали.
И Коля, покраснев, сказал самое сокровенное, что жгло его сердце:
– Смерть фашистским захватчикам!
По хмурому апрельскому небу зябкий ветер гнал сырые отрепья туч. Весь день и весь вечер шел дождь. То крупный и яростный, то мелкий, повисающий в воздухе сплошной мутной пеленой. По полям разлились рябые темные лужи. Оставшийся кое-где в лощинах снег стал похож на огромные пятнистые и ноздреватые куски сыра. Земля в прошлогодних бороздах размякла, превратилась в густую коричневую жижу.
С наступлением темноты восемь партизан вышли из мокрого леса. Впереди оставалось самое трудное – пересечь голое унылое поле, чтобы выйти к железной дороге в намеченном месте, возле поворота, в трех километрах западнее Ивацевичей.
Партизаны шли медленно, увязая в грязи, с трудом отрывая от липкой земли подошвы сапог.
Наконец шедший впереди командир отделения Петрусь остановился.
– Все. Дальше вместе идти нельзя. Накроют. – Он повернулся к Яше и Коле. – Ну, двигайте. В случае чего – поддержим. И старайтесь перехватить эшелон в самой горловине, в овраге. Чтобы потом фрицы неделю путь расчищали.
Двое партизан кивнули и, пожав руки товарищам, молча ушли в сгустившуюся темноту.
Впереди, в зеленой шинели, перешитой партизанским портным из немецкой, шел Коля – первый номер. За ним, в черной шинели полицая, – второй номер, Яша.
У Коли в одном кармане шинели – деревянный ящичек вроде ученического пенала – противопехотная мина, в другом – аккуратно завернутый в тряпочку капсюль-детонатор.
У Яши в руках сверток, перевязанный веревкой, – двенадцать килограммов тола.
Чем ближе подходили Коля и Яша к железной дороге, тем осторожней и медленней двигались. Наконец Коля остановился, сделал знак рукой. Оба легли на мокрую землю и поползли. Холодная жижа просачивалась в рукава шинели. Впереди появилась черная полоса – низкорослый ельник, насаженный вдоль железной дороги. Они подползли к нему и залегли. Запахло мокрой хвоей. Холодные капли стекали за шиворот. Оба поежились и замерли: между ельником и железной дорогой мерным шагом шли двое автоматчиков: патруль.
Коля ткнулся лицом в мокрый шершавый рукав шинели. Закрыл глаза. И сразу отчетливо представил себе этот участок железной дороги: две колеи рельс будто врезались в землю, тускло светились внизу в овраге. Налево, метрах в трехстах отсюда, – поворот, и рельсы скрываются за косогором.
Надо незамеченными спуститься вниз к рельсам. Вырыть возле шпалы ямку, заложить в нее заряд тола. Между рельсом и зарядом установить противопехотную мину с капсюлем-детонатором. Рельс прогнется под тяжестью паровоза, приведет в действие несложный механизм капсюля-детонатора. И в ту же секунду от детонации взорвется заряд тола, и все полетит на воздух – рельсы, шпалы, земля, паровоз. Если здесь, в овраге, подорвать эшелон, нескоро фашисты восстановят движение. Место для диверсии выбрано с умом.
Неподалеку, на повороте, возник яркий луч света. Прожектор!.. Луч пополз по ельнику на той стороне. Выхватил мокрую насыпь, двух автоматчиков.
«Вот так штука! – подумал Коля. – Они охраняют железную дорогу с обеих сторон. И прожектора три дня назад не было. Видно, солоно пришлось!»
Внизу, под косогором, что-то загромыхало на стыках рельс. Коля поднял голову и прислушался. Яша смотрел на него вопросительно. Коля качнул головой: «Нет. Это не эшелон…» За этот год он научился многое распознавать на слух.
– Дрезина, – прошептал Яша.
Коля кивнул.
Стук удалился в сторону Ивацевичей. Рядом захлюпали шаги. Возвращался патруль. И снова заскользил по земле холодный голубой луч прожектора.
Коля прикусил нижнюю губу. Он всегда прикусывал губу, когда его что-нибудь волновало и напряженно начинала работать мысль.
Медленно тянулось время. Насквозь промокли шинели, и Колю и Яшу нет-нет охватывал озноб. Начинали стучать зубы.
Несколько раз пытались партизаны выползти из ельника и добраться до железнодорожного полотна, но каждый раз вынуждены были торопливо возвращаться. Патруль охранял крохотный участок дороги метров в сто пятьдесят и все время шагал туда и обратно.
Коля знаком приказал Яше оставаться на месте, а сам пополз по ельнику вправо. Может быть, там удастся спуститься вниз, к железной дороге.
Нет. Следующие сто пятьдесят метров охранял другой патруль. Он так же шагал без остановки туда и обратно.
Коля вернулся к Яше. Молча лег рядом.
«Что же делать? Как обмануть фашистов, пробраться к железнодорожному полотну, заложить заряд?.. Вот-вот пойдет эшелон из Берлина, из самого логова фашистов. Неужели пропустить его к фронту? Сейчас, перед наступлением наших?.. – Коля почувствовал на языке солоноватый привкус – прикусил-таки до крови. Он облизнул губы. – Что делать? Броситься на автоматчиков?.. Патрули на той стороне – и справа и слева. Нет, не за жизнью двух фашистов шли они сюда за десятки километров! Но что же делать?… Там, за спиной, в поле лежат шестеро товарищей. Они бы, конечно, поддержали, но все равно фашисты задержат эшелон, если начнется перестрелка. И не пустят его дальше, пока не проверят весь путь…»
Время шло. Дождь утих. Патруль неутомимо шагал и шагал, вглядываясь в тьму. Несколько раз протарахтела дрезина. Ползал по косогорам холодный прожекторный луч. А Коля и Яша все лежали в ельнике, промокшие до нитки, и не находили выхода.
Перед рассветом чуткое ухо уловило неясный шум, будто кто-то закопошился в самых недрах земли. Коля вслушался. Звук, сперва неясный, становился все четче и четче. Сомнения не было: приближается поезд!
Со стороны станции Коссово-Полесское шел эшелон, которого они ждали всю эту долгую мокрую ночь. И через минуту-другую он проскочит мимо с погашенными огнями, прогромыхает на стыках, и удары его колес замрут вдали, в той стороне, где фронт…
Во что бы то ни стало надо остановить этот эшелон, преградить ему дорогу!
Кровь сочилась из прокушенной губы, но Коля не замечал этого. Он весь превратился в слух. Казалось, каждый нерв, каждая клеточка утомленного тела слышат эти мерные удары колес и наливаются нечеловеческой яростью.
Нет! Он не пройдет, он останется здесь, в овраге, этот эшелон с запада!
– Я попробую, Яшка. В случае чего – строчи по ним. – Коля взял у своего второго номера заряд тола.
– Вместе пойдем.
– Нет… Вдвоем не пробиться… Будь здоров, Яшка.
И Коля пополз вперед, таща за собой тяжелый сверток.
Хлюпают шаги патруля. Все ближе, ближе… Коля вжался в землю, замер. Только бы не заметили! Как медленно они идут. Вот сейчас, сейчас… Коля снова до боли прикусил губу…
Рядом возникли две фигуры автоматчиков.
Ближнего можно схватить за ноги.
Хлюп. Хлюп. Хлюп…
Коле кажется, что он видит комья грязи на тяжелых подкованных сапогах…
Прошли…
И тотчас, почти у самых ног автоматчиков Коля бросился вперед, подхватив свою ношу. Вот он – край косогора. Еще секунда и парнишка сползает вниз по мокрой скользкой земле.
А поезд стучит и стучит все громче, все отчетливей.
Коля бросился к рельсу. Обламывая ногти и не чувствуя боли, начал рыть землю. Мокрая земля не поддавалась…
Не успеть… Кончено…
Из-за поворота выползло чудовище с притушенным глазом. Все ближе его тяжелый грохот.
Не успеть!
Коля еще сильнее прикусывает окровавленную губу.
И вдруг перед ним отчетливо, как наяву, возникает лицо расстрелянного отца. Брови нахмурены. Серые, как у сына, глаза глядят в упор, сурово. Потом он видит горящую хату, где каждая половица, каждый гвоздик, каждое пятнышко на стене – это его детство… Она горит, и едкий дым повисает в морозном воздухе.
И вдруг сквозь пламя Коля различает бегущих солдат. Крошечные фигурки стремительно приближаются. Он видит алые звездочки на касках, пилотках, фуражках. Они растут, эти фигурки. Они бегут по родной земле, и солнце встает за их плечами. Они кричат что-то…
Нет, это кричит девочка из Зыбайлы. Крик ее то усиливается, то стихает, вязнет в ушах, вплетаясь в чудовищный грохот эшелона. Вот он рядом, фашистский, черный в ночи эшелон…
Коля выпрямляется во весь рост. Сейчас они встретятся лицом к лицу: комсомолец Коля Гайшик из Вольки-Барановской и черный фашистский эшелон из Берлина.
Коля прижимает противопехотную мину к заряду тола.
Паровоз надвигается темной громадой. Дышит жаром в лицо.
Нет! Не пройдешь!
Коля рукой приводит в действие несложный механизм капсюля-детонатора и бросает заряд под колеса паровоза…
Яшу отбросило взрывной волной, ударило затылком о тонкий ствол елки, оглушило.
Когда он очнулся, кругом было светло и жарко, будто летнее солнце взошло апрельской ночью. Багряные языки пламени вырывались из оврага, зловеще светился едкий дым. Внизу что-то грохотало, видно, рвались боеприпасы. По косогору, обезумев, метались темные фигуры фашистов. Слышались крики.
Яша шевельнул руками и ногами. Целы. Только нестерпимо болят голова и шея.
«А Коля… он остался там… Он подорвался вместе с эшелоном».
Яша ткнулся лицом в землю, заплакал…
Вайнер мчался в черной блестящей машине с выбитыми стеклами прямо через поле, без дороги. Машину бросало на ухабах. Вайнера бил озноб.
За спиной его на востоке полыхало зарево. Грозная лавина советских войск обрушилась по всей линии фронта, смяла ее, стерла и теперь катилась по пятам.
– Гони! Гони! – кричал Вайнер шоферу.
Машина выскочила на проселок и с разгона врезалась в завал. Вайнера отбросило вместе с оторванной дверцей в сторону. Собрав силы, он встал. Позади послышалась автоматная очередь. Вайнер снова упал и на четвереньках пополз на запад…
Неудержимая железная лавина катилась с востока по белорусской земле. За плечами солдат вставало солнце. А навстречу им подымался не сломленный бурей, гордый недремлющий лес.