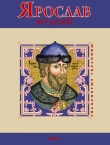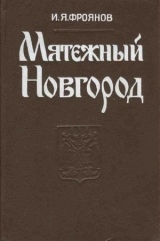
Текст книги "Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы конца IX – начала XIII века"
Автор книги: Игорь Фроянов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Иные смысловые оттенки находит в эпизоде с парусами Е. А. Рыдзевская, где, по ее мнению, «Русь занимает выгодное положение, а „словене” оказываются обиженной стороной. Но является ли это результатом противопоставления славян именно варягам? Термином „словене” летопись, повествуя о событиях IX–X вв., называет новгородцев; Русь, если рассматривать этот термин как географический, обозначает Киев, Чернигов, Переяславль, т. е. южную территорию восточных славян. В летописном рассказе о парусах, противопоставляющем Русь словенам в ущерб этим последним, вся, так сказать, соль заключается в более выгодном положении не варягов по сравнению со славянами, а Руси по сравнению с новгородским Севером, Руси в смысле зарождающегося Киевского государства с его обширными причерноморскими связями и с той руководящей организацией, которая стояла во главе его и вела сношения с Византией».{63} Е. А. Рыдзевская не заметила того, что русь и словене в летописном рассказе не столько противопоставляются друг другу, хотя определенная дистанция между ними обозначена, сколько отделяются от остальных участников похода, выдвигаясь как бы на передовые роли. Истолкование термина «Русь» в географическом ключе – натяжка, чреватая нелепостью, если строго следовать словам Е. А. Рыдзевской: Киев, Чернигов и Переяславль на парусах. Осторожнее высказывается Д. С. Лихачев: «Рассказ о парусах Руси и словен носит все признаки фольклорного происхождения. По-видимому, под словенами разумеются в нем новгородские словене. Кто точно разумеется в этом рассказе под „Русью”, решить трудно (киевляне ли, дружинники князя или русские в целом?). Во всяком случае, рассказ этот скорее всего отражает недовольство новгородцев, подчеркнувших свое невидное положение в войске Олега, простоту и суровость своего походного быта».{64} Если рассуждать методом исключения, то прежде всего должны отпасть киевляне, поскольку участников похода летописец называет не по городам, а по племенам. Киевляне у него покрываются словом «поляне». Не подходят здесь и «русские в целом», поскольку совершенно непонятно их соотношение со словенами. Приняв такое толкование, мы должны исключить словен из «русских в целом». Остается княжеская дружина, которая, как нам думается, и скрывалась за обозначением «русь». В плане полемики с Д. С. Лихачевым надо сказать, что новгородцы едва ли имели основание быть недовольными своим «невидным положением в войске». Олег выделил их из общей массы воинов вместе с дружиной, именуемой русью, что как раз свидетельствует о видном их положении в войске… Об этом же говорит еще одна немаловажная деталь: «Царь же Леон со Олександром мир сотвориста со Олгом, имшеся по дань и роте заходивше межы собою, целовавше сами крест, а Олга водивше на роту, и мужи его по Рускому закону кляшася оружьем своим, и Перуном, богом своим, и Волосом, скотьем богом, и утвердиша мир».{65} Как показывают разыскания специалистов, культ Перуна был распространен преимущественно в южных областях восточнославянской территории, а Волоса (Велеса) – в северных.{66} Об отправлении культа Волоса в Новгородской земле свидетельствуют многочисленные факты, относящиеся к личным именам в новгородских летописях и грамотах, а также к топонимике.{67} Упоминание в формуле присяги двух божеств (Перуна и Волоса) вполне оправдано, поскольку в походе Олега «на Грекы» участвовали как южные, так и северные восточнославянские племена. Клятва приверженцев Перуна и Волоса осуществлялась на условиях равенства. Можно предположить, что к заключению договора Олега с греками были причастны и словене как главное племя северо-западного межплеменного союза, военную мощь которого князь использовал в войне с Византией. Нашему предположению, казалось бы, противоречит отсутствие Новгорода в перечне городов, на которые Олег «заповеда дати уклады».{68} Д. С. Лихачев находит в этом подтверждение «невидного положения» новгородцев в войске Олега.{69} Не будем забывать, что договоры Руси с греками сохранились в составе Повести временных лет, написанной в Киеве. Статьи договора 907 г., трактующие об «укладах», летописец дает в пересказе, о чем свидетельствует фраза «и на прочаа городы», которая вряд ли могла быть внесена в соглашение из-за своей неопределенности.{70} Поэтому ее надо отнести к творчеству летописца. А это значит, что он мог исключить Новгород из называемых договором городов, переведя его в разряд «прочаа».{71}
Трудно сказать, с Киевом или Новгородом был прочнее связан Олег. Согласно Новгородской Первой летописи, князь вскоре после возвращения из похода на Царьград «иде к Новугороду и оттуда в Ладогу. Друзии же сказывають, яко идущю ему за море, и уклюну змиа в ногу, и с того умре; есть могыла его в Ладозе».{72} Южный летописец поместил в своем своде красочную легенду о пророчески предреченной волхвами смерти Олега от собственного коня: князь умер от укуса змеи, выползшей из черепа коня, на кости которого он пришел поглядеть.{73} Б. А. Рыбаков почувствовал в этой легенде «антиваряжскую тенденцию», ибо «образ коня в русском фольклоре всегда очень благожелателен, и если уж хозяину – варяжскому князю предречена смерть от его боевого коня, значит, он того заслуживает».{74} Отрицательная тенденция по отношению к Олегу в предании, безусловно, просматривается, но ее мы не стали бы называть «антиваряжской». Е. А. Рыдзевская, сопоставив рассказ о смерти Олега с аналогичным повествованием из саги об Орвар-Одде, пришла к выводам, отталкиваясь от которых получаем возможность ближе подойти к правильному пониманию негативной настроенности предания к нашему герою. «Со стороны фольклора, – говорит Е. А. Рыдзевская, – в той разновидности основного сюжета, где роковую роль играет конь (Олег, Одд и некоторые другие), обращает на себя внимание следующее. Конская голова по верованиям многих народов имеет магическое значение как предмет защитный, благоприятный, приносящий счастье. Здесь же она, наоборот, приносит смерть владельцу коня. Причиной гибели является, таким образом, предмет, обладающий благотворной магической силой, но обращенный на этот раз против своего же владельца… Не содержит ли в себе пророчество такой смерти элемент проклятия? В отношении Орвар-Одда это возможно».{75} Что касается Олега, то в летописном предании о нем «нет никаких прямых указаний на элемент мести и проклятия в пророчестве кудесника. Лишь в виде предположения, может быть, слишком смелого, можно думать о выразившемся в этом враждебном отношении местного населения к Олегу как к завоевателю, захватчику и в такой роли, очевидно, большому любителю добычи и обильной дани».{76}
Нам уже известны обстоятельства вокняжения Олега в Киеве. Он пришел туда как завоеватель, убивший местных правителей и захвативший их власть. В результате завоевания киевляне, как и все, вероятно, поляне, были обложены данью в пользу словен и союзных им северных племен. Тем самым Олег нанес полянам страшный удар, поскольку данничество считалось в те времена постыдным и недостойным сильного и свободного народа.{77} Эти действия князя должны были оставить неприятный след в памяти полянской общины, что и запечатлело в иносказательной фольклорной форме предание о его смерти, возникшее, как показал А. А. Шахматов, в Южной Руси, т. е. там, где жили «обиженные» Олегом племена.{78}
Надо сказать, что летописный материал об Олеге не однозначен. Кроме южной легенды, содержащей элементы отрицательного отношения к нему, в летописи представлена всенародная скорбь по случаю княжеской кончины: «И плакашася людие вси плачем великим, и несоша и погребоша его на горе, еже глаголеться Щековица; есть же могила его и до сего дни, словеть могыла Ольгова».{79} Однако это не единственная могила Олега. Кроме Киева, могилы князя показывали в Ладоге и в других местах Новгородской земли.{80} Нас может озадачить такое множество могил Олега. Чтобы понять это странное для современного человека явление, нужно вспомнить о прозвании Олега Вещим, что говорило о его сверхъестественной силе и знаниях.{81} Именно поэтому он пользовался, по словам Х. Ловмяньского, «необычайной симпатией и почетом в языческие времена».{82} Захоронение подобных правителей было довольно своеобразным, о чем свидетельствуют сравнительно-исторические данные. «Сага об Инглингах» рассказывает о конунге Хальвдане Черном, снискавшем всеобщую любовь у людей. И вот когда «стало известно, что он умер и тело его привезено в Хрингарики, где его собирались похоронить, туда приехали знатные из Раумарики, Вестфольда и Хейдмерка и просили, чтобы им дали похоронить тело в своем фюльке. Они считали, что это обеспечило бы им урожайные годы. Помирились на том, что тело было разделено на четыре части и голову погребли в кургане у камня в Хрингарики, а другие части каждый увез к себе, и они были погребены в курганах, которые назывались курганами Хальвдана».{83} А. Я. Гуревич, комментируя этот рассказ о погребении Хальвдана Черного, со ссылкой на исследователей замечает: «В действительности Хальвдан был погребен в кургане близ Стейна (в Хрингарики), а в других областях в память о нем были насыпаны курганы».{84} Могилы Олега Вещего демонстрируют, вероятно, аналогичный случай.{85} Насыпанные в честь умершего князя курганы указывают на существование в языческие времена его культа.{86} Почитание Олега в словенской земле было бы невозможно, если бы местное население ассоциировало с ним насилие, подчинение Киеву, установление даннической зависимости. Репутация Олега у словен была совсем иная. Поэтому они и воздвигали в память о нем курганы, служившие местом поклонения и молений.{87}
С именем Олега новгородские словене связывали воспоминание о победе над Киевом. Б. Д. Греков с полным основанием писал о том, что «именно Новгород сумел накопить достаточно сил, чтобы совершить большой поход на юг и занять Киев».{88} Признание этого факта делает несостоятельным утверждение ученых о зависимости словен от Киева, возникшей вследствие вокняжения в нем Олега.
Территориальные пределы власти Олега в качестве киевского князя очерчены летописью: «И бе обладая Олег поляны, и деревляны, и северяны, и радимичи…».{89} Словене и даже смоленские кривичи оказались вне обозначенного ареала. И тем не менее В. В. Седов уверенно вводит Смоленскую землю в состав Древнерусского государства уже с X в.{90} О прочном «данническом контакте», который «наладился» у Киева со Смоленском еще со времен Олега, говорит Л. В. Алексеева.{91} Осторожнее рассуждал А. Н. Насонов, хотя и он полагал, что «Смоленск должен был признать господство киевского князя» в конце IX в. Но как это произошло, он в точности не знал. «В Смоленске южнорусские князья в X в. не стремились, по-видимому, создать своей базы, подобно тому как они стремились к этому в Новгороде или близ Новгорода». Возможно, киевские князья «посылали в Смоленск своих „мужей”, но ни о каких „мужах”, посаженных в Смоленске Игорем, летописец первоначально не говорил, судя по тексту Новгородской I-й летописи».{92} А. Н. Насонов вынужден «констатировать отсутствие известий о Смоленске в киевских летописях до второй половины XI в.: Древнейший киевский свод носил местный, южнорусский характер».{93} О чем это свидетельствует? Конечно же, о малой заинтересованности киевской общины жизнью смоленских кривичей, об иллюзорности «прочного даннического контакта» Киева со Смоленском, о чем без тени сомнений пишет Л. В. Алексеев.{94}
Пользуясь летописными сведениями о событиях на Руси конца IX – начала X в., нельзя ни на минуту забывать, что политическая обстановка и круг доступных летописцам XI в. наблюдений определяли суть рассказа о распространении власти киевского князя на север. Осмысливая известные им факты о давно минувших временах, летописцы находились под впечатлением современных им отношений.{95} Эти соображения А. Н. Насонова имеют важное методическое значение. Необходимо прислушаться и к предостережениям В. А. Пархоменко, по словам которого, в начале XII в. автор Повести временных лет, «узнав из обнаруженного тогда Олегова договора с Византией, что Олег был некогда „русским князем”, сообразно представлениям той эпохи, признал его за Киевского князя и, за неимением о нем точных данных и ввиду наличности славного, но неясного предания о нем, возвел его в совершителя того объединения восточнославянских племен в единую Русь, о котором он сам мечтал в соответствии с распространившимися тогда на Руси идеями».{96}
Все сказанное выше позволяет скептически оценить популярные в историографии представления о произошедшем якобы объединении Киева и Новгорода в результате перемещения Олега с берегов Волхова на берега Днепра. Это объединение, по общепринятому мнению, знаменовало рождение Древнерусского государства с центром в Киеве. «Под Древнерусским государством, – писал Б. Д. Греков, – мы понимаем то большое раннефеодальное государство, которое возникло в результате объединения Новгородской Руси с Киевской Русью».{97} В приподнятом тоне об этом «объединении» говорит П. П. Толочко: «Особой вехой в жизни Киева является 882 г. На киевском столе произошла смена династий. Власть захватил новгородский князь Олег (882–912 гг.), при котором объединились Южная и Северная Русь. Киев стал столицей огромной державы. Успех объединения восточнославянских земель в единое государство нередко связывают с удачной политикой Олега. На самом деле оно было обусловлено всем ходом истории; в его основе лежали факторы экономического, политического и культурного развития восточного славянства».{98}
Идея объединения Южной и Северной Руси кажется сейчас настолько очевидной, что проникла в учебники. В одном из них, недавно изданном и предназначенном для высшей школы, читаем: «Объединение под властью одного князя Киева и Новгорода, важнейших центров двух основных ветвей восточного славянства, было важнейшим этапом развития древнерусской государственности. Если до взятия Киева Олегом можно говорить о существовании на Руси государственности и государства, то с этого момента мы вправе уже говорить о существовании Древнерусского государства».{99}
Как ни жаль расставаться с мыслью о Древнерусском государстве, объединявшем в конце IX в. Северную и Южную Русь, все-таки придется это сделать, чтобы выйти, наконец, из состояния возвышающего нас обмана и вернуться к реальной истории. В лучшем случае здесь можно вести речь об установлении союзнических отношений между северными племенами во главе со словенами и Русской землей, возглавляемой полянами, причем о таких союзнических отношениях, которые строились на принципах равенства, а не зависимости от Киева.{100} Дань, уплачиваемая словенами Киеву по Олегову велению, – ученый миф, культивируемый десятки, даже. сотни лет, но исчезающий при соприкосновении с внимательным и непредвзятым исследованием летописных текстов.
В конце IX в. Киев еще не имел достаточно сил для установления и удержания господства под Новгородом. Само образование Русской земли со столицей в Киеве, завершилось, как показал А. Н. Насонов, незадолго до княжения Олега.{101} Поэтому первоочередной задачей киевских правителей в рассматриваемое время являлось подчинение соседних восточно-славянских племен. Задача эта была не из простых. Достаточно вспомнить упорное сопротивление древлян, не желавших повиноваться Киеву, чтобы убедиться в том. Однако Киев все-же «примучил» близживущие племена и протянул щупальцы к Новгороду. Первые признаки зависимости Новгорода от Киева проступают где-то в середине X в. Один из них проявился в сфере религиозной.
Киевская знать для поддержания власти над покоренными и покоряемыми племенами прибегала не только к военным, но и к идеологическим средствам. Предпринимается, в частности, попытка превратить Киев в религиозный центр восточного славянства. С этой целью языческое капище с изваянием Перуна, располагавшееся первоначально в черте древнейших городских укреплений, выносится на новое место, доступное всем, прибывающим в центр Русской земли.{102} Если раньше бог словен Волос выступал на равных с богом полян Перуном, то теперь картина меняется. К походу Игоря на Византию были привлечены словене и кривичи. Но в тексте присяги нового договора назван лишь Перун, а Волос не упомянут.{103} Обращает внимание и порядок перечисления племен, участвующих в походе 944 г. В летописной статье, повествующей о воинах Олега, словене фигурируют на втором после варягов месте, тогда как поляне значатся примерно в середине списка, а в рассказе о движении Игорева войска поляне поставлены впереди словен вслед за варягами и русью.{104} Именно к данному случаю подошли бы слова Д. С. Лихачева о «невидном положении» словен в войске Игоря, в то время как в войске Олега ситуация, насколько мы знаем, была иной.
Признаком зависимости Новгорода от Киева надо считать и правление в нем Святослава, о чем сообщает Константин Багрянородный, рассказывая о моноксилах, приходящих в Константинополь из «Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии».{105} Х. Ловмяньский, обратив внимание на то, что император говорит о пребывании Святослава в Новгороде в прошедшем времени, высказал предположение, согласно которому К. Багрянородный узнал об этом факте «при заключении договора 944 г., а в момент написания труда не был уверен, действительно ли Святослав еще правит в Новгороде».{106}
Святослав «бе детеск». Поэтому княжение его в Новгороде было номинальным. Есть предположение, что за него правил кормилец Асмуд.{107} Впрочем, оно основано только на том, что у Святослава, по свидетельству летописца, был кормилец по имени Асмуд. С большим основанием мы можем говорить о том, почему младенец Святослав, а никто другой оказался на княжении в Новгороде. Сам факт княжения в Новгороде сына киевского князя выдает большую заинтересованность Киева в северо-западном регионе Восточной Европы, стремление его правителей стать тут «прочной ногой». Посылая Святослава к новгородским словенам, Игорь старался крепче привязать их к себе. Но в чем причина отправки именно малолетнего княжича к новгородцам? Ведь проще, казалось бы, направить туда какого-нибудь «мужа» в качестве посадника. Видимо, то была уступка требованию новгородцев дать им князя, а не простого смертного. Наличие собственного князя, хотя и пришлого, больше устраивало Новгород, поскольку в некотором роде уравнивало его с Киевом, а также открывало возможность использования новгородцами княжеской власти в своих сепаратистских устремлениях. Вместе с тем нельзя забывать о сакральных мотивах, побуждавших новгородцев настаивать на приезде из Киева правителя княжеского достоинства. На князе лежала обязанность исполнения определенных жреческих функций, и без него нормальное отправление языческого культа было невозможно. Словом, с точки зрения религиозной, местное общество нуждалось в князе. И еще один важный момент: на князя новгородцы, подобно другим древним народам, смотрели как на существо высшего порядка, наделенное сверхъестественными способностями, присутствие которого благотворно отражалось на жизни людей. Еще С. М. Соловьев по поводу просьбы новгородцев дать им князя, обращенной к Святославу, замечал: «Мы знаем религиозное уважение, которое питали Северные народы к князьям, как потомкам богов, одаренным вследствие того особенным счастием на войне».{108}
Зависимое от киевских властителей положение Новгорода проглядывает в известиях Повести временных лет о поездке княгини Ольги в Новгородскую землю: «Иде Вольга Новугороду, и устави по Мьсте повосты и дани и по Лузе оброки и дани; и ловища ея суть по всей земли, знаменья и места и повосты…»{109} Нельзя согласиться с исследователями, которые рассматривают эту поездку Ольги в плане проведения ею крупной политической, финансово-административной и хозяйственной реформы.{110} Такого рода представления лежат в плоскости современных понятий и категорий. Смысл ее действий не столь грандиозен, как в этом пытаются нас уверить. Мероприятия княгини, связанные с данями, четко локализованы районами Луги и Мсты. Если учесть, что по Луге тогда жила водь,{111} а по Мсте «сидела» весь,{112} то легко понять, что цель Ольги здесь состояла в получении дани с названных иноязычных племен. И вряд ли дань тут вводилась впервые. Ранее она поступала в Новгород. Теперь же ее (частично или полностью, сказать затрудняемся) присвоила киевская княгиня. Такое могло произойти только при условии реальной власти Киева над Новгородом. Опираясь на эту власть, Ольга устроила погосты, куда свозилась дань, и произвела заимки под охотничьи угодья – «ловища».
Сообщение о поездке Ольги в Новгород ценно для нас не только своим конкретным содержанием, но и тем, что позволяет сделать выводы общего порядка, относящиеся к проблеме эволюции новгородской государственности. Речь идет о публичной власти и материальном ее обеспечении. Князья, приезжающие на княжение в Новгород из Киева, будучи сторонними правителями, слабо связанными с местным обществом, благодаря уже этому свойству способствовали дальнейшему укреплению публичной власти, ее переходу в более развитую фазу. Но это еще не все. Власть, охраняющая господство Киева над Новгородом, неизбежно должна была прибегать к насилию, что углубляло разрыв между новгородцами и князем с его дружиной – носителями этой власти. Публичная власть в Новгороде получила, следовательно, новый импульс. Распоряжения Ольги служат иллюстрацией публичной власти в действии. Вместе с тем они указывают и на источник содержания тех, кто осуществлял данную власть. Это – дани, которые можно рассматривать как некое подобие налогов, как прообраз налоговой системы. Таким образом, наряду с публичной властью мы находим в Новгороде середины X в. другой элемент государственности – взимание поборов, идущих на содержание ее представителей. Оба государственных элемента еще довольно примитивны, что объясняется характером общественных связей того времени, не вышедших пока за рамки клонящегося к упадку родоплеменного строя.
Отношения киевских князей с Новгородом не были ровными и монотонными. В княжение Игоря новгородцы, как мы видели, оказались в подчинении у Киева. Киевские правители «примучивали» также соседние племенные союзы, сколачивая общевосточнославянский суперсоюз под гегемонией полянской общины.{113} Им пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением племен, не желающих повиноваться завоевателям. Драматичной оказалась судьба самого киевского князя Игоря, погибшего в древлянских лесах. Попытка сделать Киев религиозным центром восточного славянства посредством провозглашения Перуна верховным богом провалилась.
С вокняжением в Киеве Святослава зависимость Новгорода от днепровской столицы несколько смягчилась. Причиной тому был ряд обстоятельств. Убийство древлянами Игоря заставило киевскую знать перейти к более гибкой политике и согласиться на некоторые уступки «примученным» племенам.{114} Не прошло даром и новгородское «сидение» Святослава. Княжа в Новгороде, он, конечно же, в некоторой мере сблизился с новгородцами. Вполне допустимо, что дружина его пополнилась «мужами»-словенами, как бывало прежде, в Олеговы времена. Некоторые из них могли попасть в ближайшее окружение князя и уйти вместе с ним в Киев. Дружина Святослава отличалась решительным неприятием христианства. «Како аз хочю ин закон прияти един? А дружина моа сему смеятися начнуть», – отвечал, если верить летописцу, Святослав на призывы матери своей принять крещение. Языческий дух княжеской дружины укрепляли, наверное, и новгородцы. Заметим попутно, что именно новгородцы на протяжении веков проявляли особую приверженность языческим традициям.{115}
Оживлению самостоятельности новгородцев содействовало известное по летописи безразличие к Киеву со стороны Святослава – неугомонного витязя, искавшего счастья в чужих краях и воображавшего, будто «середа» земли его, куда «вся благая сходятся», в «Переяславци на Дунай».{116} Обиженные княжеским небрежением «кияне» говорили Святославу: «Ты, княже, чюжее земли ищеши и блюдеши, а своея ся охабив…»{117}
Далекие походы, нескончаемые войны, которыми упивался Святослав, требовали большого количества воинов. Новгородцы, «дерзи к боеви», занимали в войске Святослава далеко не последнее место. Их роль настолько значительна, что в формуле присяги договора Святослава с Цимисхием вновь появляется бог северных племен Волос: «Да имеем клятву от бога, в его же веруем в Перуна и в Волоса, скотья бога, и да будем золоти, яко золото, и своим оружьем да исечени будем»{118} Упоминание Волоса наравне с Перуном делает правомерным предположение, что новгородские словене в лице своих лидеров были причастны к заключению русско-византийского договора, состоявшегося «при Святославе, велицем князи рустем, и при Свеналде».
Итак, в княжение Святослава мы наблюдаем определенное ослабление зависимости Новгорода от Киева. Новгородцы позволяют себе даже некоторую заносчивость в обращении с киевским князем. В 970 г. к Святославу в Киев «придоша людье ноугородьстии, просяще князя собе: „Аще не пойдете к нам, то налезем князя собе”. И рече к ним Святослав: „А бы пошел кто к вам”. И отпреся Ярополк и Олег. И рече Добрыня: „Просите Володимера”… И реша ноугородьци Святославу: „Въдай ны Володимира”. Он же рече им: „Вото вы есть”. И пояша ноугородьци Володимера к собе, и иде Володимирь с Добрынею, уем своимь, Ноугороду, а Святослав Переяславцю».{119} В. А. Пархоменко недоверчиво относился к приведенной летописной записи. «Самое это призвание, – писал он, – есть факт полулегендарного, полукомбинированного характера, поскольку он связан с использованием известных фактов позднейших приглашений Новгородом себе князей».{120} Можно сомневаться в подробностях рассказа летописца о приходе новгородцев в Киев за князем, даже – в самом рассказе, но вряд ли стоит отвергать общий смысл их требования или объяснять его, исходя только из «фактов позднейших приглашений Новгородом себе князей». Это требование, на наш взгляд, необходимо понимать как выражение борьбы новгородцев за возобновление в своем городе княжения и неприятия ими посадничества. С. М. Соловьев со знанием дела замечал, что «жители северной области, новгородцы, не любили жить без князя или управляться посадником из Киева».{121} Притязание на княжение свидетельствует о сознании новгородцами собственной силы, с одной стороны, и об известном ослаблении зависимости Новгорода от Киева – с другой.{122} Но до коренной ломки отношений было еще далеко. Между тем И. Д. Беляев говорил: «С 970 года отношения Новгорода к князьям несколько изменились. Перед отправлением киевского князя Святослава вторично в Дунайскую Болгарию, новгородцы, как вольные люди, отправили к нему посольство с требованием прислать к ним в князья которого либо сына и с угрозою в случае отказа сыскать себе князя в другом месте… Новгородцы получили себе особого князя и, по-видимому, к ним возвратились времена Рюрика. Киевский князь уже не мог посылать в Новгород своих посадников…»{123} О возвращении «времен Рюрика» новгородцы едва ли помышляли. Но усилить свою самостоятельность с помощью княжения они, очевидно, старались.
Нельзя было надеяться на спокойное правление в Новгороде. Поэтому от поездки туда Ярополк и Олег «отпреся».{124} Владимир, не наделенный в отличие от своих братьев княжеским столом, ухватился за предложение новгородцев и поехал в волховскую столицу. Можно говорить, что «Владимир I Святославич стал новгородским князем, благодаря рекомендации Добрыни», но нельзя утверждать, будто Добрыня «сделал Владимира новгородским князем».{125} Еще меньше оснований рассуждать о каком-то захвате Владимиром власти в Новгороде «с помощью своего дяди Добрыни».{126} Если не осложнять летописный рассказ всевозможными домыслами, то останутся не подлежащими сомнению два момента: приглашение на княжение и согласие Владимира, а точнее – Святослава.
О том, как правил Владимир в Новгороде, летописцы почти ничего не сообщают. Лишь под 980 г. в Повести временных лет говорится о войне Владимира с полоцким князем Рогволодом на матримониальной почве: «И посла ко Рогъволоду Полотьску, глаголя: „Хочю пояти дщерь твою собе жене”. Он же рече дщери своей: „Дочеши ли за Володимера?” Она же рече: „Не хочю розути рабичича, но Ярополка хочю”… И придоша отроци Володимерови, и поведаша ему всю речь Рогънедину… Володимер же собра вои многи, варяги и словене, чюдь и кривичи, и поиде на Рогъволода. В се же время хотячу Рогънедь вести за Ярополка. И приде Володимер на Полотеск, и уби Рогъволода и сына его два, и дъчерь его поя жене».{127} В Лаврентьевской летописи под 1128 г. этот рассказ повторяется снова, но уже в несколько ином варианте. Владимир в нем пассивен, поступая так, как велит ему Добрыня, действующий властно и самоуверенно: «Роговолоду держащю и владеющю и княжащю Полотьскую землю, а Володимеру сущю Новегороде, детьску сущю и погану еще, и бе у него уи его Добрына, воевода и храбор и наряден мужь. Сь посла к Роговолоду и проси у него дщере его за Володимера, он же рече дъщери своей: „хощеши ли за Володимера?” Она же рече: „не хочю розути робичича, но Ярополка хочю”. Бе бо Роговолод перешел из заморья, имеяше волость свою Полтеск. Слышавше же Володимер разгневася… пожалиси Добрына и исполниси ярости, и поемше вои и идоша на Полтеск и победиста Роговолода. Рогъволод же вбеже в город, и приступивше к городу и взяша город, и самого князя Роговолода яша и жену его и дщерь его, и Добрына поноси ему и дщери его, нарек ей робичица, и повеле Володимеру быти с нею пред отцем ея и матерью. Потом отца ея уби, а саму поя жене и нарекоша ей имя Горислава…»{128}
Предание о сватовстве Владимира и его походе против Рогволода изучалось с точки зрения заимствований из старонемецкого эпоса{129} и скандинавских саг.{130} Более плодотворным надо признать сближение этого предания с русским эпосом, в частности с былиной о Дунае. Перед нами рассказ, пронизанный фольклорными мотивами сватовства и поездки эпического героя за невестой, характерными для эпохи распада родоплеменного строя,{131} т. е. того самого времени, когда жил Владимир.{132} Эпосоведы отмечали сюжетную близость предания с былиной о Дунае. «Генетическая связь сюжетной канвы былины с историческим преданием не вызывает никаких сомнений», – писал В. Г. Базанов.{133} Разумеется, тут нет заимствования ни с одной, ни с другой стороны. В. Я. Пропп подчеркивал, что в данном случае «ни эпос, ни летопись ничего не „заимствуют”, они выражают одинаковую народную мысль».{134} Однако наша задача состоит не в том, чтобы углубляться в тонкости устной народной поэзии. Нам хотелось бы за фольклорной дымкой рассказа распознать черты реальной жизни. Выполненный в эпическом стиле, он приоткрывает завесу над отношениями Новгорода с Полоцком в последней четверти X в.