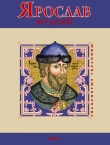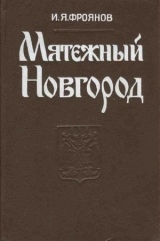
Текст книги "Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы конца IX – начала XIII века"
Автор книги: Игорь Фроянов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Очерк четвертый
СТАНОВЛЕНИЕ НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В XI СТОЛЕТИИ. ВОЛНЕНИЯ В НОВГОРОДЕ 1015–1016 И 1071 гг.
Во второй половине X в. на территории Восточной Европы сложился огромный межплеменной суперсоюз (союз союзов), вобравший в себя практически все восточнославянские племена. То был общенациональный, если можно так выразиться, союз восточных славян под гегемонией Киева, т. е. полянской общины.{1} Образование его знаменовало высший этап развития родоплеменных отношений у восточного славянства и вместе с тем начало их упадка и разложения. Особенно интенсивным распад родоплеменных связей становится в конце X – начале XI в.,{2} в результате чего племенные союзы постепенно уступают место союзам территориальных общин, именуемым в летописях волостями и землями. Они состояли из главных городов, пригородов и прилегающих к ним сельских округ. Господствующее положение в этой системе занимала община главного города. Такого рода социально-политические образования во многом схожи с городами-государствами древних обществ. В XI–XII вв. мы и наблюдаем строительство городов-государств, или городских волостей.{3} По мере их развития создавался механизм управления, конституировались волостные органы, иными словами, шел процесс «мужания» городов-государств, представлявших собою республики с демократическим уклоном. Важнейшим фактором истории государства той поры следует считать появление такого признака государственности, как размещение населения по территориальному принципу. Становление государства на Руси тем самым завершилось.{4} Все это присуще было и Новгороду.
Кризис родовых отношений, изнурительная война с печенегами подорвали могущество Киева. Его господство в Новгороде пошатнулось. По сообщению Повести временных лет, записанному под 1014 г., князь Ярослав, сидевший на новгородском столе, «уроком дающю Кыеву две тысяче гривен от года до года, а тысячю Новегороде гридем раздаваху. И тако даяху вси посадници новъгородьстии, а Ярослав сего не даяше к Кыеву отцю своему. И рече Володимерь: „Требите путь и мостите мост”, – хотяшеть бо на Ярослава ити, на сына своего, но разболеся».{5} Под словом «урок» подразумевалась скорее всего дань, имеющая определенные размеры, обусловленные уговором, соглашением.{6} Значит, Ярослав, являясь новгородским князем, отказал в уплате дани своему отцу, киевскому князю Владимиру. Если вспомнить, что данничество тогда было главной формой зависимости подчиненных Киеву восточнославянских племен, то поступок Ярослава не может быть истолкован иначе, как стремление освободиться от этой зависимости.{7} Князь, нарушая привычные отношения с днепровской столицей, вряд ли преследовал только собственные цели.{8} Его политика отвечала интересам новгородцев.{9} Вот почему можно предположить, что к разрыву с отцом Ярослава побуждали новгородцы, тяготившиеся обязанностью «давать дань» Киеву. Во всяком случае, без их поддержки Ярослав не вступил бы в борьбу с Киевом.
По А. Н. Насонову, местная знать хотела «иметь своего новгородского князя или посадника и в его лице – проводника и защитника своих интересов». Князь Ярослав «в некоторой степени отвечал» ее запросам.{10} «Пока он сидел в Новгороде при жизни отца, он втянулся, видимо, в новгородские интересы, стал как бы проводником их интересов».{11} Здесь у А. Н. Насонова, на наш взгляд, все верно, за исключением того, что Ярослав проникался интересами лишь знати. По нашему мнению, деятельность князя направлялась в немалой мере новгородской общиной в целом. Да и знатные новгородцы не противостояли рядовым, составляя с ними единую, еще не разделенную на классы социальную организацию.
Южный летописец, поведавший о прекращении выплаты дани Ярославом Киеву, как будто не различал новгородских князей и посадников начала XI в. Правда, в Новгородской Первой летописи младшего извода вместо посадников Повести временных лет выступают князья: «И тако даяху въси князи новгородстии».{12} В Никоновской летописи «князи» персонифицированы: «…якоже и Вышеслав преже, такоже и сам Ярослав даяще, также не въсхоте давати отцу своему…»{13} В. Л. Янин, отдающий предпочтение тексту Повести временных лет, пишет: «Этот текст практически ставит знак равенства между посадниками ранней поры и князьями, получившими власть над Новгородом из рук киевского князя. Между понятиями „новгородский князь” и „новгородский посадник” была незначительная разница, которая вызывалась разной емкостью понятий. Все новгородские князья раннего времени были посадниками, но не все новгородские посадники были князьями, так как термин „князь” определяет не только характер власти, но и принадлежность к потомству Рюрика».{14} Какое-то время нам казалось, что соображения В. Л. Янина закрывают вопрос.{15} Но теперь, после проведенного исследования политической истории Новгорода конца IX–X вв., мы убедились в том, что обсуждение данного вопроса может быть продолжено. Нельзя, вероятно, рассуждать тут безотносительно к тому, с чьей стороны определяются понятия «князь» и «посадник»: киевской или новгородской. То, о чем говорит В. Л. Янин, характеризует взгляд великого киевского князя. Для него действительно все князья, направленные из Киева в Новгород, – посадники. Поэтому княжение и посадничество в глазах киевских правителей мало чем отличались друг от друга. Эта точка зрения и нашла отражение в киевской летописи, т. е. в Повести временных лет. Иначе виделось соотношение княжения и посадничества с волховских берегов. Новгородцы не смешивали княжения с посадничеством.{16} Они предпочитали иметь у себя князя, а не посадника. Борьба новгородцев за княжение явственно прослеживается по источникам второй половины X в. Прибытие в Новгород посадника воспринималось местным населением как ущемление свободы и установление более откровенной и неприкрытой зависимости от Киева. Этот взгляд на посадников хорошо обозначил владимирский летописец, рассказывая о том, как ростовцы и суздальцы в знак господства над городом Владимиром собирались посадить в нем посадника.{17} Понятно и то, почему новгородский пригород Псков, как, впрочем, и многие другие пригороды различных земель-волостей Древней Руси, старались учредить в своем городе княжение взамен посадничества, чтобы выделиться в самостоятельную волость, независимую от метрополии.{18} В XII в. повторялось то, что происходило раньше, но только не в пределах Руси, а в рамках отдельных волостных союзов.
Возвращаясь к Ярославу, отказавшемуся посылать дань в Киев, надо сказать, что в его поведении отразились интересы Новгорода, с одной стороны, и усиление последнего – с другой. Однако вскоре отношения новгородцев с князем омрачились. Ярослав, «бояся отца своего», привел в Новгород «из-за моря» варягов. И те от сытой жизни и безделья «насилье творяху новгородцем и женам их. Вставше новгородци избиша варягы во дворе Поромони. И разгневася Ярослав, и шед на Роком, седе во дворе. Послав к новгородцем, рече: „Уже мне сих не крести”. И позва к собе нарочитые мужи, иже бяху иссекли варягы, и обльстив я исече».{19}
В исторической литературе избиение новгородцами варягов нередко именуют «восстанием»,{20} а порой – «большим восстанием».{21} М. Н. Тихомиров, принадлежащий к числу ученых, развивающих идею о восстании, следующим образом доказывает ее правомерность: «Насилия варяжских дружинников Ярослава вызвали восстание новгородцев, перебивших варягов на „Поромоне дворе”. Слова „вставше новгородци”, т. е. „восстали новгородцы”, прямо указывают, что в Новгороде произошло именно восстание».{22} Но эти слова могут означать также и несколько иное: «выступили новгородцы», «поднялись новгородцы».{23} Видимо, восстание нашим историкам понадобилось для того, чтобы придать произошедшему кровопролитию характер классового конфликта. Поэтому Л. В. Черепнин среди причин восстания называет «увеличение повинностей с населения», вызванное необходимостью содержания варягов,{24} а В. И. Буганов утверждает, что движение новгородцев было направлено «против гнета и насилий части дружины местного князя, и это обстоятельство придает ему несомненные черты классового выступления новгородских людей, которые „вставше”, по словам летописца, т. е. „восстали”, против насильников». Расправа же Ярослава с новгородцами в Ракоме – это, считает В. И. Буганов, «классовая месть главы местной власти по отношению к новгородцам».{25}
Начнем с того, что в древних источниках нет сведении, говорящих об «увеличении повинностей с населения» или о «гнете», которому оно подвергалось.{26} Непонятно, почему наемники-варяги являются «частью дружины местного князя», а не войска. Столь аморфные представления о дружине, составлявшей, заметим попутно, ближайшее окружение князя,{27} способны только затемнить картину, но не прояснить ее. Самое же главное заключается в том, что столкновение новгородцев с варягами и ответная кровавая акция Ярослава возникли отнюдь не на классовой почве. Участники событий в Новгороде – свободные люди: с одной стороны, новгородцы, простые и знатные, а с другой – варяги и Ярослав с дружиной. Где же тут классы? Их нет. Они существуют лишь в воображении историков, готовых в любой общественной коллизии найти классовую подоплеку. И последнее замечание: термин «восстание» едва ли равнозначен избиению варягов на «Поромоне дворе». Применение его заранее предполагает наличие острых социальных противоречий в новгородском обществе, чреватых взрывами и потрясениями. Надо помнить об условности этого термина, а еще лучше – отказаться от него.
Столкновение новгородцев с варягами произошло на бытовой почве из-за разнузданного поведения сластолюбивых варягов, покушавшихся на целомудрие замужних женщин Новгорода.{28} Но затем оно переросло в политический конфликт между князем и новгородской общиной.
Убийство варягов на «Поромоне дворе» обернулось для части новгородцев трагическими последствиями. Ярослав, разгневанный таким «самоуправством», заманил новгородских «мужей» к себе в ракомскую резиденцию и там их всех перерезал. Повесть временных лет называет пострадавших мужей «нарочитыми»,{29} а Новгородская Первая летопись младшего извода говорит о них описательно: «вои славны тысяща».{30} Поздние сводчики, соединив сообщения киевской и новгородской летописей, изображали дело так, будто Ярослав истребил в Ракоме 1000 «нарочитых мужей».{31} Им следовал В. Н. Татищев: «Пришли к нему (Ярославу. – И.Ф.) знатных новгородцов. до 1000, междо оными и те, которые наиболее в побитии варяг повинны были. Он же… велел варягом всех побить».{32} Осторожнее поступил Н. М. Карамзин, который, опустив свидетельство летописи о количестве убитых в Ракоме новгородцев, писал: «Ярослав утаил гнев свой, выехал в загородный дворец, на Ракому, и велел, с притворною ласкою, звать к себе именитых Новгородцев, виновников сего убийства. Они явились без оружия, думая оправдаться пред своим Князем; но Князь не устыдился быть вероломным, и предал их смерти».{33} С. М. Соловьев говорит о «главных из убийц», добавляя при этом: «По некоторым известиям, было убито 1000 человек, а другие убежали».{34} Согласно Н. И. Костомарову, Ярослав позвал «к себе зачинщиков, вероятно, на мировую. Обольщенные его словами, они явились и были изрублены».{35}
Свою лепту в расшифровку этого темного места летописи внесли и советские историки. «Нет никакого сомнения в том, – замечал В. В. Мавродин, – что „вои славны тысящу” – это совсем не тысяча славных воинов, а „нарочитые мужи”, входившие в состав особой военной организации – тысячи…».{36} Д. С. Лихачев высказал догадку, по которой «нарочитые мужи» Повести временных лет есть своеобразный перевод выражения «вои славны тысяща» Новгородской Первой летописи.{37} Того же мнения держится Л. В. Черепнин.{38} К «нарочитым мужам» относит «посеченных» в Ракоме новгородцев и М. Н. Тихомиров.{39} Способом механического соединения известий Повести временных лет и Новгородской Первой летописи выходит из положения М. Б. Свердлов: «Разгневанный Ярослав обманом зазвал на княжеский двор „нарочитых” новгородских мужей и „исече” „вои славны, тысящю”…»{40} Если упомянутые исследователи остерегаются оперировать числом убитых, то Б. А. Рыбаков, поверив полностью поздним летописцам, говорит, что Ярослав заманил «1000 славных воинов (возможно, бояр и воевод новгородской тысячи) и изрубил их в отместку за варягов».{41} Наконец, согласно В. Ф. Андрееву, Ярослав «собрал самых знатных новгородцев на пир, во время которого приказал своим слугам их убить».{42}
Следует прежде всего отбросить летописную «тысящу» как количественное обозначение умерщвленных в Ракоме Новгородцев. Слишком неправдоподобно такое число убитых. Эта цифровая «тысяща» появилась, наверное, тогда, когда отошла в прошлое и была основательно забыта военная организация восточных славян, называвшаяся тысячей. Летописцы поздних времен, либо ничего не знавшие, либо имевшие весьма смутное представление о ней, перевели невразумительную «тысящу» на доступный себе и своим современникам язык. Прав В. В. Мавродин, усматривающий в «тысяче» Новгородской Первой летописи местную военную организацию.{43} Но автор, на наш взгляд, поспешил, когда «вои славны тысящу» истолковал как синонимическое наименование «нарочитых мужей». Думается, что «вои славны тысяща» – это наиболее видные, прославленные воины из «тысячи», т. е. новгородского ополчения.{44} И совсем не обязательно всех их причислять к знатным людям, ибо воинская доблесть в ту пору определялась не родовитостью, а храбростью, мужеством, ловкостью и силой. Вспомним предание о простом кожемяке, которого Владимир за победу в поединке с «печенежином» «створи великим мужем».{45} И это не плод фантазии сказителей, а живая историческая действительность.{46}
Еще не остыла пролитая в Ракоме кровь, как из Киева от сестры Ярослава Предславы пришла весть о смерти отца, великого князя Владимира, и о каиновых делах брата Святополка, вокняжившегося на киевском столе. Ярослав созвал «новгородцов избыток» на вече. «Любимая моя и честная дружина, юже вы исекох вчера в безумии моем, не топерво ми их златом окупите», – жалобно взывал князь. «И тако рче им: „Братье, отец мои Володимир умерл есть, а Святополк княжить в Киеве; хощю на него поити; потягнете по мне”. И реша ему новгородци: „А мы, княже, по тобе идем”. И собра вои 4000: Варяг бешеть тысяща, а новгородцев 3000; и поиде на нь».{47} Так повествует о вечевой сходке местный летописец. «Но, вероятно, – пишет Л. В. Черепнин, – в действительности все было сложнее. Видимо, велись переговоры, в которых Ярослав обещал новгородцам и денежное вознаграждение, и грамоту с какими-то политическими гарантиями».{48} Возможно, так оно и было. Но присмотримся к новгородцам, пришедшим на вече. В. Т. Пашуто видит в них «собрание части „нарочитых мужей”, санкционирующее войну и сбор ополчения для князя».{49} Чтобы убедить читателя в своей правоте, он отсылает его к Повести временных лет и Новгородской Первой летописи, но сам воспроизводит события только по Повести временных лет, поскольку в новгородском источнике нет ни единого упоминания о «нарочитых мужах», а речь идет о «новгородцах» и «гражанах», причем в синонимическом значении терминов. Называет он и «вои славну тысящу», с которыми мы уже разбирались. Следовательно, «нарочитых мужей» В. Т. Пашуто извлекает из Повести временных лет. Однако и материал Повести позволяет сделать иное, чем у В. Т. Пашуто, заключение. Варягов, как явствует из этой летописи, перебили новгородцы, в том числе и «нарочитые мужи». Последнее вытекает из слов: «И позва (Ярослав. – И.Ф.) к собе нарочитые мужи, иже бяху иссекли варягы…»{50} Выделяя знатных людей из общей массы новгородцев, летописец предостерегает тем от отождествления понятий «новгородцы» и «нарочитые мужи». Новгородцы – это широкий круг людей, куда входят и «нарочитые».{51} Вот почему сводить вече, созванное Ярославом, к совещанию князя с «нарочитыми мужами» нельзя. Вече здесь – народное собрание (с участием, разумеется, знати), вотирующее чрезвычайно существенный вопрос о военном походе.
Почему новгородцы так быстро помирились с Ярославом и решили воевать со Святополком? «Причину такого решения новгородцев, – говорил С. М. Соловьев, – объяснить легко. Предприятие Ярослава против Владимира было к выгоде новгородцев, освобождавшихся от платежа дани в Киев: отказаться помочь Ярославу, принудить его к бегству – значит возобновить прежние отношения к Киеву, принять опять посадника киевского князя, простого мужа, чего очень не любили города…».{52} Сходным образом размышлял А. Н. Насонов, предполагавший, что новгородцы «боялись наместников Святополка в Новгороде и рассчитывали, что Ярослав пойдет навстречу их интересам».{53} Следовательно, поддержав Ярослава, новгородцы думали больше о себе, чем о князе. С победой Ярослава они связывали надежды на дальнейшее укрепление своей независимости от Киева.{54}
Борьба оказалась трудной, поскольку в нее вмешался польский король Болеслав, призванный Святополком на помощь. Однажды на волховских берегах разыгралась сцена, представляющая для изучения нашей темы существенное значение. Разбитый в бою Ярослав «прибегшю Новугороду, и хотяше бежати за море, и посадник Коснятин, сын Добрынь, с новгородьци расекоша лодье Ярославле, рекуще: „Хочем ся и еще бити с Болеславом и с Святополкомь”. Начаша скот събирати от мужа по 4 куны, и от старост по 10 гривен, а от бояр по 18 гривен. И приведоша варягы, и вдаша им скот, и совокупи Ярослав воя многы».{55}
В плане изучения народных волнений в Новгороде начала XI в. эта летописная заметка заслуживает не меньшего внимания, чем известия о возмущении новгородцев бесчинствами варягов. За лапидарной записью скрывается крупное столкновение новгородской общины с князем, который намеревался бросить Новгород на произвол судьбы перед лицом угрозы киевской. Выступление новгородцев было направлено не столько против самого Ярослава, сколько против его решения оставить Новгород, неприемлемого для жителей Новгородской земли. Полагаем, что Б. А. Рыбаков искажает в данном случае суть конфликта между Ярославом и новгородцами, сводя ее к борьбе «Новгорода против князя (Ярослава. – И.Ф.) за независимость».{56} Новгородцы боролись не с Ярославом, а со Святополком, стремясь утвердить свою независимость не от первого, а от второго.
Волнения в Новгороде, встревоженном приготовляемым бегством князя «за море», продемонстрировали самостоятельность новгородцев, идущую наперекор желанию Ярослава: они не уговаривают князя, а энергично пресекают его трусливый замысел покинуть Новгород. Стало быть, новгородцы представляли собой довольно консолидированную общину, способную в сжатый срок мобилизовать финансовые и людские ресурсы на войну с врагом. Решительность новгородцев вполне объясняет сложившаяся ситуация: поражение Ярослава и его бегство «за море» создавали Святополку благоприятные условия для овладения Новгородом с вытекающим отсюда ужесточением зависимости от Киева. Обращает внимание одна важнейшая деталь: новгородцев возглавляет Коснятин, которого летописец, несмотря на присутствие в Новгороде князя, называет посадником. Факт, весьма знаменательный, указывающий на появление первых проблесков единовременного существования в городе двух институтов: княжения и посадничества.{57} Последующая судьба Коснятина согласуется с нашим предположением. По словам летописца, Ярослав «разгневася на нь и поточи и Ростову; на 3 лето повеле убити и в Муроме на Оце реце».{58} Известие о смерти Коснятина датируется в летописях 1019 г. Однако в Списке князей, дошедшем до нас в составе Новгородской Первой летописи младшего извода, имеются детали, заставляющие исследователей усомниться в достоверности этой датировки убийства посадника Коснятина.{59} В Списке читаем: «А се в Новегороде: пръвыи князь по крещении Вышеслав, сын Володимирь; и по нем брат его Ярослав, и володеше землею; и идя к Кыеву, и посади в Новегороде Коснятина Добрыница. И родися у Ярослава сын Илья, и посади в Новегороде, и умре. И потом разгневася Ярослав на Коснятина, и заточи и, а сына своего Володимира посади Новегороде».{60}
В. Л. Янин, исходя из сведений Списка, связал окончание посадничества Коснятина с вокняжением в Новгороде Ильи Ярославича в 1030 г. По мнению историка, Коснятин посадничал с 1016 по 1030 г.{61} Важным доводом для В. Л. Янина послужило и то обстоятельство, что, относя гибель Коснятина к 1019 г., мы тем самым должны предположить наличие длительного периода, вообще не занятого посадничеством, а это – невозможно.{62}
Если придерживаться Списка князей, то надо признать, что посадничество Коснятина не прерывалось полностью с появлением в Новгороде Ильи. Оно продолжалось какое-то время и после его смерти. Об этом свидетельствуют два факта, отложившиеся в Списке. Во-первых, составитель перечня князей приурочил заточение Коснятина не к моменту смерти Ильи, а ко времени более позднему, обозначив его словом «потом». Во-вторых, он начал княжение Владимира не с кончины Ильи, а с устранения Коснятина («разгневася Ярослав на Коснятина, и заточи и, а сына своего Володимера посади Новегороде»). Отсюда ясно, что между княжением Ильи и Владимира правящие функции (видимо, посадничьи) осуществлял Коснятин. И здесь необходимо подчеркнуть следующее: составитель ничего не говорит о посажении Коснятина после смерти Ильи. Это можно понимать двояко: либо так, что Коснятин посадничал параллельно княжению Ильи, либо он, опираясь на новгородцев, узурпировал (по отношению к Ярославу) посадничьи права. И то и другое было явным нарушением киевских традиционных основ посадничества, значительным продвижением новгородцев в деле созидания собственного института посадников, что подрывало влияние великого князя или его представителей в столице Северной Руси. Вот почему Ярослав, сажая в Новгороде Владимира и сопровождая вокняжение сына своего наложением дани на новгородцев,{63} наносит удар по едва завязавшемуся новгородскому посадничеству в лице Коснятина, отбросив местную государственность на несколько десятилетий вспять.{64} Но чтобы расправиться с Коснятином, ему пришлось увезти опального посадника в далекий Ростов, а затем – в Муром и там совершить убийство. Расправа с Коснятином в Муроме, а не в Новгороде свидетельствует о популярности посадника среди новгородцев и его тесных связях с новгородским обществом, внушающих серьезные опасения Ярославу. Не «политический вождь новгородского боярства», каким изображает Коснятина Б. А. Рыбаков,{65} был страшен Ярославу, а признанный лидер новгородской общины, много сделавший для утверждения самостоятельности Новгорода. Недаром Коснятин включен в Список новгородских посадников, находящийся в составе Новгородской Первой летописи младшего извода, и поставлен там первым после легендарного Гостомысла.{66}
Новгородцы помогали Ярославу до победного конца, и он «седе на столе отца своего Володимера; и абие нача вои свои делите, старостам по 10 гривен, а смердом по гривне, а новгородцом по 10 гривен всем, и отпусти их всех домов, и дав им правду, и устав списав, тако рекши им: „По се грамоте ходите, якоже списах вам, тайоже держите”».{67} Князь вознаградил за ратный труд новгородцев. Надо думать, они были довольны. Награжденными среди прочих оказались и смерды. Отсюда М. Н. Тихомиров заключил, что в составе войска Ярослава были горожане и крестьяне.{68} Мы не отрицаем, больше того, предполагаем участие в походе сельских жителей Новгородской земли. Но считаем, что за смердами летописной статьи скрывались не крестьяне, а подчиненные Новгороду иноязычные племена. Таково вообще раннее значение термина «смерды»{69}. Покоренные племена обязаны были поставлять своим победителям дань и воинов, когда в последних возникала потребность. Стало быть, во многом случайное упоминание о смердах в составе новгородского войска обнаруживает племена, находившиеся под властью новгородской общины. Их приниженное положение подчеркнуто самым низким денежным вознаграждением: смерды получили в десять раз меньше, чем новгородцы.
Ярослав, по словам А. Н. Насонова, заняв киевский стол, «пошел навстречу интересам новгородской знати. Во-первых, еще в XIII в. в Новгороде хранились „Ярославли грамоты”, на которых целовали крест садившиеся в Новгороде князья; следовательно, это были грамоты, обеспечивавшие какие-то интересы Новгорода. Во-вторых, заняв Киев, Ярослав дал новгородцам какую-то „правду” и, „устав списав”, сказал им: „По сеи грамоте ходите, якоже писах вам, такоже дерьжите”. В-третьих, по исследованию летописных текстов Шахматова, при Ярославе дань из Новгорода в Киев была снижена с 3000 гривен до 300».{70} Перечисленные льготы, предоставленные Ярославом Новгороду, отвечали ожиданиям не только знатных людей, но и рядовых новгородцев. У А. Н. Насонова, как и у других исследователей, спеленутых классовой теорией исторического процесса, везде и всюду доминируют интересы знати и нет выхода чаяниям народных масс, обрекаемых на пассивно-страдательную роль. Чтобы двигаться дальше в научном познании древнерусской истории, необходимо преодолеть этот схематизм и однобокость.{71}
В летописи после рассказа о «правде» и «уставе», данных князем Ярославом Новгороду, следует текст Краткой Правды. В советской историографии широкое распространение получило мнение, что так называемая Древнейшая Правда и есть та грамота, которую пожаловал Ярослав новгородцам под влиянием событий 1015–1016 гг.{72} Однако назначение ее видится ученым по-разному. «В Древнейшей Правде, – пишет М. Н. Тихомиров, – мы имеем жалованную грамоту, освобождающую новгородцев от княжеского суда и проторей в пользу князя».{73} По-другому думает Л. В. Черепнин: «Анализируя Древнейшую Правду, надо учитывать ее назначение. Явившись продуктом острой политической борьбы в Новгороде, она должна была гарантировать новгородскому населению, прежде всего горожанам, охрану от притеснений со стороны княжеских дружинников, и особенно со стороны наемных варягов. Она должна была в то же время создать княжеской дружине, варягам в том числе, условия, которые обеспечили бы им защиту от выступлений против них новгородцев».{74} Согласно наблюдениям А. А. Зимина, Правда Ярослава «представляла собой уступку княжеской власти новгородцам, гарантию от повторения убийств, оскорблений и хищений, вызванную требованиями самих новгородцев». Автор устанавливает «чрезвычайный характер» закона, принятого Ярославом.{75} Б. А. Рыбаков на всех статьях Устава Ярослава, или Древнейшей Правды, нашел «явный отпечаток» новгородских событий 1015 г. Этот судебник защищал «жизнь, честь и имущество новгородских мужей и простых словен от бесцеремонных посягательств варягов, нанятых для участия в усобицах».{76} В. Л. Янин, обобщая историографию вопроса, писал: «В советской исторической литературе выработана и политическая характеристика Древней Правды, рассматриваемой как акт, в котором гарантируется юридическая защита „новгородских мужей” от произвола княжеской дружины. Совершение этого акта исследователи справедливо связывают с обострением классовой и политической борьбы в Новгороде в момент, политически сложный для самого Ярослава».{77} Ученый полагает, что «льготы, данные новгородцам, адекватны Древнейшей Правде, которая уже в XI в. приобрела общерусский характер и потеряла свою новгородскую исключительность».{78} На наш взгляд, «новгородская исключительность» Древнейшей Правды вряд ли когда-нибудь имела место. Ведь до сих пор не доказано ее соответствие социальным условиям, составляющим специфику Новгорода, и вследствие этого невозможность применения данного судебника в других древнерусских землях. Напротив, «новгородская исключительность» памятника является эфемерной и, по признанию самого В. Л. Янина, исчезает еще в XI в. Другой сторонник «новгородской исключительности» Древнейшей Правды Б. А. Рыбаков вынужден заявить: «Созданный в конкретных исторических условиях в 1015 г. (в Новгородской летописи ошибочно назван 1016 г.), „Устав Ярослава” оказался вполне применимым ко всем вообще случаям уличных побоищ, столь обычных в средневековых городах, и просуществовал несколько веков, входя в сборники других княжеских законов XI–XII вв.».{79} Этот универсализм норм Правды Ярослава рождает подозрение относительно ее создания в связи с конкретными событиями 1015 г. Не поэтому ли вопрос о времени и причинах возникновения Древнейшей Правды был и остается, по выражению М. Н. Тихомирова, «в достаточной мере темным». Историки предлагают различные варианты его решения. Одни считают, что Древнейшая Правда была составлена еще до Ярослава, другие датируют появление ее временем княжения Ярослава, указывая на 1015–1016 или 1036 гг., третьи полагают, что она возникла во второй половине XI столетия.{80} Более ясным представляется нашим исследователям вопрос о новгородском происхождении Древнейшей Правды. Едва ли не основным доказательством здесь служит «новгородская» лексика, выявляемая при анализе законодательного сборника. В частности, обращается внимание на новгородскую терминологию, запечатленную в таких словах, как русин, варяг, колбяг, гридин, купец, изгой, ябедник, видок, поручник, мзда, скот.{81} Этот способ аргументации, будучи сам по себе не столь уж безупречным, поскольку исключить использование в первой половине XI в. на юге (скажем, в Киеве) многих из названных слов невозможно, не доказывает главного: выдачу Правды Ярославом именно в Новгороде. «Новгородская» терминология Древнейшей Правды может свидетельствовать о том, что над составлением ее работал новгородец, входивший в ближайшее окружение Ярослава. Необязательно также полагать, что Правда дана в Новгороде. Вспоминается в этой связи весьма важное наблюдение М. Н. Тихомирова: «По точному смыслу летописи, „Правда” и письменный устав были даны в Киеве. На это, может быть, указывает и то обстоятельство, что „русин” (киевлянин) и „Словении” (новгородец) одинаково упомянуты в первой же статье „Правды”».{82}
Мысль о Древнейшей Правде как отклике на события 1015 г. покоится на шатких основаниях, что, впрочем, не мешает некоторым историкам предаваться фантазии. «Юридический документ, определяющий штрафы за различные преступления против личности, – пишет в добропорядочном академическом издании Б. А. Рыбаков, – не менее красочно, чем летопись, рисует нам город в условиях заполнения его праздными наемниками, буянищами на улицах и в домах. Город населен рыцарями и холопами; рыцари ездят верхом на конях, вооружены мечами, копьями, щитами; холопы и челядинцы иногда вступают в городскую драку, помогая своему господину, бьют жердями и батогами свободных людей, а когда приходится туго, то ищут защиты в господских хоромах. А иногда иной челядин, воспользовавшись случаем, скроется от господина во дворе чужеземца. В числе рыцарей, ради которых написан охраняющий их закон, есть и прибывшие из Киевской земли „русины”, и княжеские гриди, на которых шла тысяча гривен новгородских даней, и купчины, по обычаю того времени, очевидно, тоже перепоясанные мечами, и важные княжеские чиновники – „ябедники” и мечники, следившие за сбором доходов и вершившие княжеский суд. Закон заодно защищал и более широкие круги новгородского населения – тут упомянуты и изгои, выходцы из общин, порвавшие связи с прошлым и не нашедшие своего места в жизни, и просто „словене”, жители обширной Новгородской земли».{83}