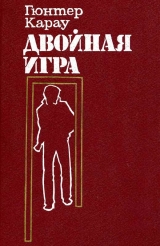
Текст книги "Двойная игра"
Автор книги: Гюнтер Карау
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
31
Для информации
В ответ на ваш запрос направляем предварительный отчет о завершении операции «Шаденфойер». Уже высказанная устно гипотеза, в основных чертах подкрепленная поступающей из Берлина (Западного) информацией, подтверждается изложенным в докладе. Факты представляются убедительными: они говорят за то, что погибший является пропавшим в Берлине (Западном) подрядчиком фирмы «Мампе КГ». Поэтому дело можно считать закрытым. И если этот доклад квалифицируется как предварительный документ, то, по мнению руководящей группы, лишь потому, что имеется обоснованное предположение, что речь идет об убийстве одного лица вместо другого. По делу профессора Шт./Б. неотложно требуется… (конец страницы)
Руководитель операции «Шаденфойер».
Первые два дня Виола Неблинг упивается атмосферой покоя. В квартире тихо, и все здесь на своих местах. Каждая вещь: даже сверкающий хромированной сталью гриль в кухне или только что установленный, чтобы развлечь ее, цветной телевизор – кажется, имеет свое, отведенное ей с незапамятных времен место. А теперь к числу этих вещей принадлежит и она, Виола. Все волнения остались позади. Она чувствует себя как улитка в раковине, где можно передохнуть и набраться сил. Она много спит, но к еде, которую Эгон ставит перед пей на стол, едва притрагивается. Кстати, Дэвид прав: Эгон передвигается среди своих четырех стен ненавязчиво и незаметно, как старый пес, ожидающий приказаний хозяйки.
В первый вечер они дремлют перед экраном телевизора до окончания передачи. Время от времени Виола занимается собой и делает это с удовольствием, не смущаясь присутствием Эгона, считая его, вероятно, слепым. Оказывается, Эгон умеет делать педикюр. Лишь когда Виола кладет ногу ему на колени и его меланхоличный взор путешествует снизу доверху по ее длиной стройной ноге, до нее доходит, что этого старика можно отнести куда угодно, но только не в разряд деревянных табуреток из кухонного гарнитура. Однако, когда на следующий день они сидят в сумерках просто так, ничего не делая, тишина становится невыносимой. Не только в квартире, но и во всем доме ни звука. Ни днем ни ночью не слышно никаких посторонних шумов – ни шагов на лестнице, ни шагов в квартире над ними, ни проникающего через стены покашливания, ни звуков радио. Все словно вымерли. Лишь ветер колышет изредка криво висящие жалюзи. Когда она спрашивает об этом Эгона, тот, словно извиняясь, пожимает массивными плечами: они одни, дом предназначен на слом, он – последний оставшийся в нем квартиросъемщик.
Третий день начинается не так, как два прошедших. Виола просыпается рано, охваченная непривычным беспокойством. Эгон гремит в кухне и в коридоре. Ясно, что он ждет, когда она проснется, не желая ее будить. Оказывается, он хочет принарядиться, поэтому ему нужен платяной шкаф, который стоит рядом с ее кроватью. В то время как она идет под душ, он тщательно отбирает все, что ему необходимо для прогулки: кальсоны, длинные, до колен, шелковые носки, белоснежную рубашку с янтарными запонками, пепельного цвета галстук в фиолетовую полоску, свой лучший костюм – вышедший из моды просторный однобортный блейзер и, наконец, сверкающие лаком, как новенькие, высокие ботинки со шнурками, которые помогают ему от плоскостопия. В довершение он достает нарядное летнее темное пальто и нелюбимую твердую шляпу, которая, однако, является необходимой принадлежностью туалета.
Виола смеется, увидев его на кухне в таком наряде:
– Бог мой, дядя Эгон! Вы выглядите так торжественно. Идете на похороны?
Он молча выключает кофеварку и ставит перед ней дымящийся кофейник:
– Вот что, фрейлейн, я сейчас ухожу, а вы помните: ни шагу из дома!
– А вы, дядя Эгон, уходите без завтрака?
– Извините, что оставляю вас одну. Дела. А когда я занимаюсь делами, мне всегда давит на желудок.
– Мне будет не хватать вас.
– Очень приятно слышать. Ну а теперь мне пора. Ни о чем не беспокойтесь. Вы здесь в безопасности, если будете делать все, как велел доктор. Ни шагу из дома! И не подходите к окну! Обещаете?
Виола обещает. Он торжественно надевает шляпу и уходит. Через щель в жалюзи она видит, как он идет по пустынной улице, тяжело ступая своими страдающими плоскостопием ногами, и исчезает за углом.
«Бог мой, – спохватывается она, – я ведь уже нарушила первый запрет!» И она быстро отходит от окна.
Виола пьет много кофе, но ест мало. До полудня занимается гимнастикой перед телевизором и полирует ногти. Затем ею овладевает скука – впервые с тех пор, как она здесь поселилась. Она листает фотокопии рукописей, которые ей изготовили в государственной библиотеке в Восточном Берлине, и делает несколько беглых заметок о влиянии культа солнца на формы мышления народов в древности. Рисунок тушью, на котором изображена сцена суда, поражает ее воображение. Поза грешника в одежде самурая, стоящего перед судьей на коленях, странным образом напоминает ей Дэвида. Она начинает писать ему сумбурное письмо, однако, написав всего несколько строк, рвет его. Почему он оставил ее одну? Ее так и подмывает добраться до магнитофонных пленок и «дипломата», которые Эгон спрятал в погребе. Но, как в сказке, ее охватывает страх перед запретной дверью. Неужели правда, что некоторые тайны становятся страшными только после того, как они раскрыты? Куда запропастился Эгон? Он же обещал вернуться к вечеру. А вечер уже наступил. Она рассматривает старую фотографию на стене, на которой Эгон сидит вместе с ее матерью в пивной на софе, стоящей теперь в кухне. Как Дэвид напал на этого чудаковатого старика? Какое отношение имеет к этому ее мать?
Вероятно, на нервной почве Виола вдруг чувствует такой приступ голода, что все ее бесплодные мысли вылетают из головы. У нее прямо-таки волчий аппетит на что-нибудь необыкновенное, а именно на яичницу-болтунью с горой жареного лука, приготовленную на плите с дровяным отоплением. Она вспоминает о матери, как о фее, которая исчезла из ее детства, не спросив об ее желаниях. Но когда она была рядом с Виолой, то на ужин они всегда ели яичницу-болтунью с луком: сковорода стояла на плите, и все вокруг было наполнено приятным запахом горящих дров. От дров ей придется отказаться и удовлетвориться грилем. В холодильнике она находит яйца и грудинку. Но лука нигде нет. Лук становится для нее навязчивой идеей. Сейчас ей хочется одного – яичницу-болтунью и много-много жареного лука…
Прежде чем выйти из дома, она внимательно осматривается. Мимо громыхает мусорная машина и сворачивает в конце улицы, где по-прежнему горит одинокий газовый фонарь. А перед домом, среди дождевых луж, две маленькие девочки играют с обручем. Больше на улице никого не видно.
Виола долго плутает, много раз сворачивая куда-то, прежде чем находит лавчонку, в которой продается лук. Возвращаясь, она почему-то оказывается на незнакомой улице. И следующую улицу она не узнает. Тогда она ускоряет шаг, чтобы найти лавчонку и спросить дорогу, но тщетно. Она заговаривает с какой-то старушкой, однако вдруг вспоминает, что не знает, о чем спрашивать: она ведь не знает названия улицы, на которой живет Эгон. Ее охватывает паника. Куда деваться, если она не найдет обратной дороги? А стальной «дипломат» и магнитофон, спрятанные на лестнице в погребе? У нее пропадает аппетит, и она сует пакетик с луком старушке. Дальше она идет наугад, выходит к оживленному торговому кварталу, где уже загораются огни реклам, снова возвращается, идет по улицам, застроенным кирпичными особняками, скрытыми разросшимися, запущенными палисадниками, и, наконец, оказывается на бульваре, где в изнеможении падает на скамейку. Не представляя, что же теперь будет, Виола вытягивает ноги и закрывает глаза – ночевать ведь здесь ей нельзя.
Когда она открывает глаза, то вдруг видит, что по бульвару идут те маленькие девочки, которые играли на улице перед домом Эгона. Подталкивая обруч, они направляются прямо к ней. Оказывается, ей надо было пройти всего сотню шагов. Девочки смеются: взрослая тетя, а заблудилась! Виола тоже смеется, и к ней возвращается аппетит. Теперь она злится на себя за то, что отдала пакетик с луком старушке. Играя с обручем, они направляются к дому Эгона. Вот уже и старый фонарь виден…
Неожиданно в их поле зрения появляется большой, устаревший модели автомобиль с выпуклыми крыльями и блестящими хромированными деталями на фоне поблекшего темно-синего лака – несомненно, такси Эгона. И Виоле кажется, что это Эгон приехал за ней, чтобы отвезти к Дэвиду. Но, присмотревшись получше, она замечает в машине трех мужчин в широкополых шляпах. Жесткой шляпы Эгона там нет. Она останавливается и отдает обруч, который только что держала в руках, девочкам. Автомобиль сбавляет скорость и тормозит. Водитель остается сидеть за рулем, а двое других входят в дом, держа руки в карманах. Что все это значит? Как тогда, в последний вечер в отеле, ей кажется, что ее кто-то хочет схватить, и она спрашивает себя, уж не эти ли руки, которые мужчины прячут в карманах пальто. Она застывает на месте. Чтобы не выдать своего присутствия, старается не дышать. Ее страх передается детям, стоящим возле нее. Старшая девочка вдруг срывается с места и убегает, а младшая тянет Виолу в подворотню, где уже совсем темно.
– Эти мужчины пришли к вам? – шепотом спрашивает девочка.
Виола не отвечает.
– Вы можете остаться здесь со мной, – говорит девочка, не выпуская ее руки. У нее короткие светлые волосы, и, должно быть, поэтому ее глаза кажутся такими серьезными и смышлеными. – Возвращается только один, – шепчет она.
И Виола видит, что в медленно отъезжающем автомобиле сидят только двое.
– А теперь ступай! – говорит она девочке. – Уже темно, тебе нора домой, а то мама начнет беспокоиться.
Девочка не выпускает ее руки из своей:
– Вы боитесь, потому… потому что вы негритянка?
– Да нет же, нет! А теперь ступай! Все в порядке. – Виола гладит короткие светлые волосы девочки и легонько подталкивает ее из подворотни.
– Я не оставлю вас одну!
– Ну хорошо, тогда будем вместе ждать и наблюдать. Мы будем играть в такую игру, будто нас никто не должен видеть.
И они вдвоем наблюдают за домом напротив. За жалюзи, прикрывающими окна квартиры Эгона, никакого движения не заметно. Только однажды Виоле кажется, что в щелях жалюзи мелькает свет, будто кто-то включает карманный фонарик. Но, быть может, это только игра ее воображения? Улица по-прежнему пустынна. Большинство домов вокруг смотрятся нежилыми, словно и они предназначены на слом. Газовый фонарь в конце улицы шипит, как будто из него выходит газ, и когда порывы ветра раскачивают его, то лучи света облизывают фасад дома.
– Может, это взломщики? – говорит девочка. – Тогда надо позвать полицию.
– Глупости! – возражает Виола. – Просто это гость, которого я не знаю. Зачем же сразу бежать за полицией?
– Так вы там живете? А я вас ни разу не видела. Мне кажется, вы все-таки боитесь.
– Я ничего не боюсь, и тебе тоже нечего бояться. Я пойду к себе.
Виола высвобождает свою руку из руки девочки. Затем быстро бежит назад до угла, пересекает улицу и, используя непросматриваемое пространство, крадется к дому Эгона. Она действует чисто интуитивно. Прежде всего ей нужно заполучить «дипломат» Дэвида и магнитофонные пленки. Ей известно, где они находятся, а тем другим – нет, к тому же они не знают, что в квартире есть погреб. Медленно и бесшумно, как дикая кошка, скользит она по мощеной дорожке, ведущей мимо глухой боковой стены дома во двор. Там сплошная темень. Виола нащупывает дверную ручку – должно быть, в квартиру Эгона. Затем она находит вторую дверь, которая предположительно ведет в погреб. Но увы, на двери висит тяжелый замок. Виола неторопливо продвигается дальше, к карнизу следующего окна. Кухонное окно? Она пригибается. Под ногами что-то хрустит. Она ощупывает землю и чувствует под руками зернистую пачкающуюся массу – должно быть, угольную крошку. Виола сидит на корточках, ее сердце готово выскочить из груди от страха, так как за окном, прямо над ней, слышны шаги. Она чувствует запах плесени, который поднимается из отдушины погреба. В стене – четырехугольное отверстие, от которого вниз идет желоб. Ощупывая его, она задевает рукой застрявшие крошки угля, которые с шорохом скатываются вниз. Отдушина в погребе достаточно широкая, и она туда наверняка протиснется, но она боится наделать шума. Неужели все ее усилия и риск были напрасны? Вернуться к маленькой девочке, которая, вероятно, все еще ждет ее? А что потом?
В этот момент воздух буквально сотрясается от нарастающего рева и свиста: тяжелый реактивный самолет, снижаясь, на малых оборотах заходит на посадку на военный аэродром Темпельхоф. Теперь хоть стреляй – все равно никто не услышит. Не раздумывая, Виола бросается головой вперед во мрак погреба, скользит по угольной крошке и плавно приземляется. Угольная пыль лезет в нос, и она с трудом подавляет желание чихнуть. На четвереньках, чтобы равномерно распределить вес тела, она осторожно продвигается вперед, убирая со своего пути какую-то рухлядь. Она пытается по памяти восстановить план квартиры: кухня, длинный коридор, комната с погребом. Итак, вперед!
Вдруг тишину нарушает шорох, и при мысли, что по ее руке может пробежать крыса, Виола едва не падает в обморок. Она встает. Главное теперь – спокойствие! На ее пути возникает какое-то препятствие. Она ощупывает его и соображает, что это деревянные перила лестницы. В полном изнеможении Виола опускается на нижнюю ступеньку, чтобы успокоилось сердце, удары которого отдаются в ушах. Она решает не торопиться. Находясь так близко от цели, нельзя допустить ни одного неверного движения. В этой тишине надо быть предельно осторожной. Только пара досок отделяет ее от человека, который не знает о ней. Виола дышит медленно, глубоко и бесшумно, стараясь превратиться в ничто и исчезнуть, и ей кажется, будто она в шапке-невидимке. Сверху до нее доносятся покашливание и мужские голоса. Она снова начеку. В квартире Эгона разместилась целая банда? Потом она различает музыкальные мелодии, звуки гитары – человек наверху, видно, включил телевизор, чтобы убить время. Очень хорошо – скука притупляет внимание! Она может и подождать. Виола решает не двигаться с места, пока не двигается он. Ведь захочется ему пойти в туалет, поесть или просто выглянуть в окно. Вот такой момент она и должна подкараулить. Впрочем, здесь вполне сносно, если бы только не крысы. Она кладет голову на колени. Она знает, что там, наверху, кто-то есть, а он не знает, что она здесь, внизу. Все, оказывается, очень просто.
Над ней скрипят половицы. Может, удобный момент наступил? Но вот все опять затихает – должно быть, человек наверху перевернулся на кушетке на другой бок. Ничего, голубчик, даже самый хороший телефильм когда-нибудь кончается! Передают последние известия, телепередачи подходят к концу. Она еще раз подавляет в себе желание добраться до верхней ступеньки, где лежат «дипломат» и магнитофон, и впадает в своего рода полузабытье: ей наймется, что она летает по воздуху.
Затем звук внезапно обрывается – вероятно, человек выключил телевизор. И теперь она слышит его голос. С кем это он разговаривает? Потом Виола слышит удаляющийся шум мотора. Может, они связались с ним, когда проезжали мимо, и он ответил им по радиотелефону? Или они что-то заподозрили? Человек наверху не подает никаких признаков жизни. Заснул он, что ли, или, наоборот, притаился и ждет? Она опять слышит его голос. Затем он встает, и его шаги удаляются в сторону длинного коридора. Ощупывая ступеньку за ступенькой – а всего их восемь, – она добирается до самого верха лестницы. «Дипломат» и магнитофон на месте. Только сейчас до нее доходит, что ей предстоит проделать обратно тот же путь, которым она в темноте пробралась сюда. Но теперь уже легче. Глаза приспособились к темноте, в которой хорошо различимо светлое пятно – четырехугольная лазейка. А сверху доносится громкий топот. Может, они уже не надеются, что она попадет им в руки? Потеряли терпение? Но если они начнут обыскивать квартиру, то рано или поздно наткнутся на вход в погреб. Нельзя терять ни минуты.
Она карабкается по желобу и по грудь высовывается наружу. Идет дождь. Она чувствует на лице его освежающую прохладу. Встав на ноги, она видит, что непрошеные визитеры включили свет в кухне. Виола не выходит прямо на улицу, а пробирается темным двором мимо сарая и находит проход на соседний участок. Лает какая-то собака. Но что такое собака по сравнению с крысами! Еще несколько шагов, и Виола уже на перекрестке. Мелькает мысль о белокурой девочке, которая, возможно, все еще ждет ее. Потом она прячет под пончо «дипломат» и магнитофон и решительно отправляется в путь. Куда – этого она не знает.
32
При виде нескончаемых рядов могил Йохену Неблингу приходят на ум строки любимого поэта. Почему мертвым нет дела до тайников? Ими пользуются живые. И одного из них, которого здесь ждут, можно узнать по лейке в руке.
Пристрастие доктора Баума к пикантным подробностям было тем обстоятельством, которое делало работу с ним сколь увлекательной, столь и трудной. Сначала я ринулся на поиски тайника между нескончаемых рядов могил еврейского кладбища за Лихтенбергерштрассе. Изрядно поколесив по кладбищенскому лабиринту, я вернулся к аллеям, обрамленным горделиво возвышавшимися деревьями. Воздух здесь был наполнен жужжанием пчел. Я задержался в тени мраморного семейного склепа, пережидая, пока по усыпанной хрустящим гравием дорожке пройдет погребальное шествие, а затем возобновил поиски среди сплетений плюща и самшита. Могильным камням с выбитыми на них именами не было конца, и казалось, что все мои поиски приведут лишь к тому, что я сам затеряюсь среди этих камней. Мне вспомнились строки Тухольского, в которых говорилось о кладбище в Вайсензее. Но я пришел сюда не ради того, чтобы предаваться скорби, и мне было не до его ироничной меланхолии. Время моего погребения действительно еще не наступило. Я искал чужую могилу. Покидая кладбище, я дошел до ворот и еще раз оглянулся на главную аллею, в отчаянии спрашивая себя, почему мертвым нет дела до тайников.
Вернер ждал меня в стареньком «хорьхе», с которым он никак не мог расстаться. Он сидел, положив подбородок на баранку, и вопросительно смотрел на меня. Когда я отрицательно покачал головой, он завел мотор и, разъярившись из-за моей забывчивости, рванул так, что шины завизжали. Таким способом он, вероятно, хотел помочь товарищу преодолеть трудности. Ведь утешить меня ему было нечем.
В небольшой пивной, где неторопливо завтракали угольщики, я, предварительно заказав двойную порцию водки и маленький бокал пива, пытался разобраться в своей жизни. Я не строил никаких иллюзий относительно тех злых шуток, которые уготовила мне судьба, и, осушив рюмку водки, сказал себе, что не отношусь к числу законченных идиотов, не признающих, что бывают моменты, когда уже ничего нельзя сделать. Во мне что-то сломалось, а тот, с кем это случается, уже не может заниматься делом, в котором ошибки недопустимы. Поэтому я не стал заказывать себе еще водки, когда хозяйка унесла пустую рюмку.
Перед угольщиками она снова поставила миску с котлетами и огурцами. Пиво они пили из пол-литровых кружек. Их чумазые лица светились радостью. Они хвастались друг перед другом, что уже свалили в погреба кучу угля, то есть выполнили самую трудную работу, а с дневным грузом справятся одним мизинцем. Я испытывал жгучую зависть, слушая, как они, сознавая свою силу и нужность, говорили о выполненной работе, за которую получат двойную плату, поскольку сегодня выходной. Они заказали всем еще пива, в том числе и мне. Потом я угостил их. Мы перешли на «ты», и, потягивая пиво, я размышлял о том, какой простой может быть жизнь, если человек решится зарабатывать на хлеб трудом угольщика. Они ощупывали мои плечи и потешались над моей худобой. Потом показали мне свои новые кожаные фартуки, ругаясь, что те здорово натирают кожу, особенно когда вспотеешь. Это был своего рода сигнал, что им пора. Водитель автофургона, который все время просидел с недовольным видом за стаканом жиденького лимонада, энергично постучал по столу костяшками пальцев: им, мол, еще нужно на Фалькенбергерштрассе, а это чертов маршрут – к новым домам никак не подъедешь. Когда он произнес: «Фалькенбергерштрассе», я отреагировал на него как на пароль.
– Там, должно быть, все перекопали, – сказал шофер. – Пошли, мужики. Придется попотеть. Но мы заедем сзади и повалим забор.
– Но не забор же вокруг старого кладбища! – воскликнул один из угольщиков.
– Да нет, конечно нет, – успокоил его водитель. – Впрочем, кладбище такое древнее, что до забора никому нет дела.
Когда они расплачивались, моим первым порывом было вскочить и ехать вместе с ними на Фалькенбергерштрассе: ведь уроженец Лемберга покоился на кладбище на Фалькенбергерштрассе! Как-то сразу припомнилось и начало описания тайника… Мне следовало бы помнить о пристрастии доктора Баума к экзотике. Решение оказалось совсем простым: тайник был оборудован на кладбище еврейской общины, являвшемся мемориалом жертвам нацизма, куда, как в любые другие общественные места, можно было приходить, не вызывая ни у кого подозрений.
Я заказал еще одну рюмку водки, ибо теперь-то стоило выпить. Была суббота. До решающего воскресенья оставался целый день – вполне достаточно для того, чтобы разыскать тайник, прежде чем к нему придет связной. Я ликовал и чувствовал себя триумфатором, представляя лицо Вернера, когда он услышит об этом. У стойки я заплатил вперед за пиво для каждого угольщика: пусть выпьют за мое здоровье, когда снова придут сюда завтракать. Хозяйка с подозрением посмотрела на меня и спросила, всегда ли я так легкомысленно обращаюсь с деньгами. Я рассмеялся и ответил: всегда, когда до меня наконец что-то доходит.
Кладбище на Фалькенбергерштрассе, зажатое между двумя только что отстроенными кварталами и развалившимся шамотным заводом, можно было окинуть одним взглядом: оно представляло собой квадрат сто на сто шагов. Когда я перед вечером осматривал его, угольщиков уже не было. На песке лишь отпечатались следы их автофургона.
Изъеденная ржавчиной эмалированная табличка на развалившихся воротах главного входа гласила, что кладбище принадлежало ветхозаветной секте, которая некогда отделилась в Галиции от главной ветви братьев по иудейской вере. Повсюду на кладбище были видны следы запустения. Природа отвоевывала у людей могилы и дорожки. Буйно разрослись жимолость и дикий хмель. Стеной стояли молодые клены. Обелиски на могилах, на которых были выбиты таинственные древнееврейские письмена, обомшелые и полустертые под воздействием сырости, теснились в этой обители вечности, будто стремясь к последнему единению. Не стало ухоженных могил, которые некогда, должно быть, служили утешением маленькой общине. Не осталось никого, кто, чтя память предков, мог бы ухаживать за могилами. Варвары навсегда пресекли преемственность поколений этой маленькой религиозной общины.
Я продирался сквозь заросли от одной могилы к другой, читал звучные, исполненные глубокого смысла немецкие имена, которые некогда способствовали процветанию старого Берлина, и испытывал стыд от того, что рыскаю по их последнему прибежищу со столь деловой целью. «Родился в Тернополе», «родился в Ченстохове», «родился в Кошмине», «родился в Лиссе», «родился в Кишиневе», «родился в Кротошине» и, наконец, «родился в Лемберге». Я обследовал пазы цоколя могильной плиты – пусто. Потом на кладбище забрела группа детей из новых кварталов и завладела новым местом для игр. Я спрятался за изгородью из бузины. Вечером поднялся ветер и полил дождь. Я сдался. Весь в глине и в репьях, я отыскал телефонную будку и позвонил Вернеру. От моего ликования не осталось и следа. Вернер еще раз попросил меня теперь, когда я знаю ключевое слово «Фалькенбергерштрассе», вспомнить ряд и участок. Я признался в своем бессилии. Он пробурчал что-то о моем слабоумии и экспромтом разработал операцию, которая представлялась единственным выходом из создавшегося положения. Коль я не нашел тайник, так пусть нас приведет к нему связной.
Операция началась в воскресенье, рано утром. Отключили главный электрокабель. По первым же звонкам жильцов на кладбище прибыла ремонтная бригада. Рабочие места были рассредоточены вокруг кладбища и служили наблюдательными пунктами. Еще не рассвело, когда вскрыли кабельный колодец и приступили к поискам мнимого повреждения. Центр управления находился в ремонтном фургоне, где за радиотелефоном сидел Вернер, который заодно кипятил на чугунной печурке воду для чая. На рассвете я предпринял последнюю попытку и соскреб налет с надгробных камней могил всех уроженцев Лемберга. После дождя, который шел всю ночь, на кладбище пахло плесенью и гнилью. На обратной стороне одного камня было выбито библейское изречение, переведенное с древнееврейского на немецкий: «Бог грозный, бог единственный, покарай меня за грехи мои». Я не смыкал глаз вот уже сорок часов и сильно продрог. Сотрудник Вернера в одежде монтера, охранявший фургон, пустил меня внутрь. Я развесил промокшее тряпье у печки, в которой, потрескивая, горели дрова. Вернер шумно прихлебывал чай из блюдца и даже не удостоил меня взглядом. И только по прошествии некоторого времени пробурчал:
– Я задаю себе вопрос: для чего американец занимался с тобой тренировкой памяти? – И после более продолжительной паузы: – Ряд и номер могилы – два простых числа. Это все равно что забыть свой возраст и номер дома. Непостижимо!
Он был явно не в духе.
Я ответил:
– Может, вообще никто не придет. Может, Баум не имеет никакого отношения к прекращению радиосвязи, а просто-напросто они исключили меня из игры.
Он все же протянул мне чашку с горячим чаем:
– Думаешь, тебя раскрыли? Мало вероятно.
Мы снова замолчали. Только было слышно, как он прихлебывает чай, как потрескивают горящие поленья да поскрипывают изредка нагревшиеся деревянные стенки ремонтного фургона. Нам не оставалось ничего другого, как ждать, когда развернутся события. Вернер хотел дать мне понять, что после моего срыва не верит в успех операции. Он возился с чайником и подкладывал поленья в печурку – в общем, вел себя подчеркнуто равнодушно, хотя на самом деле, проведя бессонную, утомительную ночь, весь дрожал от внутреннего напряжения. Успех экспромтом задуманной операции был нашим единственным шансом в этой крайне неустойчивой ситуации, когда самым важным было не допустить, чтобы оборвалась связь с доктором Баумом.
Вернера снова охватил приступ ярости. Он пророкотал басом:
– Я бы разорвал тебя на куски! – а затем, сгорая от нетерпения, подошел к окну и поглядел в щелку между занавесками. Не оборачиваясь, он сказал скорее самому себе: – Чего хочет этот доктор Баум? Чего ему нужно от тебя? Для чего он придумал этот личный канал связи? Чтобы успокоить свою чувствительную совесть? Или это ловушка?
Я ответил не раздумывая:
– Ловушка? Доктор Баум и ловушка мне? Исключено!
– Почему ты так уверен?
– Он порядочный человек, а не свинья.
– Он твой враг, а особенно опасны те враги, которых не воспринимаешь как свиней.
– Свиньи, которые ходят в друзьях, не менее опасны.
Он рассмеялся, и мы снова вроде бы помирились. Свинья в качестве друга – в этом было что-то неестественное.
Время близилось к полудню. Вторая смена наблюдателей незаметно заняла свои места в районе кабельных траншей. И тут при полном параде к нам пожаловал вахмистр народной полиции и потребовал бригадира. Он заявил, что пришел с ночного дежурства и лег спать, а когда проснулся – на тебе, сиди без света. Ничего себе воскресный сюрприз! Вернер побледнел. Он заверил вахмистра, что авария будет ликвидирована с минуты на минуту, хотя дожди затрудняют ремонтные работы, и что был бы очень признателен, если бы ему не мешали выполнять свои обязанности. Вахмистр повысил голос: мол, он говорит от имени трудящихся, которые заслужили свой воскресный отдых. Перепалка принимала острый характер. Уже успевший располнеть вахмистр все больше входил в роль народного трибуна: интересы общественности требуют, чтобы он это так не оставил. Вернер возразил, что тот не уполномочен говорить от имени общественности, тем более что находится не при исполнении служебных обязанностей. Тем не менее он не склонен драматизировать события и готов принять вахмистра как гостя при условии, что тот замолчит. Движимый благими намерениями полицейский перешел на самые высокие ноты и заявил: все, что касается поддержания порядка в жизни граждан, следует рассматривать с политической точки зрения, после чего, громко выражая свой протест, он собрался было покинуть фургон. Вернер прошипел, что, мол, я во всем виноват, а затем, загородив своим коренастым телом узкую дверь, сказал:
– Садитесь, пожалуйста, и сидите здесь хоть все воскресенье, а я прошу тишины на командном пункте. – И он сунул вахмистру под нос свое служебное удостоверение.
В этот момент кто-то открыл дверь рывком снаружи и Вернер едва не свалился с деревянной лестницы. Внизу стоял один из наших «ремонтников».
– Он здесь! – взволнованно прокричал юноша.
Я вскочил. Вернер же, с трудом подавив волнение и понизив голос, сказал:
– Влезай, парень, сюда.
Тот прикрыл за собой дверь и вытянулся по стойке «смирно»:
– Согласно приказу наблюдение прекращено. Докладываю: он здесь, средний рост, средний возраст, неприметная внешность.
Вернер по радиотелефону отдал необходимые распоряжения. Вахмистр присел на стул возле печки, глаза у него стали совсем круглыми от изумления, и он беспрестанно потирал щетинистый подбородок, так как после ночного дежурства не успел побриться.
Вернер спросил молодого человека:
– По каким признакам вы его засекли?
– По граблям и лейке, которые он прихватил с собой для маскировки.
– И что же?
Юноша еще больше посерьезнел и тихо сказал:
– Здесь все могилы очень старые. Сюда никто не ходит и за могилами не ухаживает. Так что грабли и лейка здесь просто ни к чему. – И после паузы добавил: – Да из родственников, должно быть, уже никого нет в живых.
Один из наблюдателей доложил по радиотелефону:
– Все выяснили: от главной аллеи предпоследний участок слева, шестой ряд, одиннадцатая могила.
Я взволнованно вскрикнул:
– Покойник был родом из Лемберга?
Вернер повторил мой вопрос по радиотелефону.
– Да. Хаим Мысловицер из Лемберга. Родился в 1851 году.
Я не мог больше сдерживаться: г
– Тогда пошли.
Вернер схватил меня за руку:
– Ты хочешь его вспугнуть?
Затем он дал указания молодому сотруднику, который продолжал стоять по стойке «смирно»:







