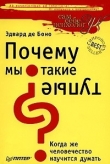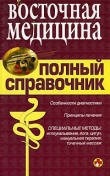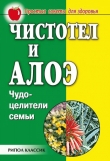Текст книги "О мышлении в медицине"
Автор книги: Гуго Глязер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
В более близкие к нам времена успехи учения о глазных болезнях связаны с изобретением глазного зеркала (Гельмгольц), работами Graefe и открытием обезболивающего действия кокаина; после введения нескольких капель раствора кокаина роговица становится нечувствительной, что позволяет на ней оперировать. Открытие этого действия, составившее эпоху в области глазных болезней, совершил Коллар; Фрейд не придал ему должного значения, хотя он установил, что под действием нескольких капель раствора кокаина язык становится нечувствительным.
Новейшие успехи в лечении глазных болезней являются результатами усовершенствованной техники и глубокого мышления. Важнейший успех достигнут в лечении отслойки сетчатой оболочки; ранее она всегда приводила к слепоте; теперь ее устраняют, «припаивая» сетчатую оболочку к подлежащему слою, для чего вводят иглу в места отслойки и пропускают через нее электрический ток; благодаря этому сетчатая оболочка фиксируется. Кроме того, в настоящее время существует возможность разрушать позадиглазные опухоли, не прибегая к удалению глазного яблока. Направляя на это место лазер–лучи, используют их действие на опухоль.
Для медицины представляет ценность разрушающее действие интенсивного облучения; оно открывает большие возможности для офтальмологии и мозговой хирургии. Но это только начало развития метода.
Заболевания в области шеи, полости носа и уха объединили в особую специальность, оториноларингологию ввиду анатомических взаимосвязей между этими органами; по этой причине заболевание одного из них может переходить на другой. В этой области ничего не удавалось предпринять в течение очень долгого времени. Только после изобретения некоторых инструментов, в частности ушного зеркала, появилась возможность хотя бы частично осматривать эти органы и создать способы терапии. Вначале успехи были невелики. Но после того, как хирурги научились оперировать асептически и в дальнейшем получили в свое распоряжение сульфаниламидные препараты и антибиотики, эта специальность начала быстро развиваться, и в настоящее время удаются даже тончайшие операции, например в области внутреннего уха или в полости среднего уха; с помощью оптики, дающей увеличение, врачи ножом и пинцетом производят операции на крохотных слуховых косточках. Значение этих операций очень велико: как известно, воспаления в этой области легко переходят на мозговые оболочки и на самый мозг, что часто сопровождается смертельным исходом.
Были тщательно изучены также и анатомия, и физиология этой области, причем исследователи особенно старались выяснить значение отдельных частей среднего и внутреннего уха. Медики не только были заинтересованы в том, чтобы справляться с воспалениями и предотвращать их распространение на головной мозг; речь шла также о заболеваниях, частично опасных, частично тягостных. Это относится, например, к состояниям головокружения, известным под названием болезни Меньера, и к отосклерозу, процессу уплотнения ткани слуховых косточек; это весьма тягостное и грозное заболевание сопровождается постоянным шумом в ушах и, прогрессирующей глухотой. Также и здесь можно помочь тончайшим хирургическим вмешательством и избавить больного от его столь тягостного страдания. В физиологии уха больших успехов добился Robert Barany, получивший в 1914 г. за свои исследования Нобелевскую премию.
Хирургия представляет собой древнейший раздел медицины, так как охота и война беспрестанно требовали лечения ран. При этом хирургия в соответствии со своим названием всегда оставалась делом рук. Ей были свойственны сноровка и быстрота, и вплоть до нового времени в ней не произошло основных изменений, и слава хирурга всецело зависела от быстроты его работы: ампутаций, удаления камней мочевого пузыря, репозиции отломков после перелома костей, малой хирургии. Бывало и так: врачи приезжали издалека к знаменитому хирургу, чтобы ознакомиться с его техникой ампутаций; но если кто–нибудь из них на миг отворачивался после того, как этот хирург уже приставил нож к конечности, и потом снова устремлял взор на операционное поле, то оказывалось, что вмешательство уже закончено. Эта быстрая работа была необходима, так как тогда не был известен наркоз, а заменяющие средства не оказывали обезболивающего действия в полной мере.
Подлинная хирургия смогла развиваться только после того, как Мортон и Джексон ввели общий наркоз (1846), а Листер ввел сначала антисептику (1867), т. е. опрыскивание операционного поля слабым раствором карболовой кислоты, а затем и асептику, т. е. работу на обеспложенном операционном поле обеспложенными инструментами и перевязочным материалом. В этом направлении особенно много работал Бергманн. Оба эти достижения, наркоз и применение асептики, стали исходными точками современной хирургии, причем появилась возможность производить вмешательства, о которых ранее нельзя было и думать. Стали возможны большие полостные операции – на грудных и брюшных органах – и мозговая хирургия, причем хирургия достигла блестящих успехов.
Если ранее сословие хиругов и цирюльников занимало в медицине лишь второстепенное место, то теперь хирургия вышла на первое место, и хотя внутренняя медицина оставалась основой всей медицины, хирургия все–таки стала самой популярной отраслью медицины, вызывающей всеобщее изумление.
Теперь появилась возможность продумывать многое новое и выдающееся, испытывать это экспериментально и затем применять в клинике. Рассматривая историю хирургии последнего времени, мы видим, какой понадобился великий ход мысли, чтобы достичь этих успехов и превратить искусство рук в дело ума. Торакальная хирургия, хирургия сердца – примеры этому. В клинику был доставлен человек, которому бык нанес рогом проникающую рану в грудь, и вследствие этого человек погиб. Sauerbruch рассказывает в своих воспоминаниях, что он ночь напролет думал о том, как предотвратить подобную катастрофу, – нельзя ли оперировать в грудной полости без того, чтобы легкие спались вследствие давления внешнего воздуха. Началом грудной хирургии было создание камеры с пониженным давлением; описание размышлений хирургов, экспериментов, успехов и неудач составляет драматическую главу в хирургии. В настоящее время грудная хирургия благодаря введению интубационного наркоза (непосредственно через трахею) стала чем–то самим собой разумеющимся и ею занимаются в каждой хирургической клинике.
Как изумительна хирургия сердца! Это действительно чудо мышления человека, причем инженер и медик должны сообща способствовать тому, чтобы нож хирурга мог проникнуть в сердце. Надо было работать на остановившемся сердце, но без прекращения кровообращения в головном мозгу, так как клетки головного мозга нельзя оставлять без подвоза кислорода, т. е. крови в течение времени, превышающего несколько минут. Экстракорпоральное кровообращение, осуществляемое аппаратом искусственного кровообращения, делает это возможным, и благодаря этому хирург в состоянии не только вмешиваться при повреждениях сердца, но и вскрывать этот орган, чтобы расширить суженный клапан или заменить его искусственным клапаном из пластика, чтобы исправить врожденный или приобретенный порок сердца, возвратить радость жизни жалким blue babies (болезнь Киселя-Фалло) и достигнуть успехов, о которых ранее можно было только мечтать.
Создание аппарата искусственного кровообращения, можно сказать, было навеяно теми мыслями, которые ранее уже привели к так называемому «мытью крови», применяемому с целью удаления ядов из крови.
Случаи прекращения деятельности почек нередки; примером может служить отравление сулемой. Если удается хотя бы в течение недели заменить почку и каким–либо образом удалять из крови вредные вещества, то мы этим предотвращаем грозное отравление мочой, уремию, и спасаем человека. Хирургия обеспечила также и эту возможность, и так называемая искусственная почка известна всюду.
Урология, с полным основанием отделившаяся от общей хирургии, смогла сделать большие успехи только после изобретения эндоскопии. В мочевой пузырь вводят металлический оптический инструмент, на конце которого имеется электрическая лампочка; это позволяет осмотреть слизистую оболочку пузыря и произвести вмешательство, удалить инородное тело, а прежде всего поставить диагноз. Впоследствии научились вводить через этот инструмент тонкий катетер в мочеточник и даже в почечную лоханку; это позволило ставить диагноз и применять лечение, что ранее не было возможно.
Эндоскопия, осмотр полостей человеческого тела через естественные отверстия или посредством небольшого прокола, сопровождающегося введением инструмента, стала важным и часто применяемым вспомогательным методом в диагностике и терапии. К ней впоследствии прибавилась биоскопия, т. е. возможность при помощи эндоскопа извлечь крохотный кусочек ткани какого–либо органа, например печени, и затем исследовать его микроскопически. Это позволяет делать важные выводы о характере заболевания, особенно в части дифференциального диагноза, например, насчет наличия и отсутствия злокачественного перерождения.
Вся область хирургии в наше время уже необозрима, и поэтому в ней оказалась необходимой специализация. Об урологии мы уже говорили. Более молодой областью является нейрохирургия. Правда, уже культурные народы древности применяли операции на черепе; путем трепанации удалялся кусочек кости черепного свода, главным образом с культовыми целями, но иногда и с лечебной, так как таким путем, например, у душевнобольных рассчитывали удалить из черепа дурное начало. На протяжении последних десятилетий нейрохирургия отделилась от общей хирургии, и это, несомненно, было в интересах больного. Ибо нейрохирургия требует всестороннего образования, она должна в одном лице объединять невропатолога и хирурга. Важнейшим толчком к развитию, этой отрасли послужил метод контрастирования и рентгенологического исследования сосудов головного мозга (Moniz), позволивший определять локализацию очагов (нейрорентгенология). Это дало возможность точно определять местоположение опухоли и применять соответствующее лечение. В таких случаях, естественно, требуется точный анализ и ряд других исследований, в частности со стороны окулиста. Таким образом нейрохирургия стала делом коллектива, который способен ставить точный диагноз и выбирать метод лечения не только при опухолях, но и при аневризмах сосудов головного мозга. Затем, в 30‑х годах, психиатр Hanz Berger разработал метод электроэнцефалографии, оказавшийся ценным также и для нейрохирургии[11]11
До Г. Бергера русский физиолог В. В. Правдич-Неминский в 1912 г. дал первую классификацию потенциалов электрической активности различных областей головного мозга и тем самым заложил основы электроэнцефалографии. – Прим. ред.
[Закрыть].
Помимо названных двух групп заболеваний, опухолей и аневризм в головном мозгу, нейрохирург может вмешиваться также и в случаях мозговых кровоизлияний и закупорки мозговой артерии; оба вида поражения часто наблюдаются как последствия атеросклероза. В таких случаях нейрохирург пытается, щадя мозговую ткань, удалить кровяные сгустки или устранить закупорку сосуда, что иногда приводит к полному восстановлению кровоснабжения. Нейрохирурги производят также и замену кровеносного сосуда протезом, но в настоящее время это только начало нового раздела.
Также и лечение эпилепсии в наше время в ряде случаев передают хирургам – тогда, когда удается обнаружить очаг, вызывающий судороги, и удалить его. Подобными устранимыми причинами эпилепсии являются не только повреждения на войне и присутствие инородного тела, но и заболевания кровеносных сосудов, и число больных, которых возможно вылечить оперативным путем, будет увеличиваться, что обеспечит успехи неврологии.
Также и некоторые пороки развития головного мозга подлежат хирургическому лечению. В самое последнее время появилась хирургия по поводу болей. В некоторых случаях, когда боли не уступают ни одному виду консервативного лечения, обращаются к нейрохирургу с вопросом, нельзя ли здесь помочь рассечением в спинном мозгу путей, проводящих боль. Так бывает, например, при сильных приступах болей в связи с раковыми метастазами в костях или при давлении опухоли, которую невозможно удалить, на нервный пучок и, наконец, при резких болях в области тройничного нерва. Во всех этих случаях нейрохирург иногда может оказать необходимую помощь.
Уже упоминавшаяся нами лоботомия, т. е. разрез через определенный участок в головном мозгу, редко применяется в клинике. Вопрос об этом нейрохирургическом вмешательстве возникает при особенно сильных болях, против которых мы не можем помочь анальгетическими средствами, и при возбуждении у страдающих шизофренией. В таких случаях говорят о психохирургии; она всегда бывает последним прибежищем терапии. В заключение следует упомянуть о другом крупном достижении – о нейрохирургическом лечении паркинсонизма посредством стереотаксического вмешательства.
В этой области хирургии, несомненно, можно ожидать еще многого. Нейрохирургия, вероятно, поможет устранять опасности, связанные со склерозом мозговых артерий. Это – важная задача современной медицины.
После того как хирурги достигли успехов, упомянутых выше, а местное обезболивание, которое предложил Шлейх и разработали другие, стало всеобщим ценным вспомогательным средством, можно было подумать также и о пересадках (трансплантациях) тканей, частей органов и целых органов. Вначале производилась пересадка кожи, которую предложил Тирш; она была нужна после большой утраты кожи, например при ожогах. Но такие трансплантаты надежно приживали лишь в тех случаях, когда их брали у того же субъекта. Ибо при пересадке с другого человека возникало препятствие в виде иммунитета, сопротивления, оказываемого организмом чужеродной ткани. Если бы не существовало этого барьера, то успехи в области пересадок давно были бы значительно большими. Но если мы берем для пересадки органы или даже части органов от другого лица, то мы всегда рискуем, что они будут «восприняты» как инородные тела и отторгнуты. Преодоление этого иммунитета, этой защиты от чужеродной ткани – одна из важных проблем современной хирургии, и все мышление, направленное на разрешение ее, пока еще увенчалось лишь малыми успехами.
Это наблюдается при попытках заменить почку, переставшую работать, другой почкой, взятой у только что умершего человека. Иногда у человека бывает только одна почка, и если ее функция прекращается, то возникает состояние, опасное для жизни и в большинстве случаев быстро приводящее к смерти. В таких случаях пересадка почки была бы очень ценна, но она пока еще удается только у однояйцевых близнецов. В этой связи следует упомянуть и о заменительной хирургии, применяющей синтетические вещества; в отношении артерий это уже удалось (хирургия сосудов).
Хирургу трудно и должно быть трудно принять решение. Часты пограничные случаи, когда хирург не знает, следует ли ему оперировать, какой путь выбрать ему для вмешательства, чтобы оказать больному наилучшую помощь. «Сила принимать решения и уверенность в них, неразрывно связанные с сущностью хирургии, не позволяют нам быть пассивными. Мы должны действовать, и вполне понятно, что когда в душе хирурга происходит борьба из–за того, какое решение ему принять, он иногда делает неверный выбор» (Nissen).
Когда речь идет о новых мыслях и новых способах операции, о которых мы не знаем, спасительны ли они для больного или же угрожают его жизни, то разве хирург не должен в таких случаях думать и колебаться, прежде чем ему принять решение? Nissen приводит следующий случай: в клинику была доставлена семилетняя девочка с тяжелыми повреждениями, сопровождавшимися разрывом крупного бронха; ее возможно было спасти только путем удаления доли легкого. Это было в 1930 г.; подобное вмешательство уже было трижды произведено в трех клиниках и притом со смертельным исходом; хирург стоял перед дилеммой: оперировать или, без операции, ждать смертельного исхода. Вообще возникал вопрос, допустимо ли было в то время с этической точки зрения предпринимать операцию, которая не сулила никакого успеха. Nissen предоставил решение этого вопроса родителям, которые дали согласие на операцию. Во время операции после рассечения крупного бронха сердце ребенка остановилось. Снова возник вопрос, следует ли продолжать операцию. Родители, находившиеся в соседней комнате, на это соглашались. Сердце ребенка снова начало биться, операция была доведена до конца. Больная выздоровела. Это был первый случай удачного удаления доли легкого.
Эти колебания, которые так часто должны появляться у хирурга, часто бывают связаны также и с тем. что оперативная хирургия в большинстве случаев калечит больного, удаляя органы или конечности, когда она желает избавить его от страданий и опасностей. И даже после удачной операции возникает иногда легкий, но чаще трудный вопрос о возвращении больного к трудовой деятельности (реабилитация).
В последнее время этой проблемой усиленно занимаются не только хирурги, но и представители других медицинских специальностей, так как медицина стоит не только перед необходимостью применять лечение, но и решать социальные задачи. Например, в хирургии после операций на желудке возникают трудные вопросы при выздоровлении и реабилитации; ведь резекция желудка, так часто необходимая при язве и при опухоли желудка, является калечащим вмешательством, после которого полностью или частично выпадает один из важнейших органов. Понятно, что после таких операций восстановление здоровья и трудоспособности должно достигаться главным образом диететическими мероприятиями; поэтому при выписке больного из клиники ему дают письменные указания насчет режима его питания. Ведь после удаления или значительного уменьшения желудка возникает необходимость вводить пищу в соответствии с новой ситуацией. Поэтому пищу надо часто принимать небольшими порциями; при этом контроль над весом больного дает представление об усваивании пищи. Ибо в таких случаях возникает опасность, что тонкие кишки освобождаются от принятия пищи чересчур быстро, что нежелательно; поэтому следует назначать богатый калориями и легко усваиваемый стол; не следует забывать и о витаминах и назначать витаминные препараты.
Выздоровление после операций на центральной нервной системе часто бывает связано с большими трудностями. Состояние больных, перенесших операцию на головном или на спинном мозгу, в настоящее время следует считать более благоприятным, чем было раньше, в связи с тем, что в начальный период развития нейрохирургии операции производились только под местным обезболиванием, что приводило к значительному шоку.
Современная техника наркоза посредством интубации, т. е. введения трубки в трахею, привела к большим успехам в этой области. Время от операции на мозге и до восстановления трудоспособности, разумеется, бывает различным и зависит от особенностей каждого случая, а также и от принципиальных установок; в некоторых клиниках склонны считать этот промежуток времени значительным. В течение этого срока стараются, назначая активные и пассивные движения, а также прицельные хватательные упражнения и при этом возможно быстрее, часто уже в день, когда была произведена операция, начинать реабилитацию. Так поступают даже при наличии параличей, что весьма ценно для психики больного. В среднем можно рассчитывать на полное рубцевание операционных повреждений в головном мозгу по истечении 2–3 месяцев.
В медицине нет области, в которой вопрос реабилитации не был бы важен. Даже при банальных заболеваниях, например при обычном гриппе, о восстановлении трудоспособности следует говорить только тогда, когда это действительно так. Отпуск по болезни лучше продлить на 1–2 дня, но не рисковать возвратом болезни.
Заболевания сердца и кровеносных сосудов в области внутренней медицины требуют особого внимания, когда речь идет о реабилитации. В частности, после инфаркта сердца требуется значительное время, прежде чем врач может позволить больному снова приступить к работе; обычно необходимо пребывание в больнице в течение 5 недель, даже если больной чувствует себя хорошо и думает, что он уже в состоянии работать. В таких случаях следует помнить об опасности повторения инфаркта и поэтому сокращение срока больничного лечения недопустимо. Реабилитация должна происходить с осторожностью; следует запретить всякое физическое напряжение, также и безобидное на первый взгляд, пока опасность не будет позади. Также и больной сердечнососудистым заболеванием должен отдавать себе отчет в том, что он болен и что ему лучше всего удастся справиться с трудностями жизни, если он не утратит связи со своим врачом и будет следовать его советам.
Реабилитация требует весьма различных средств.
Для достижения цели необходимо сочетание климатических, бальнеологических, физических, психических факторов, а также и лекарств; при этом прибегают то к одному, то к другому методу, то к их комбинации. Физиотерапия при этом играет важную роль, так как дает ряд возможностей для возвращения реконвалесценту его трудоспособности. Поэтому в течение последних десятилетий она превратилась в особую медицинскую специальность (физическая медицина). Водолечение, которое ввели Кнейпп и Присниц, уже давно получило большое развитие; к нему прибавилось применение электричества в разных видах; часто бывают необходимы диететические мероприятия; лучевое лечение также получает большое значение.
Именно лучевая терапия достигла необычайных успехов. Она имеет отношение, конечно, не только к реабилитации реконвалесцентов; она стала группой терапевтических мероприятий. Здесь прежде всего следует назвать рентгеновы лучи. Когда было установлено, что им присуща разрушительная сила, рентгеновы лучи наряду с другими средствами начали применять для борьбы с раковыми опухолями – частично для разрушения раковых опухолей, недоступных или уже больше недоступных для ножа хирурга, частично для уничтожения остатков, возможно, имеющихся раковых клеток. При неоперабельных раковых опухолях и при некоторых лейкозах оказалось полезным общее облучение всего тела больного малыми дозами.
Новшеством в физиотерапии оказалось применение ультразвука, который, как выяснилось, оказывает сильное разрушительное действие; ультразвук научились применять там, куда невозможно проникнуть при хирургической операции. Это относится прежде всего к головному мозгу, а так как мы можем направлять ультразвук только на нужное нам место, щадя остальные ткани, то он вскоре получил большое значение в мозговой хирургии. Кроме того, – и это было началом такой терапии – ультразвук можно применять при хронических процессах в суставах, так как посредством него можно, так сказать, придать гладкость болезненно измененным суставным поверхностям, что может способствовать восстановлению их функиии.
Ультразвук был применен также и против паркинсонизма, скованности мышц, которая может развиться после воспалений мозга. В частности, в США этот метод принес значительные успехи. Также и при лечении глазных болезней ультразвук возможно применять; в последнее время было сообщено, что посредством него поддается исправлению близорукость.
Применение радиоактивных изотопов относится к лучевой терапии. После того как Мария Склодовская—Кюри открыла радий и было установлено его разрушительное действие, к последнему стали прибегать для воздействия на раковые опухоли, которые не было возможности устранить ни оперативным путем, ни рентгеновыми лучами. Например, для борьбы со злокачественными опухолями в зеве были изготовлены полые иглы, содержавшие радий; их вкалывали в опухоль и оставляли в ней в течение определенного времени. Радий развивал там свое действие, разрушительное для злокачественного новообразования. Затем ученые пошли дальше и стали придавать искусственную радиоактивность разным элементам, например золоту, кобальту, йоду и др. Эти изотопы возможно вводить в организм через рот или путем впрыскивания, затем мы можем установить наличие изотопа и его распределение в организме больного. Если, например, ввести в организм радиоактивный йод, то он скопляется преимущественно в щитовидной железе; выявление испускаемого им излучения (сцинтиграфия) позволяет делать выводы о функции щитовидной железы.
Одновременно сказывается также и разрушительное действие лучей; именно его часто желают использовать прежде всего при наличии злокачественного новообразования. В настоящее время радиоактивные изотопы наряду с рентгеновыми лучами в медицине играют важную роль как для диагностики, так и для лечения.
Путь медицины определяется наблюдением и экспериментом. Экспериментальная медицина возникла, естественно, в более позднее время, когда необходимые для этого основания в области мысли уже имелись. Первые попытки производить эксперименты можно найти уже в древности и в средние века, но развитие экспериментальной медицины с ясными целями и попытками разрешить неразъясненные вопросы могло начаться лишь относительно поздно. В XVIII веке и в первые десятилетия XIX века мы находим уже ценные сообщения в этой области. Но если мы захотим говорить о великих экспериментаторах, то прежде всего следует назвать Клода Бернара, одного из гениальнейших физиологов своего времени, который в духе Гиппократа объединял в своем мышлении медицину и философию. Широко известны его эксперименты, относящиеся к сахарному обмену. Он поставил себе следующий вопрос: поступил ли сахар, который возможно обнаружить в крови и мышцах, в организм только извне или же организм также в силах сам вырабатывать сахар? Эксперимент, произведенный им с этой целью, был в сущности прост. Клод Бернар кормил собак одним только мясом; несмотря на это, в их организме образовался сахар. На этот вопрос тем самым был получен ответ. Возник следующий вопрос: где сахар образуется? При исследовании разных частей организма в этом направлении Клод Бернар нашел сахар в большем количестве в печени (гликоген).
Вскоре после этого он сделал еще одно открытие, которое тогда обратило на себя всеобщее внимание: студентам и по настоящее время сообщают о нем в курсе физиологии. Это был так называемый сахарный укол. Клод Бернар проколол острым инструментом дно четвертого желудочка мозга, после чего подопытные собаки начали выделять сахар в моче. Эти работы были выполнены в 40‑х и 50‑х годах XIX века. Своими экспериментами Клод Бернар положил основание современной физиологии углеводного обмена. Он также ввел понятие внутренней секреции.
Клод Бернар изучал посредством экспериментов также и деятельность поджелудочной железы, и если позже, то экспериментальным путем, Бантинг и Бест разработали физиологию этой железы, выяснили сущность сахарной болезни и нашли инсулин, то все это было подготовлено работами Клода Бернара, выполненными десятилетиями ранее.
История экспериментальной медицины заполнила бы томы. Она свидетельствует о важности эксперимента на животном, на всех его органах. Достаточно вспомнить о знаменитых опытах русского физиолога И. П. Павлова, накладывавшего свищи слюнных желез и желудка с целью собирать и исследовать отделяемые соки и для определения, влияют ли психические моменты (и какие именно) на отделение соков организма. Он таким образом создал учение об условных рефлексах и получил много данных о работе головного мозга. Деятельность И. П. Павлова начинает одну из новейших глав физиологии. За свою работу он был удостоен Нобелевской премии.
Ко времени между эпохой Клода Бернара и эпохой И. П. Павлова относится деятельность великого чешско го фармаколога Пуркинье, который путем многочисленных экспериментов старался выяснить действие и особенно побочное действие лекарств из растений и минералов, причем он во многих случаях производил опыты на себе. Опыты, которые врачи производили на себе, имеют большое значение для медицины. На некоторые вопросы ответить на основании эксперимента на животном невозможно и для разрешения их необходим опыт на человеке. Такие ответы не новы; их уже производили в старину на людях, приговоренных к смерти, обещая за это сохранить им жизнь.
Как уже было сказано, к проблеме об опытах на людях в последнее время возвратились снова, в частности в США, исходя при этом из упомянутых выше обещаний, какие давались осужденным. В настоящее время такие опыты производятся главным образом врачами на себе самих или на студентах, соглашающихся на них. Вот почему эти опыты занимают важное место в медицине. Это поистине героические поступки, так как не каждый такой опыт на себе самом обходился без вреда для подопытного человека; история таких опытов поэтому богата драматическими случаями.
В экспериментальной медицине можно различать три группы опытов. Вначале ученые старались дополнить свои знания по физиологии человека, выяснить значение всех органов и устранить неясности. Чтобы ответить на физиологические вопросы, пришлось произвести множество опытов на животных, но понадобились, да и теперь еще нужны, также опыты на людях, чтобы ответить на отдельные вопросы, например на вопросы обмена веществ. Благодаря таким экспериментам физиология человека была разъяснена в большинстве своих частностей, но кое–что еще остается выяснить. Это касается прежде всего центральной нервной системы. Так, совсем недавно было установлено значение частей человеческого мозга, известных под названием лимбической системы. Вторая группа экспериментов относится к патологии. Эрлих много занимался экспериментальной патологией, желая создать основы для экспериментальной терапии. Работа по экспериментальной патологии связана с тем, что заболевания вызываются искусственно; этот раздел научной работы, как можно понять, представляет собой огромную ценность. Эрлих и многие другие при этом были заинтересованы в изучении инфекционных болезней и испытании лекарств. Все современные исследователи раковых заболеваний пользуются подопытными животными, которым они прививают раковый материал; хорошим объектом для этого оказалась мышь. С этой целью были выращены штаммы мышей, чувствительных к раку, и штаммы мышей, стойкие по отношению к нему.
Экспериментальная патология изучает многие заболевания, причем инфекционные болезни, разумеется, занимают первое место. Результаты, получаемые при опыте на животном, конечно, нельзя безоговорочно переносить на человека, но они все–таки дают много указаний, которые затем возможно использовать при лечении человека. Экспериментально возможно вызывать не только инфекционные, но и многие другие болезни, и это допускает выводы насчет заболеваний, наблюдающихся у людей. Внутренняя медицина, неврология и психиатрия, а особенно хирургия широко применяют эксперименты на животных и таким образом разрабатывают научные вопросы.