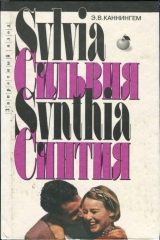
Текст книги "Сильвия"
Автор книги: Говард Фаст
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Часть 4
Эль-Пасо
Глава I
Там было очень жарко, в Эль-Пасо. В отеле «Хилтон» все номера с кондиционерами, и это замечательно, но на улице термометр все эти дни показывал около тридцати пяти. На гонорар, выплаченный мистером Саммерсом, я приобрел джинсовую спортивную рубашку и пару легких брюк, после чего начал знакомиться с городом – впрочем, не перенапрягаясь. По-быстрому с городом не познакомишься, тут время требуется. Чтобы уж с этим покончить, скажу еще, что в Эль-Пасо были куплены вельветовые джинсы коричневого цвета, а в Хуаресе – сомбреро; но, с час побыв техасцем, стараясь истребить свой чикагский акцент, я понял, что дело безнадежно, и отдал это сомбреро мальчишке-мексиканцу, рывшемуся в куче ореховой скорлупы с намерением отыскать нерасколотые орехи. Еще я дал ему доллар, за что удостоился выговора от строгого вида пожилой американки, изъяснявшейся стилем школьной учительницы, – зачем, мол, я их приучаю попрошайничать, а потом еще сами жалуемся, что в Хуаресе никто ничего делать не хочет.
Мне вовсе не хотелось, чтобы никто ничего не делал в Хуаресе, равно как в Эль-Пасо. Еще мне пришлось купить себе летние брюки из хлопка – вернее, из хлопка с примесью нейлона; дело в том, что прежние, серого цвета, сильно запачкали и в двух местах порвали, выставляя меня из знаменитого борделя в Хуаресе, принадлежавшего арабу, который сам жил в Калифорнии, в Сан-Диего. Этот араб разбогател на том, что поставлял мальчиков педерастам с деньгами, за что местная администрация смотрела на него довольно косо.
К этому времени я успел переговорить почти со всеми менеджерами заведений в тех районах Эль-Пасо и Хуареса, где над дверями горят красные фонари, а также с самими девицами. Никто ничего мне сообщить не смог, а случалось, меня просто гнали в шею, но до рукоприкладства дошло только в борделе, принадлежавшем арабу.
У американцев почему-то считается, что это даже на пользу, если тебе разок намнут шею, причем и кино, и телевидение всемерно укрепляют такое поверье. Видно, такой уж нам достался век, что следует поскорее забыть, какой хрупкий и тонкий организм наше тело, и уверовать, что оно несокрушимо, оттого-то среди ковбоев, среди частных детективов полным-полно таких, которые умудряются в драках, достойных неандертальцев, сохранять в целости свои кулаки, а также физиономии и внутренности, подвергнутые такой же обработке их противниками. Но я все же думаю, что нормальному человеку лучше обходиться без этого, вспомнив хотя бы про размеры штрафов, полагающихся за то, что слишком дал волю рукам.
Только в Хуаресе эти законы не работают. Мне всего-то и нужно было выяснить, в каком из этих заведений лет десять-двенадцать назад работала девушка по имени Сильвия. Но мои расспросы их страшно нервировали, особенно в том арабском борделе, где какой-то норвежец с помощью двух мексиканцев измолотили меня и вышвырнули на улицу да еще добавили ногами по голове и в живот, пока я валялся в пыли, – все лицо было разбито в кровь, когда я пришел в себя. Добавляли и еще, только я уже ничего не чувствовал. Вообще ничего не чувствовал, пока не очнулся наутро в больнице – уже американской, на авеню Альмеда.
Рядом с моей койкой сидел подобравший меня полицейский, здоровенный откормленный мужчина с квадратной челюстью, приветствовавший меня такими словами:
– Доброе утро, милок, решил, значит, еще немножко у нас побыть?
– Вы кто такой? – осведомился я, и сразу резкая боль пронзила рот, затем голову, потом и желудок.
– Сержант Хоумер, милок, а вот ты, видать, порядков наших совсем не знаешь, правильно говорю?
– Какой я вам милок…
– Ну, милок, не милок, ты лучше скажи, откуда такой взялся?
– Да вот взялся. В общем, милок. Только говорить мне очень трудно, язык не ворочается. Может, потом побеседуем, когда прочухаюсь?
– А ты уже прочухался, милок. Челюсть тебе малость попортили, только и делов. Вообще, дешево отделался, вот, правда, морда у тебя вся была в собачьем дерьме, когда тебя нашли. Теперь лучше, не бойся.
– Ничего не лучше. Где я нахожусь?
– В больнице округа, вот где. А сам-то ты знаешь, кто ты такой есть, а, милок? Память тебе, часом, не напрочь отшибло? А то смотри, восстановим.
– Знаю, знаю.
– Ну, скажи.
– Слушайте, шли бы вы, дали б передохнуть, – взмолился я. – Потом придете, я вам все скажу. Даже могу будущее ваше предсказать, если желаете.
Его широкая грубо вылепленная физиономия, заслонявшая от меня всю палату, стала еще шире – видимо, сержант Хоумер улыбнулся, ласково сообщив мне:
– Вот что, милок, тебя эти красножопые малость помяли, так? – ну ты же не хочешь, чтобы теперь и американцы еще добавили, точно тебе говорю, не хочешь.
– Ладно. Только не надо меня милком называть.
– Короче, твоя фамилия-то как? – донеслось из-под улыбающейся маски. – Скажи-ка поскорей, милок, я тебя тогда по фамилии называть буду.
– Алан Маклин.
– Алан Маклин? Ладно, пусть будет Маклин, милок Ты мне вот что скажи, откуда ты к нам заявился.
– Из Лос-Анджелеса.
– И ты что же, бордели наши решил осмотреть да про какую-то Сильвию собрать сведения?
– А тебе-то откуда это известно? – прошептал я, чувствуя, что все плывет перед глазами от боли, а каждое произнесенное слово отдается в голове тяжелым ударом.
– Ты что думаешь, Алан, мы вчера с дерева слезли? Говорить не умеем, вопросы задавать? Или что с нами народ разговаривать брезгует?
– Хорошо. Да, мне нужно найти одну женщину, которую зовут Сильвия.
– Какая Сильвия?
– Сильвия Кароки.
– Кароки? Ну и фамилия, ядрена мать. Еврейка, что ли? Или из желтомордых?
– Венгерская это фамилия, венгерская. Слушай, Хоумер, – опять взмолился я, – мне говорить трудно. Голова трещит черт знает как, загнусь, наверное. Оставь ты меня в покое.
– Да, милок, здорово тебе врезали. – Опять ухмылочка эта его. – Не подфартило тебе, милок, Я вот что тебе, Алан, скажу, ты давай оклематься постарайся, а потом мы с тобой бутылочку раздавим, а? Так, посидим вдвоем вечером, согласен? Я тут такие места знаю.
Глаза у меня закрылись.
– Значит, Сильвия тебе эта нужна. А зачем?
– Потому что задание у меня такое. Работа, понял? Я частный детектив.
– Да ну? Полицейский, значит, только в одиночку работаешь. А я-то все думаю: «Странный этот Алан какой-то, по шлюхам таскается, и за это ему морду бьют».
Его форма с начищенными пуговицами и блестящими ремнями смутно маячила где-то совсем рядом.
– Все одно странно что-то, Алан.
– Бумажник мой достань, там удостоверение.
– Нет у тебя никакого бумажника, милок. Они с тебя все сняли. Штаны вот оставили, рубашку и еще трусы замазанные. Хотя вообще-то хорошие трусы, из нейлона.
– Ну, не веришь, так у лейтенанта Эбби справься из управления…
Боль тупо гудела во мне, и появлялась странная, необъяснимая эйфория, какая бывает перед тем, как теряешь сознание. Если я при смерти, пусть при смерти, даже смерть – облегчение, и сержант Хоумер оставит меня, наконец, в покое. Я отключился под мерные звуки его голоса:
– Ставь 46 000 песо, милок, точно говорю. Какой там, на хрен, тотализатор футбольный, тут такие деньги огрести можно. Давай, как оклемаешься, сразу и двинем…
Глава II
В больнице я провалялся еще целый день, а наутро меня выписали, вручив счет за медицинские услуги и такси до гостиницы. В отеле я оплатил счет, съел в ресторане бифштекс с помидорами и картофелем, выпил две бутылочки пива, а потом поднялся к себе покурить и успокоить опять начавшуюся боль в желудке. Голова больше не раскалывалась, синяки потускнели, и руки начали подживать. Но так называемые «мелкие внутренние повреждения» заставляли меня морщиться от боли всякий раз, как я пробовал вздохнуть поглубже; а из-за проклятого бифштекса я несколько часов места себе не находил, трудно было наклоняться или делать резкие движения. Больничная еда при таком состоянии, видно, самая подходящая, а бифштекс вполне мог отправить меня на тот свет. Врач в больнице успокаивал: ничего, несколько дней и приду в норму, но вот попробовал сбрить щетину и что-то засомневался, придет ли время, когда это можно будет делать, не испытывая страдания.
Побрившись и приняв ванну, я сумел немножко подремать. Разбудил меня телефон. Лейтенант Эбби из городского управления, тот самый, с которым я сразу установил связь, просил приехать к нему безотлагательно.
Эбби был из тех полицейских, которым уже на все наплевать, просто тянут лямку, чтобы заработать на жизнь. В свои сорок лет он задубел, по выражению его лица ничего нельзя было понять, кроме того, что его ничуть не трогает происходящее с остальными. Со мной он разговаривал так, что невозможно было понять, нравлюсь я ему или совсем нет. Жестом показал, где сесть, и вытащил из стола бумажник, осведомившись, мой ли.
– Мой, – кивнул я, взглянув. Все было на месте, кроме денег.
– Сколько там лежало?
Я сказал, что примерно триста долларов.
– Вы всегда носите с собой так много?
– Если есть, что носить.
– Так, стало быть, бумажник этот принес старый американец по фамилии Тони Сантос.
– Сказал, где нашел?
– На улице. А что еще он мог сказать, что ему теща подарила, после того как вас отделала?
– Ладно. Передайте ему мою благодарность, – сказал я, пряча бумажник в карман.
– Обязательно. Он с нами давно работает. Вот что, Маклин, Сантос и другие, кто с нами работает, – им ведь тоже деньги нужны. Вы уж не будьте в претензии. Люди есть люди.
– Конечно, – согласился я. – Сколько с меня?
– Пятьдесят.
– Сколько?
– Полсотенную. Что, непонятно?
– Да нет, понятно, – сказал я. Сотню я уже выложил за предоставленную возможность порыться в их архивах и каталогах, да еще триста – за удовольствие прогуляться по борделям Хуареса, плюс этот счет из больницы, а теперь еще полсотни плати.
– В налоговой декларации укажете, что израсходовано на поддержку охраны общественного порядка. Тогда процент снизят.
– Ну как же, прямая выгода. Послушайте, тут у вас останавливаться что, не умеют?
– Похоже, это вы не умеете, Маклин. Вас сюда никто не звал. И вообще, с частными детективами связываться – хуже не бывает. Валите отсюда с вашими изысканиями. Вам что, у себя в Лос-Анджелесе борделей не хватает? Вернули вам бумажник, все документы на месте. Вот и поезжайте себе домой.
Я положил на стол пятьдесят долларов и вышел, чувствуя, что по горло сыт техасским гостеприимством. В Эль-Пасо я провел уже семь дней и ничего не раздобыл, абсолютно ничего – ни в полицейских архивах, ни в библиотеках, ни в старых газетах – решительно ни одного свидетельства, что Сильвия Кароки когда-нибудь бывала в этом городе.
Глава III
И все равно я восьмой день торчал в Эль-Пасо, потому что других вариантов не было, разве что вернуться в Питсбург и начать все заново. Или вообще бросить это дело, отдать Фредерику Саммерсу аванс – но такого сделать я не мог по причинам, прояснившимся для меня позднее.
Шататься пешком по улицам – для этого было слишком жарко, а голова опять начала болеть. За одиннадцать долларов в день я взял напрокат машину – расход, по-моему, оправдан – и познакомился получше с городом и с окрестностями. Раз уж не удается добыть новых фактов, по крайней мере, обживусь в городе да к тому же можно будет потолковать не с одними фараонами да котами. Я катил мимо ранчо, нефтяных скважин, покосившихся мексиканских лачуг и решил перекусить в придорожной забегаловке, но весь аппетит пропал, когда я увидел прибитый на дверях плакатик «Черномазым, мексиканцам и собакам вход воспрещается». Я добрался до Рио-Гранде, полюбовавшись хлопковыми плантациями, упирающимися в болота, а когда головные боли прекратились, предпринял экскурсию к Сьерра-де-Кристо Рей, где на вершине горы воздвигнута статуя Иисуса Благодетеля.
Хотя это всего в трех милях от Эль-Пасо, места тут безлюдные, и не стоит в одиночку затевать двухчасовой подъем к этой статуе, гигантской стелой вознесшейся вверх. Приехал я туда совсем рано, и не было там в этот утренний час никого, за исключением мальчишки-мексиканца лет двенадцати, который сидел на камне в тени и задумчиво, сосредоточенно ковырялся в зубах. Зубы у него, как у большинства мексиканцев, особенно молодых, были крупные и белые, а выражение лица не по годам взрослое, красивый такой мальчишка с копной жестких волос, напоминавших петушиный гребень. Были на нем выцветшие, во многих местах заштопанные голубые джинсы и белая майка, удивившая меня своей безукоризненной чистотой.
– Доброе утро, сеньор, – приветствовал он меня, – К Иисусу подняться задумали?
– Мне говорили, что в одиночку лучше этого не делать, как бы там наверху по голове не огрели.
– Со мной вы же не в одиночку пойдете, сеньор.
– С тобой?
– Меня зовут Панчо – по-английски это Фрэнк будет, а так Панчо Гусман. Меня в честь Панчо Вильи так назвали, упокой, Господи, его душу. Ничего, что я так говорю?
– Конечно, – успокоил я его.
– Хорошо, что вы такой. Пойду с вами, если хотите. Там четырнадцать площадок, пока к Иисусу поднимаешься, так я всех бандитов этих знаю, хулиганов и вымогателей, которые там работают.
– У тебя дома, наверное, телевизор есть? – улыбнулся я.
– Это вы про то, что я говорю не как все? Другие туристы тоже замечали, я, правда, стараюсь. А телевизора нет, мы бедные; я телевизор к соседям хожу смотреть, они его в лотерею выиграли. Фильмы про гангстеров смотрю. Мать у них на ранчо росла, где ее отец был пастухом, так она говорит, что вестерны эти сплошь одно вранье, лучше про гангстеров. И сама про гангстеров смотрит, а еще про частных детективов. Вы мне доллар заплатите, если я с вами пойду.
Я дал ему доллар и спросил, что это за четырнадцать площадок.
– А вы не католик, сеньор? – спросил он в ответ.
– Нет.
– Понятно. Но в Бога веруете?
– Как сказать. А если не верую, ты со мной не пойдешь?
– Я смотрю на вещи широко, сеньор. Не фанатик какой-нибудь, как прочие. Отец у меня родом из Даранго, там индейцев много, так они никакие не христиане и бедные, ужас просто, а все равно, ничем они нас не хуже; только мама по-другому думает и ругается с ним, она все время в церковь ходит. А я вот не фанатик. Со всеми могу поладить, сеньор. Ну вот, по нашей вере четырнадцать ступеней Христос прошел в муках своих, пока его из дома Понтия Пилата на Голгофу вели. Вы про это, наверное, слыхали, да? – терпеливо объяснял он мне.
– Слыхал, конечно.
– Так вот, сеньор, пока мы до Христа дойдем, будет четырнадцать площадок, где передохнуть можно, и на каждой крест установлен, и мы их ступенями называем.
Мы начали подъем. Пока мы продвигались от ступени к ступени чудесным этим утром и любовались уходящими вверх крестами, Панчо Гусман все мне рассказал про Урбичи Солера, который воздвиг эту статую, а до того поставил еще одного Христа в Андах, и про тореро Хосе Артруби – ему в ближайшее воскресенье драться на корриде, только быков выпускают малорослых и для серьезного дела не годных, и о том, как сделать, чтобы тебя не обжулили на рынке, и где мексиканцам лучше – на американском берегу Рио-Гранде или на другом, и про разные телепрограммы, особенно такие, где фильмов много. Еще он сказал, что надеется скопить сотню долларов, пока не начались занятия в школе; семь долларов он поставил на лучшего боевого петуха в Хуаресе, что надо мне на петушиные бои сходить, обязательно надо – он, вот, последний раз на корриде одиннадцать долларов выиграл, поспорив на победителя.
Мы лезли вверх среди голых скал, кое-где облепленных колючками, и ни души нам не встретилось за все те два часа, что понадобились, чтобы добраться до продуваемой ветром верхней площадки, где высилось изваянное в камне изображение Христа Благодетеля, которому скульптор придал типично мексиканское выражение печали и терпения. Отсюда как на ладони были видны весь Эль-Пасо и Хуарес, и Форт-Блисс с близлежащим аэропортом, мимо которого коричневой лентой струилась Рио Гранде, а по берегам зеленые пятна хлопковых плантаций, и горы – то бурые, то ослепительно белые блестят в лучах солнца. Когда летишь самолетом, ты отделяешься от земли, и она становится тебе чужой, но здесь, на вершине, упираешься ногами в земную твердь, и сам ты часть земли, хотя и очутился высоко над нею, и тогда появляется чувство покоя, свершения – особенное чувство, которое не с чем сравнить. Этот покой входил в меня, и вся моя душа отзывалась ему, и я думал про то, как мудро древние поступили, сделав горы обиталищем своих богов и строя там алтари, у которых приносились жертвы.
Я плюхнулся на камень рядом с Панчо, который, с любопытством на меня поглядывая, расспрашивал, зачем это я проделал такой трудный путь наверх, если, конечно, это не тайна.
– А почему тебе кажется, что тайна?
– Техасцы народ скрытный.
– Но я-то не техасец, я из Лос-Анджелеса.
– Понятно. – Мне тоже было понятно: раз я из Калифорнии, со мной можно обходиться по-простому. Панчо все так же пристально меня разглядывал своими темными глазами. – У вас, может быть, неприятности какие-нибудь?
– Очень интересно, – заметил я. – Ты, стало быть, и душевной терапией занимаешься?
Он поинтересовался, что такое терапия, а когда я объяснил, Панчо сказал:
– Хорошее слово, надо обязательно запомнить. Все новые английские слова стараюсь запоминать. А вам, сеньор, я вот что хочу сказать. Я в Эль-Пасо и в Хуаресе всех знаю, так что мог бы вам чем-нибудь помочь, если нужно.
– Да, наверное, можешь. А если мне понадобится кого-нибудь в Эль-Пасо разыскать, можно к тебе обратиться?
Он оглядывал открывающуюся панораму, и я вдруг почувствовал зависть к этому подростку-мексиканцу, ведь, вспоминая детство, он всегда будет видеть перед собой эти горы, эти изумительные пейзажи. Тут он, глядя мне прямо в глаза, спросил:
– А кого вам нужно разыскать, сеньор?
– Одну женщину.
– Ага. Вы влюблены, сеньор?
– Знаешь, – сказал я, – когда-нибудь тебе зададут хорошую порку за такие расспросы.
– Ха! Пусть попробуют, сеньор. У меня тут в горах друзей много найдется. Как это вы сказали – зададут порку? Ну, мои друзья тоже порку задать сумеют, вы не сомневайтесь, сеньор. Скажите, пожалуйста, а вы в полицию обращались?
Я кивнул.
– И по телефонной книге искали?
Я улыбнулся.
– Зря вы смеетесь, сеньор, люди тут вовсе не такие хитрые, как им самим кажется. Полиция, коты и попы – вот они все, что надо, знают. Коты вечно врут, это точно, а в полиции вы уже были, остаются попы, только они помалкивают, как в рот воды набрали. Понимаете, когда кого-то разыскивают, дело почти всегда драками кончается. В Хуаресе все время техасцы разные рыскают, ищут кого-то. Наверное, у американцев привычка такая – счеты сводить.
– А что, много попов в Эль-Пасо, ну и в Хуаресе тоже?
– Да уж не сомневайтесь, сеньор.
– А ты с ними знаком?
Мальчишка задумался.
– Ну как вам сказать, какие они? Вы же не католик, вам попов этих не понять. В общем, разные они бывают, как и все люди.
И добавил:
– Только слова из них не выколотишь, это уж все они такие.
– Послушай, Панчо, – теперь я говорил с ним вполне серьезно, – ты мне вот что скажи. Допустим, католик перед смертью хочет исповедаться, чтобы ему отпустили грехи. Ну, он много грешил в жизни, жулик был или еще что, какой-нибудь хулиган, не знаю, даже хуже. Так вот, большой это грех, если кто-нибудь из таких же жуликов будет говорить, что он, мол, сам поп, пусть к нему приходят исповедоваться?
– Очень большой, – сказал мальчишка, и я заметил, что глаза у него загорелись.
– Так вот, представь себе, что такой человек лежит при смерти. Кто ему эти грехи отпустит?
Кажется, никогда еще я не заходил так издалека, и на губах мальчишки появилась насмешливая улыбка, ему, видимо, забавно было удостовериться в моем полном невежестве, а может, показались смешными мои маневры. Но я знал, что в душе он надо мной смеется, хотя и стараясь этого не показывать. Я вытащил из бумажника еще доллар, положил ему в руку. Он разгладил бумажку, перевернул ее, затем, тщательно сложив, спрятал в карман.
– А где этот ваш человек умирает, в Эль-Пасо или в Хуаресе?
– И там, и там – не знаю.
– Ну, не может же он сразу в двух местах умирать, правда, сеньор? Я серьезно вас спрашиваю. Потому что, если в Эль-Пасо, тогда позовут капеллана из полиции или в ближайшую церковь сбегают, если, конечно, не решат: пусть себе подыхает как собака. А вот в Хуаресе на такой случай есть отец Гонсалес.
– Почему именно он?
– Ха! Ну как вам объяснить? Отец Гонсалес – совсем бедный, и прихожане у него совсем бедные, и он такой добрый, не поверите. Говорят, смолоду сам сильно грешил. Разное говорят. Но в таких делах больше обращаться не к кому, он, как это по-вашему говорится? – с сочувствием подходит. Приход у него старый, очень старый, это на Чихуахуа, улица такая есть в Хуаресе. Бедный приход. Туда даже туристы никогда не заглядывают. А вот вам с отцом Гонсалесом непременно надо поговорить по этому вашему делу.
– Непременно, – согласился я.








