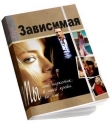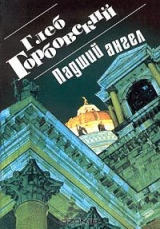
Текст книги "Падший ангел "
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
других Комарово – прежде всего могила Анны Ах-
матовой. А для нас, писателей «северо-западного ре-
гиона», Комарово – еще и тихое пристанище, где,
затворившись в девятиметровой келье Дома творче-
ства, можно месяц-другой поработать за казенным
письменным (а также обеденным) столом.
Без малого тридцать лет прошло с тех пор, как
впервые по льготной путевке (молодежной) проник
я в это маняще-таинственное, а как выяснилось чуть
позже, весьма прозаическое и в чем-то даже убогое
заведение. Вот и сегодня, выстукивая на машинке
комаровскую главу «Записок», нахожусь я в одной
из «камер» писательского Дома творчества, именно
в той из них, 39-й, угловой на третьем этаже, кото-
рую до недавнего времени так любил занимать писа-
тель Федор Абрамов.
В трехэтажном послевоенной застройки жилом
корпусе – сорок номеров. За тридцать лет перено-
чевал я почти в каждом из них. А последние десять
лет в Комарове я зимую регулярно – с октября по
май, и порою мне начинает казаться, что и на свет-то
я появился здесь, в этом писательском убежище, на-
поминающем старинную богадельню, и мужал, и
старел тут же – безвылазно. С чего бы такие фанта-
зии? Просто существо мое, затворяясь в стенах «ин-
теллигентного» общежития, наверняка испытывало
и по сию пору претерпевает на себе колоссальной
концентрации энергию, оставленную за десятилетия
в каждой из комнат-гнезд многочисленными мечта-
телями и честолюбцами, чудаками и завистниками,
стяжателями и бессребрениками духа, и, погружа-
ясь в слои, в тяжкие пласты и глубины этой энергии,
добавляя в нее свои собственные эго (от «мега»)-
ватты, ты как бы начинаешь помаленьку забывать
«внешний мир» со всеми его красотами и соблазна-
ми, бедами и победами, погружаясь в свободу оди-
ночества, приобретая задумчивый вид добровольно-
го отшельника, ушедшего не столько в себя, сколько
в ложное ощущение, что ты-де не совсем такой, как
все, а как бы еще и писатель, фантазер, иными сло-
вами – человек если и не сошедший с ума, то сдви-
нутый с круга нормальной жизнедеятельности.
Большинство из моих соседей по «нумерам», с
которыми я начинал комаровские сидения, посте-
пенно перебрались на ту сторону железнодорожного
полотна, по которому бегают электрички из Ленин-
града в Выборг и обратно, перебрались, так как
именно на той, удаленной от моря, «сухопутной»
стороне расположено поселковое кладбище. Боль-
шинство, но пока что еще не все. Часть из них пере-
бралась как бы еще дальше, нежели за полотно до-
роги, – за пределы государственные, и живут сей-
час в Париже, Риме, Нью-Йорке, в Австралии, где,
в свою очередь, перебираются куда-то еще дальше,
принимая иллюзию передвижения по земле за
жизнь вечную, покуда все, как один, не сойдутся,
каждый в своей точке окончательного пересечения с
матерью-планетой.
Еще одна толика комаровских завсегдатаев про-
должает обитать бок о бок со мной, совершая по дач-
ным дорожкам предсмертные «оздоровительные»
прогулки, потребляя супы, каши и винегреты в дом-
творческой столовой конструктивистского образ-
ца – плоской и серой, возведенной не так давно по
мифическому «итальянскому» проекту, не чета преж-
ней, барачного типа замухрышной едальне, в кото-
рой принимала казенную пищу Анна Андреевна Ах-
матова.
...В семейной библиотеке, которую, как храм в
«безбожные» годы, довелось мне разрушить собст-
венными руками, имелись две книжечки стихов Ан-
ны Ахматовой – «Четки» и «Белая стая». В кни-
жечки эти заглядывал я потому, что мне нравилась
их книжная досоветская фактура: бумага, шрифты,
графика – взращенные другой, а для моего тогдаш-
него сознания – почти доисторической эпохой.
Особенно прельщала толстая, основательная, с «во-
дяными» размывами на просвет бумага «Белой
стаи». При взгляде на эту книжку испытывал я бо-
сяцкое почтение, как перед чем-то уже недоступ-
ным, дворянским, пусть отвергнутым, отмененным
внешне, однако оставшимся в атмосфере бытия,
будто невидимый, сшибленный активистами крест
над куполом собора – как если у человека (госу-
дарства) оторвать нечто, составляющее контур его
облика, – руку, ногу, ухо... – то, глядя на него, мы
всё равно домысливаем в нем эту потерю. Наверняка
пленяли меня в этой книжке и отдельные словосоче-
тания, подсознательно я как бы даже улавливал тон
ахматовской поэтики, и все же, говоря откровенно,
прелесть этой поэтики в те годы волновала меня
эфемерно. «Кабацкий» Есенин, ранний, безогляд-
ный Маяковский, отважно-манерный Северянин, не
весь, а только «выпуклый», экспрессивный Блок
(«За городом вырос пустынный квартал...», «Под
насыпью, во рву некошеном...», «Скифы», «Две-
надцать»...), «Ворон» Эдгара По в переводах Брю-
сова, да и брюсовское «Юноша бледный со взором
горящим...» – вот чем питалось сердце в те годы.
Сдержанная, напряженно-утонченная, воспитан-
ная в духе благородного девичества, благопристой-
ная, тактичная поэзия Ахматовой казалась мне чем-
то хрустально-заиндевевшим, не чужеродным вовсе,
но как бы отстраненно высокомерным. Мне, после-
военному подростку-скитальцу, хотелось чего-ни-
будь попроще, позапашистей и, что скрывать, пора-
зухабистей.
И когда в начале шестидесятых ленинградские,
официально не признанные поэты-протестанты, жив-
шие до этого как бы вразрез всеобщему течению —
Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Анатолии Найман,
Дмитрий Бобышев, – решили почему-то предста-
вить меня Ахматовой (как затем и Соснору, и Куш-
нера, Бптова), меня, только что издавшего офици-
альным способом свои экспедиционные, сахалин-
ско-якутские стихи, и кому представить – всемирно
известному («благодаря» ждановскому постановле-
нию) поэту, обладавшему еще дооктябрьской сла-
вой, самой Анне Ахматовой, – я почему-то не расте-
рялся, даже не насторожился (вот что значит моло-
дость, со всеми ее восторгами и безоглядностью!).
Спустя энное число мгновений я все же изрядно
смутился и, чтобы не вибрировать во время визита к
«старушке», для храбрости хватанул стаканчик «та-
буретовки». В озорном сознании, помнится, даже
возникла еретическая мысль – испросить у Анны
Андреевны тайну «трех карт», естественно – поэти-
ческую тайну.
А то, что не растерялся я, получив королевское
приглашение, и вообще расхрабрился, объяснить
можно чисто психологически: до этого, чуть раньше,
во мне как бы произошло заземление возвышенного
образа Поэта, ставшего классиком пока лишь в не-
которых, наиболее объективных умах, а в других
умах являвшегося как бы заживо похороненным
пережитком, анахронизмом, а то и «врагом народа».
И еще: заземление во мне образа Ахматовой случи-
лось по причине общежитейской: много дней наблю-
дал я Анну Андреевну сидящей в писательской сто-
ловке, правда, сидящей гордо, спиной к «братии», и
все ж таки заурядно жующей казенную пищу вместе
со всеми. («Не наважденье, не символика: на склоне
века, в сентябре сестра Цветаевой за столиком
клюет казенное пюре», – напишу я через пятнад-
цать лет в Коктебеле, познакомившись в крымском
Доме творчества с Анастасией Ивановной Цветаевой,
как бы продолжая изумляться невероятному сочета-
нию обстоятельств, когда человек с фамилией небо-
жителя (Ахматова, Цветаева), более того – родная
сестра самой Марины! – прозаически питается за
одним с тобой «столовским» столом, с тобой, про-
стым смертным, который, изловчившись, вместо ки-
селя на десерт норовит всучить Цветаевой № 2 сти-
шок собственного изготовления, бессознательно
(подсознательно) надеясь, что она «где-то там» на
небесах поделится вашим стишком со своей старшей
сестрицей – Цветаевой № 1.)
Вот такая наивная «реакция неприятия», реак-
ция на совмещение «казенного пюре» и свободного
поэтического Слова. «Как же так?! – клубился тог-
да в моем возлеахматовском сознании дымок разоча-
рования. – Поэт из невозвратной, легендарной эпо-
хи Поэтов, современница, а главное, совладычица
поэтических дум и жестов Александра Блока, Нико-
лая Гумилева, Сергея Есенина, Игоря Северянина,
Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, вооб-
ще – подлинная, из серебряного века, поэтичес-
кая декадентка, акмеистка, ходячий миф, и вдруг...
хлебает расхожий союзписательский супец!» Сие-то
и расхолодило, расслабило на какое-то время, а
именно – до той поры, пока не позвали меня в угло-
вую двенадцатую, ахматовскую комнату, что на пер-
вом этаже Дома творчества.
По причине рассеянного внимания («табуретов-
ка», «пюре» плюс «сами с усами!») не могу теперь
безошибочно перечислить всех, кто, помимо велича-
вой хозяйки, находился тогда в «нумере». Из про-
изнесенных Ахматовой слов запомнились отдельные
восклицания. Из слов «окружения», свиты, а также
из своих собственных – ничего не запомнилось.
Смутно воскрешаю в себе давнее видение: Анна
Андреевна в кресле, кутается во что-то белое, теп-
лое, скорей всего – в пуховый, ручной вязки пла-
ток или шаль. Нет, я не ел ее глазами, как ненор-
мальный. Природного, подсознательного такта хва-
тило на то, чтобы не мельтешить. Ахматова сама
попросила читать громче, да и «сваты» предупреди-
ли, что мэтресса глуховата. Во время чтения Анна
Андреевна едва заметно, не слишком выпячиваясь,
вежливо подставляла ухо, не разворачиваясь в кресле,
а всего лишь как бы поводя головой вслед за усколь-
зающим голосом чтеца. И все-таки время от времени
просила читать громче, отчетливей. Помнится, об-
стоятельство сие немало меня раздражало. Приходи-
лось напрягаться, словно бы навязывая себя, а не...
даря. Что ж, самолюбие, как и здравый смысл, всег-
да при нас. Тем паче в годы молодые.
Читал я тогда стихи из своих комаровских, наи-
более строгих, собранных циклов «Косые сучья» и
«Сны», стихи, тяготевшие, как мне казалось, к не-
коей музыкальной классичности словесного строя и
даже – к инструментовке. Свои же лохматые, «от-
чаянные» стихи из разряда «проклятых», как губка
напитанных винными парами и невинными семанти-
ческими шалостями, читать я не осмелился, и пра-
вильно сделал, потому что в «проклятых» (по выра-
жению профессора Наума Берковского, польстив-
шего мне примерно в те же дни, шутливо или нет
сравнив мою непечатную, взвинченную «продук-
цию» с творениями именитых французов) имели
место вкрапления слов, мягко выражаясь, нецензур-
ных, режущих «серебряный» слух.
Поэты, окружавшие тогда Анну Андреевну и по-
желавшие представить ей меня, едва я открыл рот,
мгновенно превратились в молчаливый синклит и с
непроницаемыми лицами наблюдали за реакцией
«самой». Не знаю, кто именно – Евгений Рейн или
Дима Бобышев, Толя Найман или Иосиф Бродский
– проявил инициативу, предложив Ахматовой «от-
слушать» Горбовского? Может – все разом? Мы
ведь тогда дружили, еще лишенные некоторых из
предрассудков, что нагрянут к нам чуть позже, дабы
испытать на прочность все то человеческое и божес-
кое, коим обладали мы от природы. Правда, обитал
я от упомянутых поэтов несколько в стороне, был
менее образован да и внешне проигрывал им бес-
спорно; порой досаждал ребятам в «поисках тепла»,
раздобывая денежку на очередную «порцию», при-
чем, комплексуя, не забывал упомянуть, что, дес-
кать, Порция – это именитая некогда «древняя»
римлянка, жена М. Брута, выступавшая против са-
мого Цезаря, а не «сто пятьдесят с прицепом», то
бишь с килечкой, – одним словом, не забывал при-
хвастнуть справочно-познавательской эрудицией
(знай наших!).
Читал я в тот вечер «с листа», и не просто по за-
писной книжке, а считывал рифмованную продук-
цию со страниц культурненько сброшюрованных сам-
издатовских сборничков, за несколько часов до на-
чала «аудиенции» отпечатанных мной на первой
собственной пишмашинке марки «Москва», кото-
рую приобрел на деньги от жиденького гонорара за
свою первую книжку стихов «Поиски тепла» (70 КОП.
за стихотворную строку, тираж – 2500 экземпля-
ров, объем – полтора авторских листа).
Анна Андреевна изъявила желание взглянуть на
брошюрки. Она подержала «продукцию» в царст-
венных руках, улыбнулась самодельным «титуль-
ным листам» сборничков, на которых значилось:
«Сны» и «Косые сучья», – полистала. И я осмелил-
ся предложить их ей «на добрую память». Не отка-
залась, даже попросила надписать «дарственную»,
что я и проделал с превеликой энергией. Приняла.
А что ей оставалось делать, ей, человеку, воспитан-
ному несколько иначе, чем я?
Не из ложной скромности решил я не приводить
тут похвальных ахматовских слов в адрес моего чте-
ния. Не запомнились таковые. А может – и не было
вовсе. Было – внимание. Отчетливое. Со стороны по-
жилой женщины. Не прервавшей юного декламатора
ни словом, ни вздохом. А следил я за ее лицом вни-
мательно. И прервал бы себя незамедлительно при
малейшем сигнале рук, глаз, губ, дыхания Ахмато-
вой, возвещавших об утомлении, вообще – о скуке.
Похвальных слов не запомнил. Если они и были,
принял их как должное. Зато уж «критическое заме-
чание», переросшее затем в маленькую дискуссию с
поэтессой, врезалось в память стальным осколком!
Причиной дискуссии послужило одно из моих тог-
дашних стихотворений, озаглавленное прозаичес-
ким словом «Ботинки». В нем – двенадцать строк.
Приведу их полностью. Как вещественное доказа-
тельство. Как свидетельское показание. По просьбе
обвиняемого.
Ботинки
Как машины грузовые, на резине
мы ходили, мы закаты коротали...
А вчера в универсальном магазине
мы купили греко-римские сандалии.
Оплатили цвета пыли макинтоши,
в цвета стали мы представились беретах.
Мы пошили сногшибательные клеши,
надышались из нерусской сигареты.
И мелькали греко-римские сандалии,
и ходили мы – плакаты и картинки.
...Но всегда нас под кроватью ожидали
грузовые эпохальные ботинки.
Стихотвореньице сие было написано в конце пя-
тидесятых годов, однако уцелело в моем сознании и
к середине шестидесятых, когда в числе других про-
читал его Анне Андреевне. На этом стихотворении
Ахматова как бы очнулась и высоким (по смыслу) и
одновременно низким (по тембру) своим голосом
произнесла в мою сторону:
– Ботинки – нерусское слово... У нас – башмаки
или сапоги. А ботинки – не наше. – Замечательно,
что слово «нерусское» произнесла она слитно, как
эпитет, а не как отрицание.
Теперь-то я понимаю, что нужно было согласить-
ся со «старшим по званию», по крайней мере – не
перечить Анне Андреевне. Тем более что, как выяс-
нится в дальнейшем, Ахматова была ближе к истине,
нежели я. А тогда на положении случайного гостя
(гостя не только знаменитой поэтессы, но как бы и
самой госпожи Поэзии) я попытался не совсем веж-
ливо противоречить, отстаивая, как мне думалось,
свою точку зрения. Мне тогда показалось, что Ахма-
това, мягко говоря, отстала от жизни, ну, не отста-
ла – отклонилась в свою интеллектуально-затвор-
ническую, башенно-отсутствующую сферу, точ-
нее – атмосферу, где люди ее круга, изъясняясь,
все еще по инерции употребляли слова своего време-
ни: «салон», «кафтан», «баретки», «штиблеты»,
«калоши», «гамаши», игнорируя укоренившиеся, в
том числе и «ботинки» (от старинного, хотя и нерус-
ского, «ботфорты» и далее – «боты»); в дальней-
шем я, памятуя об ахматовском упреке, подумывал
о замене «ботинок» вульгарными лагерно-солдат-
скими «бахилами», но слово это резало даже мой не
столь изысканно-утонченный слух своей не то чтобы
непоэтичностью, но как бы – чужеродностью в кон-
тексте лирического жанра. И, отвечая на реплику
Ахматовой, съязвил:
– Может, «лапти» вместо «ботинок» употребить?
Или какие-нибудь «чуни», «опорки»?
Ахматова ничуть не смутилась. Она лишь пояс-
нила:
– «Опорки» – это производное от «сапог». Когда
отрезают, отпарывают сносившиеся голенища и хо-
дят в одних... опорках.
В общем-то, я и сам к тому времени знал, что
такое «опорки», но дух противоречия возобладал, и
я попытался взбрыкнуть еще разок:
– А я-то считал, что опорки потому так зовутся,
что на них... ноги опираются! «Опора в превратной
судьбе!» – процитировал я Лермонтова, чисто ма-
шинально, даже как бы из озорства, ожидая, что вот
сейчас Ахматова взорвется, скажет: «Не кощунст-
вуйте!» – или что-нибудь в том же духе, но Анна
Андреевна стоически промолчала. Лишь посмотрела
в мою сторону этак... сочувственно.
Теперь-то я понимаю, что Ахматова была права,
протестуя против смысловой неорганичности «про-
западных» ботинок, вставленных в стихотворение,
обладающее патриотическим задором. И что с того,
что я никогда – ни во время написания, ни поз-
же – не считал сей опус русофильским. Написа-
лось-то непреднамеренно, импровизационно, почти
бездумно. Думалось: обойдется. Не обошлось. Слово
хоть и не воробей, однако летает. Даже такое зазем-
ленное, как «ботинки». Особенно – в «воздушном
пространстве» ахматовского утонченного надсоци-
ального слуха. Небось, антизападный «еврофоб-
ский» душок стишка так и шибанул, будто квасная
отрыжка... Вот Анна Андреевна и не смолчала. Не
из протеста к моей «направленности» – от нетерпи-
мости к элементарной поэтической неряшливости,
несоответствию, стилевому диссонансу.
Но возвратимся к нашему визиту в угловую две-
надцатую, где я отважился вручить Ахматовой до-
морощенную поэтическую продукцию. Последствия
«дарения» оказались весьма неожиданными: наза-
втра Анна Андреевна прислала ко мне порученца за
пишущей машинкой и копировальной бумагой. Ах-
матовой понадобилось что-то срочно перепечатать.
А так как я прихвастнул своей домашней типогра-
фией, то есть – был легок на помине, то и решили
просить машинку не у кого-то из «мэтров», обитав-
ших тогда в Комарове, а прямиком у самодеятельно-
го автора «Снов» и прочих косых сучьев. До сего
дня я так и не выяснил: имелась тогда у Ахматовой
своя пишмашинка, или отсутствовала, или – слома-
лась? (Теперь, после недавнего опубликования в
«Новом мире» заметок об Ахматовой Анатолия Най-
мана, вывод таков: А.А. вообще не любила «маши-
нок», предпочитая им классическое Перо.)
«Технику» возвратили мне через день-другой
вместе с копировальной бумагой, той, что была ис-
пользована, однако использована удивительно акку-
ратно, во всяком случае, с копирки, повернутой
«лицом» к свету, запросто считывался текст, отби-
тый кем-то из ахматовского окружения на весьма
шумной, нещадно тарахтевшей «Москве». Листы
копирки использовались почему-то единожды, под
каждую последующую страницу текста подклады-
вался новый лист «переводки». Тогда же подума-
лось: ничего себе живут! Непонятную мне расточи-
тельность приходилось толковать, опираясь на свои
плебейские запросы и возможности: дескать, вот
она, голубая кровь, с ее замашками, госпожа, поэти-
ческая дама – вот и чудит, вот и размахнулась.
Даже когда вчитывался в повествовательные
строчки, предварявшие «Реквием», в которых гово-
рилось о стоянии в очередях возле тюремного подъ-
езда, в голову почему-то не пришла «крамольная»
догадка: а ведь тебя, дурака, похоже, приглашают к
прочтению опальной поэмы, потаенного слова...
Пусть – к прочтению «наоборот», навыворот, в зер-
кальном, так сказать, варианте, к прочтению сквозь
черную, ночную бумагу, наложенную на дневной
животворящий свет, что вызревал помаленьку за
окном, в пространствах и помыслах Отчизны. Но
вот же, занятый собой, не сообразил, не догадался,
что пожилая, грузная, величественно-глуховатая
женщина способна на какой-то экстравагантный,
протестующий, «молодежный» жест. Разве не могла
она таким образом взять и поделиться сокровенным,
почти запретным? Могла, конечно, и делилась... Но
вряд ли – с первым встречным. И «трюк» с копир-
кой наверняка принадлежал (по замыслу) не ей, а
тому, кто перепечатывал тогда поэму. Кто знал меня
основательнее, нежели хозяйка поэмы. Этим своим
соображением я ни в коей мере не хотел бы умолять
бесстрашие ахматовского мужества, отвагу ее сердца,
которое к тому времени наверняка еще не оттаяло от
стояния в ежовских очередях, замученное, однако
не сломленное, ибо чем для него, да и не только для
него, был в те годы «Реквием»? Ведь и впрямь – не
столько «литературным произведением», сколько
заупокойным плачем по убиенным, по растоптанной
свободе, но еще и – обвинительной речью Поэта на
процессе возрождения справедливости (не призы-
вом к Возмездию, однако, ибо раба божья Анна к
тому времени уже целиком и полностью исповедова-
ла милость наджизненного Добра).
И тут через какое-то время меня вновь приглаша-
ют в «нумер» к Ахматовой и вручают сроком на
одну ночь экземпляр «Поэмы без героя», отпечатан-
ный также на моей машинке. И ставят, причем впол-
не серьезно, непременное условие: изложить о поэме
«собственное мнение», предъявить его от лица ново-
го поколения поэтов – автору. Вот так, и ничуть не
меньше.
Меня подвело мое трудноотмываемое поэтичес-
кое невежество. Помогла – интуиция, врожденный
нюх на прекрасное. Излишней самонадеянностью хоть
и не страдал, однако оценить предложение «долж-
ным образом» все ж таки не сумел. Почему? А пото-
му, что поэзия Ахматовой не была для меня в те
годы откровением, я не проник в нее, не упивался
ею взахлеб, не обмирал над нею от счастья и востор-
га, как, скажем, над волшебной лирикой Александра
Блока, обнаженно-беспощадными поэмами («Поэма
конца», «Поэма горы») Марины Цветаевой, над ее,
Марины Ивановны, проникающей прямиком в груд-
ную к лутку, надполой, не женской и не мужской
(сверхлюдской!), «политикой» стиха, над есенин-
ским «несказанным светом», северянинским необъ-
яснимо прелестным, неповторимым псевдоизыском.
Ахматову я лишь трепетно уважал к тому времени,
как иногда уважают коллекционеры редчайшую ре-
ликвию, способную к тому же не просто ютиться под
охранным музейным стеклом, но и подавать вам при
случае руку, дарить улыбку-мысль, облеченную в
классической пробы стихи. Ахматову, живой, теп-
лый мрамор ее лирики полюбил, освоил сердцем -
гораздо позже. Для меня она долго оставалась «за-
крытым» поэтом, закрытым не искусственно, не
чьей-то злой волей – моим добровольным воспри-
ятием мира, слова, любви.
Отчетливо помню, что поэма Ахматовой не толь-
ко не потрясла меня, но и не взволновала, не зацепи-
ла, оставила равнодушным. Доказательство тому —
недавние мои сомнения, развеянные на днях Андре-
ем Битовым: что именно читал я тогда – «Поэму
без героя» или «Реквием»? Битов без колебаний на-
звал «Поэму без героя». И добавил, что Ахматова
просила высказаться о поэме и его, Битова. И что
якобы именно он относил хозяйке список поэмы, так
как я будто бы в тот вечер «перебрал» или просто
струсил. Таким образом, получается два варианта:
либо Ахматова вручила поэму тому и другому, либо
одному вручила «Поэму без героя», а другому —
«Реквием»...
Нет, я не проклинаю скудные возможности своей
памяти, а лишь благодарю Всевышнего за то, что па-
мять сия не сохранила во мне того лепета, которым
объяснялся я с Ахматовой, делясь впечатлениями о
ее легендарном творении. Значит, так нужно было,
чтобы Ахматова, приглашая меня к Поэме, все-таки
не пустила меня в нее, морально не собранного, рас-
христанного, неуравновешенного. Пройдут годы, и
сам я постучусь в ее Книгу и долго буду стоять под
ее сводами, озираясь, словно в гулком храме.
Что ж, я действительно не помню своих, наверня-
ка жалких, слов о Поэме, но впечатление беспомощ-
ности от неумения высказаться ясно, предельно ис-
кренне сидит во мне по сию пору. Недаром Поэму
хотелось сравнить с зашифрованным письмом, от-
правленным автором кому-то из своих близких по
духу, посвященных, владевших ключами разгадки.
А тут подвернулся я, и Поэму на какое-то время вру-
чили мне, постороннему как бы человеку.
Беспомощность порождала досаду. Я стал горячо
лепетать вовсе не о Поэме, а про... самое Ахматову,
уверяя присутствующих, что Ахматова для меня как
бы человек-экспонат из другой эпохи, классик, за-
вершивший восхождение на Олимп где-то с начала
Февральской революции, что она для меня как бы и
не человек вовсе, не живое существо, а всего лишь
символ, метафора, воплощенный образ Барда, и что
«Белую стаю», а также «Четки» я недавно отнес к
букинисту, а денежки пропил, и что дали за них го-
раздо меньше, чем за Блока издательства «Алко-
ност», отнес, потому что книжки сии – все равно
что пушкинские или тютчевские, что человека, на-
писавшего их, невозможно встретить на планете
живым, тем более в Комарове, как нельзя встретить
где-нибудь в Вырице Ал. Блока (в Вырице можно
встретить Ал. Кушнера), а на Васильевском остро-
ве – Баратынского (на Васильевском острове мож-
но встретить Виктора Соснору). И тогда Ахматова
закричала, не в ужасе и даже не возмущенно, а вот
именно – убежденно, со знанием дела и одновре-
менно как бы заклиная:
– Гомер-р! Гом-мер-р! Бесплотный, легендар-
ный! Вот кто Поэт! Гом-мер-р! – чуть в нос, попут-
но, всей грудью извергла она из себя начало мысли
и, сделав глубокий вздох, продлила ее на выдо-
хе: – Гомер-р... Вот! А мы все – люди. Привычные
человеки. Живые или проживающие. Поэт – звук,
бестелесная музыка, звучащая легенда! Свобода...
А мы... – и, подумав: – А мы – это мы.
АННА
Был какой-то период – не в жизни,
а над нею – в мерцании звезд,
в доцветании ангельских истин,
в Комарове – в Рождественский пост.
Восседала в убогой столовой,
как царица владений своих,
где наперсники – Образ и Слово,
а корона – сиятельный стих!
В раздевалке с усмешливой болью,
уходя от людей – от греха,
надевала побитые молью,
гумилевского кроя меха.
Там, в предбаннике злачного клуба,
что пропах ароматами щей,
подавал я Ахматовой шубу,
цепенея от дерзости сей.
И вздымался, по-прежнему четкий,
гордый профиль, таящий укор...
Как ступала она обреченно
за порог, на заснеженный двор.
Уходила тяжелой походкой
не из жизни – из стаи людей,
от поэтов, пропахших селедкой,
от терзающих душу идей.
Провожали не плача – судача.
Шла туда, где под снегом ждала,
как могила, казенная дача —
все, что Анна в миру нажила.
НАРОД
С похмелья очи грустные,
в речах – то брань, то блажь.
Плохой народ, разнузданный,
растяпа! Но ведь – наш!
В душе – тайга дремучая,
в крови – звериный вой.
Больной народ, измученный,
небритый... Но ведь – свой!
Европа или Азия? —
Сам по себе народ!
Ничей – до безобразия!
А за сердце берет...
* * *
Не спеши уходить
от меня – от былого.
Не оборвана нить,
не досказано слово.
Слышишь: благовест вновь
над страной, а не клекот.
Сядь и душу готовь,
словно пташку, к отлету.
Не спеши и не трусь.
...Дай, судьбу до листаю —
и тихонько вольюсь
в журавлиную стаю.
УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ
Из глубины расейской,
из отдаленных сфер
возник тот, с виду сельский —
три «Славы»! – кавалер.
Он призван шаг печатать
и спинку разогнуть!
Кремлевская брусчатка
дает отдачу в грудь...
Есть, есть еще сноровка
и ножки – обе-две!
И кепочка-«лужковка»
торчит на голове.
Не Теркин и не Чонкин,
не «подвиг всех времен»,
а Митрич, заключенный
в колонну стариков.
Равнение направо:
туда, где быть звезде!
А там – орел двуглавый
на «должной высоте».
Нога с натуги млеет,
и взгляд косит едва.
Опять на Мавзолее —
мордастая братва...
Все как бы шито-крыто,
и вроде нет дождя.
И лапником прикрыта
фамилия вождя.
Вот только – боль в колене
и чтой-то с головой...
И в Мавзолее Ленин —
ни мертвый, ни живой.
ЛЕСТНИЦА
По каменной лестнице – к Богу,
по стертым ступеням ее.
По каменной, тяжкой – к истоку...
И нету перил у нее.
Свистит оглушительный ветер,
сомненья объемлют, как дрожь.
И, словно к далекой планете,
по стертым ступеням идешь...
А силы нажитые тают,
и нету ни ночи, ни дня...
Но медленно Воля святая
вздымает к вершине меня...
ПЕРЕКРЕСТОК
Земля, куда нас всех уложат, —
не символ смерти, не финал,
а перекрестье двух дорожек,
которых ты не распознал.
Чем ближе мы к концу-итогу,
тем суть ясней тебе и мне:
одна из них – дорога к Богу,
другая – в лапы к сатане.
Земля – чистилище. Все просто.
Смотри и – видь, смотри и – бди
Не промахнись на перекрестке
и в царство тьмы – не угоди.
СТАРЫЕ СЛОВА
Эти кроткие – без крику —
синеглазые слова:
брашн о, су мно, поелику,
греховодник, однова...
Эти грады, эти веси -
дивных слов косматый ряд,
словно буки в темном лесе,
напугают – не съедят.
Ведь за ними, как за синим
о к е я н о м, словно луч,
брезжит юная Россия
из-под злых и черных туч.
СЛОВА
Слова как дождь, слова как сверла.
Слова – невнятная труха.
Твои слова – берут за горло,
мои – берут за потроха!
Слова с подвохом, с подковыркой...
Слова – как бы напрасный труд.
Одни слова – берут за шкирку,
другие – за душу берут.
Слова любви, сердечной муки.
Слова – зеленая трава...
Но те и эти – только звуки,
то бишь – слова, слова, слова...
«СВОБОДА ЛИЧНОСТИ»
За что любил тебя, «свобода»?
За пыл разнузданный внутри?
За строчки, дьяволу в угоду?
За пьяных улиц фонари?
Да и была ли ты, химера?!
Свобода – в горней высоте.
Не там, где сердце жаждет веры,
а чуть повыше – на кресте!
Прощай, обман. Изыди в люди.
А от меня – сокройся с глаз.
Во мне – тюрьма. Я сам, по сути,
себя – не спас.
СЕРЫЙ АВТОБУС
Этот маленький серый автобус,
где сидят невеселые люди, —
в нем отвозят холодные гробы:
это – вроде посуда в посуде
или тара, застрявшая в таре,
черный тартар – в наземном кошмаре.
В тех гробах – невеселые трупы,
колыхаясь, стремятся к покою.
И стучат их ненужные зубы
друг о друга – с посмертной тоскою...
Ну, а маленький серый автобус
огибает вертящийся глобус.
И не все ли равно, как ты едешь:
в колымаге, в гробу, на земшаре,
и – что делаешь: думаешь, бредишь,
пребывая в кошмаре иль в таре...
Безразлично незнавшему Бога —
что несет ему тайна Итога.
ззз
ПОКАЯННАЯ ГОЛОВУШКА
За городом – лужи, месиво,
за воротом – сыро, весело!
На стеклышках – морось нудная,
а солнышко – где ты, чудное?
Все видится невозвратное:
кормилица – мать опрятная,
и девушка в лунном трепете,
и дедушка в смертном лепете,
военная ширь пожарища,
смятенная тень товарища...
Видения – неизгладимые...
Все – по сердцу, все – родимое!
Соловушка... Даль туманная...
Головушка покаянная!..
* * *
И слаще горьких мыслей – нет!
Уходит жизнь. Пришел рассвет,
как вызволенье из могилы!
О, Царь небесный, дай мне силы —
себя в блужданьях превозмочь,
себя как мрак, себя как ночь,
дабы в груди возжегся свет!
Но... слаще горьких мыслей – нет.
одиножды один
Профессор кислых щей, пижон или кретин,
Христос иль Магомет – ах, кто ни умножай,
одиножды один – получится один.
Но и о д н о зерно пророчит урожай!
Мы все по одному – и раб, и господин.
Всяк сущий – одинок, и гроб —всему итог.
Одиножды один – ив Греции о д и н.
Один – и Люцифер, и всемогущий Бог.
И ты, мой антипод, доживший до седин,
меня не обличай, учти: я – твой двойник.
Одиножды один останется один...
Но – от любви одной весь этот мир возник!
* * *
Свет идет от огня.
Вот средь белого дня —
холм, а на нем – обитель.
Не покидай меня,
не отвернись от меня,
ангел-хранитель.
Я войду во врата:
поклон вам земной, места —