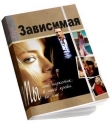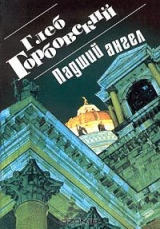
Текст книги "Падший ангел "
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
теста и самоутверждения. А первую книжечку своих
стихов назвал по-киплинговски решительно – «Ас-
фальтовые джунгли».
А в «бурной действительности» Борис Тайгин
продолжал водить по ночным улицам Ленинграда
грузовой трамвай, работая вагоновожатым.
Борис Тайгин издавал стихи своих сверстников,
и зачастую только его самиздатскими страницами
ограничивалась жизнь этих стихов. Почти все напи-
санное мной за годы, когда я не печатался совсем
или печатался не слишком часто, более тридцати ми-
ниатюрных сборничков – издания «Бе-Та». Но, по-
жалуй, самое замечательное произошло со сборни-
ком Николая Рубцова «Волны и скалы», тоже уви-
девшим свет в издательстве Тайгина и нигде более.
Рубцов представил книжку вместо рукописи, когда
поступал в Литературный институт, и многие, глядя
на обложку сборника, решили, что в руках абитури-
ента государственное издание – столь искусна была
имитация шрифтового набора на обложке. Об этом
тайгинском сборнике ранних стихов Н. Рубцова пи-
шут уже в официальных трудах, посвященных твор-
честву замечательного стихотворца, который не раз
бывал у меня на Пушкинской и даже посвятил та-
мошним дворам и квартирным трущобам одно из яр-
чайших своих (и редчайших) городских стихотворе-
ний, редчайших, потому что лирику Рубцова никак
нельзя назвать городской, хотя и сугубо деревен-
ской – тоже.
Трущобный двор, фигура на углу,
Мерещится, что это – Достоевский...
Нельзя сказать, чтобы Николай Рубцов в Ленин-
граде выглядел приезжим чужаком или душевным
сироткой. Внешне он держался независимо, чего не
скажешь о чувствах, скрывавшихся под вынужден-
ным умением постоять за себя на людях, умением,
приобретенным в детдомовских стенах послевоен-
ной вологодчины, в морских кубриках тралфлота и
военно-морской службы, а также в общаге у Киров-
ского завода, где он тогда работал шихтовщиком, то
есть имел дело с холодным, ржавым металлом, иду-
щим на переплавку. Коля Рубцов, внешне миниа-
тюрный, изящный, под грузчицкой робой имел уди-
вительно крепкое, мускулистое тело. Бывая навесе-
ле, то есть по пьяному делу, когда никого, кроме нас
двоих, в «дупле» не было, мы не раз схватывались с
ним бороться, и я, который был гораздо тяжелее
Николая, неоднократно летал в «партер». Рубцов не
любил заставать у меня кого-либо из ленинградских
поэтов, все они казались ему декадентами, модер-
нистами (из тех, кто ходил ко мне), пишущими от
ума кривляками. Все они – люди, как правило, с
высшим образованием, завзятые эрудиты – неволь-
но отпугивали выходца «из низов», и когда Нико-
лай вдруг узнал, что я – недоучка и в какой-то мере
скиталец, бродяга, то проникся ко мне искренним
уважением. Не из солидарности неуча к неучу (в
дальнейшем он закончил Литинститут), а из соли-
дарности неприкаянных, причем неприкаянных
сызмальства.
Зато, обнаружив кого-либо из «декадентов», си-
дел, внутренне сжавшись, с едва цветущей на губах
полуулыбкой, наблюдал, но не принимал участия и
как-то мучительно медленно, словно из липкого ме-
сива, выбирался из комнаты, виновато и одновре-
менно обиженно склоняя голову на ходу и пряча
глаза. А иной раз – шумел. Под настроение. И го-
лос его тогда неестественно звенел. Читал стихи, и
невольно интонация чтения принимала оборони-
тельно-обвинительный характер. Занимался Нико-
лай в литературном объединении «Нарвская заста-
ва», там же, где и Саша Морев, Толя Домашев,
Эдик Шнейдерман (о котором в стихотворении Руб-
цова «Эх, коня б да удаль Азамата...» в строчках
«...мимо окон Эдика и Глеба, мимо криков: «Это
же – Рубцов!»). И здесь необходимо сказать, что
тогдашний Рубцов – это совсем не тот, что Рубцов
нынешний, хрестоматийный, и даже не тот, явив-
шийся в Вологду прямиком из Москвы, по отбытии
лет в Литературном институте. Питерский Рубцов
как поэт еще только просматривался и присматри-
вался, прислушивался к хору собратьев, а глав-
ное – к себе, живя настороженно внутренне и сна-
ружи скованно, словно боялся пропустить и не рас-
слышать некий голос, который вскоре позовет его
служить словом, служить тем верховным смыслам и
значениям, что накапливались в душе поэта с дет-
ских (без нежности детства) лет и переполняли ему
сердце любовью к родимому краю, любовью к жиз-
ни, терзающую боль разлуки с которой он уже ощу-
тил на пороге духовной зрелости.
Помню, как приехал он из Москвы, уже обучаясь
в Литинституте, и, казалось, ни с того ни с сего
завел разговор о тщете нашего литературного труда,
наших эстетических потуг, о невозможности что-
либо найти, или осветить, или доказать поэтическим
словом в наши столь равнодушные ко всему трепет-
ному, иррациональному времена, времена выжива-
ния, а не созерцания и восторга. «Ну зачем, кому те-
перь нужна вся эта наша несчастная писанина?» —
спрашивал Коля, одновременно с чрезвычайной на-
стороженностью всматриваясь в меня, в мои глаза,
движение губ, жесты рук: не совру ли, не отмахнусь
ли от поставленного вопроса, не слукавлю и тем
самым не обману ли его ожидания, нуждающиеся в
каких-то подтверждениях? А я, помнится, и сам
тогда был не в духе, болел от вчерашнего переутом-
ления, и на Колины сомнения ответил какой-то рез-
костью, потому что не поверил в искренность его со-
мнений, а решил, что Рубцов, подавшийся в Мос-
кву, набивается теперь на комплименты и уговоры
остаться на поэтическом пути «ради всего святого» и
тому подобное. И предложил ему что-то литератур-
но-расхожее, вроде: можешь не писать – не пиши.
А Коля, теперь-то я понимаю, оказывается, был на
своеобразном мировоззренческом распутье: в Лит-
институте он насмотрелся на конъюнктурщиков от
стихоплетства, в Ленинграде – на всевозможных
искусников и экстремистов от пера, и не то чтобы не
знал, что ему дальше делать, а, видимо, еще раз хо-
тел убедиться, увериться, что путь через Тютчева и
Фета – то есть не столько через прошедшее, минув-
шее, сколько через вечное, истинное – избран им
правильно, путь как средство, единственно утверж-
дающее его в правах российского стихотворца.
В Ленинграде, примерно тогда же или чуть рань-
ше, прошел своеобразный, единственный в своем
роде, а потому запомнившийся на долгие годы Тур-
нир Поэтов. Не помню, кто организовал его во Дворце
культуры Горького, чья конкретно заслуга, что под
одной крышей на целый вечер собрались тогда все
лучшие молодые поэты Ленинграда. Но... собра-
лись. Как в какие-нибудь послереволюционные,
двадцатые, в эпоху «Бродячей собаки».
Выступали поэты всех направлений и крайнос-
тей, интеллектуалы и «социалы», формалисты-фо-
кусники и натуралисты-органики – такие, как Ев-
гений Рейн и Леонид Агеев, Владимир Уфлянд и
Олег Тарутин, Иосиф Бродский и Николай Рубцов,
Дмитрий Бобышев и Саша Морев, Александр Куш-
нер и Виктор Соснора, Михаил Еремин и Яков Гор-
дин, Герман Сабуров и Глеб Горбовский, и еще, и
еще, и весь зал, как какой-нибудь итальянский пар-
ламент, делился на эксцентрические секторы и сек-
ции, аплодируя локально, выборочно, то есть тому
или иному направлению в стихописании. Чем-то
прелестным, наивно-восторженным пахнуло от
этого кипящего и бурлящего мыслями и образами,
ритмами и претензиями сборища, повеяло чем-то
давним, утраченным, казалось, безвозвратно и вмес-
те с тем вечным, непреходящим, в том числе и за-
ключающим в себе ответ на рубцовские сомнения:
нужны ли кому наши поэтические потуги? Нужны,
нужны. И не только поэтам пишущим, но и поэтам
читающим. Ибо мятущаяся мысль юных мечтателей
и философов, а также образная вязь художников,
изобразителей всех времен и народов растворена в
самих этих народах, и отменить или запретить бие-
ние их пульса никто не вправе. Да и не в силах.
О поэтическом братстве того времени говорит и
тот факт, что все участники Турнира Поэтов рано
или поздно «пересекались» у меня на Пушкинской.
Одни – чаще, другие – реже, но все мы бывали
друг у друга. И не только участники турнира. Анд-
рей Битов и Юра Шигашов, Володя Бахтин и Борис
Бахтин (сын Веры Пановой), Давид Дар и Глеб Се-
менов, Игорь Ефимов и Кирилл Косцинский, Вла-
димир Максимов и Владимир Марамзин, Владимир
Британишский и Саша Кушнер, и Штейнберги,
Штейнберги... Даже Станислав Куняев наведался
как-то из Москвы или оттуда, где он тогда обитал.
А вот Иосифа Бродского у себя почти не помню,
хотя наверняка заглядывал и он. У Бродского был
свой круг друзей, свое «дупло» имелось.
Гораздо позже, где-то перед самым приездом в
Россию американского президента Никсона и перед
самым отъездом-выдворением из России в Америку
поэта Иосифа Бродского, заглянул я в очередной
раз на улицу Пестеля, где рядом с действующей пра-
вославной церковью Преображения жил будущий
нобелевский лауреат. Мне тогда срочно потребова-
лось прийти в душевное (а также вестибулярное)
равновесие, а ресурсы для оной цели оказались ис-
черпанными, а все средства, ведущие к немедленно-
му исполнению желания (к преображению чисто
физиологического свойства), использованными.
И тогда, очутившись на Литейном, с секунду поози-
равшись и с полсекунды поколебавшись, решил я
подняться к Бродскому, чье окно, расположенное в
«фонаре» старинного многоэтажного дома, призыв-
но мерцало, ничего, кстати, существенного не обе-
щая, ибо сам Иосиф жил крайне бедно, официаль-
ные организации стихов его не только не печатали,
но и как бы не терпели, о чем говорит тогдашнее
гнусное распоряжение – объявить поэта тунеядцем,
судить и выслать его из сиятельного города в про-
мозглую глушь. К моменту, когда я решил небеско-
рыстно навестить Иосифа, поэт из вынужденных
дебрей уже вернулся, мы с ним уже неоднократно
виделись и наши с ним стихи были напечатаны где-
то в Италии – под одной обложкой сборника рус-
скоязычных поэтов. У Бродского в «фонаре» обна-
ружил я тогда еще одного непременного участника
подобных западноевропейского производства стихо-
творных сборников, а именно – Сашу Кушнера. И
сразу понял, что визит мой, деликатно выражаясь,
некстати и что вообще о своем явлении все-таки не-
обходимо предупреждать заранее и т. п.
Ребята сидели при моем появлении скованно, как
птицы на жердочках. Я и не знал, что они... проща-
лись. Перед отбытием Иосифа на другую сторону
планеты. Вдруг показалось, да и по сию пору сохра-
нилось такое впечатление, что «фонарь», в котором
все мы сидели в тот миг, походил на клетку с птица-
ми, которые неожиданно оказались певчими, неожи-
данно для обладателей клетки, и что птицы поют, но
песни их далеко не всем нравятся, тем паче – лас-
кают слух.
Что же касается «восстановления равновесия» —
на бутылку вина мы тогда, все трое, определенно на-
скребли. Но распивать ее направился я один – в
ближайший парадник. И не потому, что мной прене-
брегли или побрезговали, а потому, что в атмосфере
«фонаря» назревали события более масштабные и
непоправимые. В птичьих сердцах бушевала тревога
земной, прижизненной разлуки с городом, улицей,
«фонарем», почти такой же непоправимой, как и
разлука со всем пространством жизни. К тому же в
ресторане «Волхов», расположенном под соседним
зданием на Литейном проспекте, обитатели «фона-
ря» предполагали в ближайшие часы организовать
скромную отвальную, а значит, и в отношении соб-
ственного «равновесия» все у них было впереди.
И вот сегодня, ближе к вечеру, когда я осваивал
эти страницы «Записок», после почти двадцатилет-
него перерыва я вновь увидел Бродского живым —
все таким же нервным, грассирующим, улыбчато-
настороженным, с остатками рыжих волос на как бы
располневшей голове. Бродского «давали» по теле-
видению в программе «Взгляд». Нажал кнопку при-
емника, и... вот он, Иосиф, словно и не было меж
этим нажатием и нажатием тем (кнопки звонка в его
дверь на улице Пестеля) – двадцати лет. И первое,
на чем я себя поймал, это улыбка, раздвинувшая
мне губы, ответная улыбка Иосифа. И тут же поду-
малось: «А хорошо все-таки кончилось! С Брод-
ским, и вообще... Выстояли. При жизни. Разве —
не милость? Разве – не свет? Перед очередным за-
темнением...»
Примерно тогда же (перед отъездом Бродского в
Штаты) состоялось между нами (Кушнер, Брод-
ский, Соснора, я) как между стихотворцами – от-
чуждение. Произошло как бы негласное отлучение
меня от клана «чистых поэтов», от его авангарда,
тогда как прежде почти дружили, дружили несмот-
ря на то, что изначально в своей писанине был я
весьма и весьма чужероден творчеству этих высоко-
одаренных умельцев поэтического цеха. Прежнее
протестантство мое выражалось для них скорей
всего в неприкаянности постесенинского лирическо-
го бродяги, в аполитичном, стихийно-органическом
эгоцентризме, в направленном, нетрезвого проис-
хождения словесном экстремизме, с которым рано
или поздно приходилось расставаться, так как ду-
шенька моя неизбежно мягчала, предпочитая «реак-
ционную» закоснелую службу лада и смирения рас-
четливо-новаторской службе конфронтации и миро-
воззренческой смуты.
Правда, моему не всегда деликатному стуку во
врата поэтического храма и прежде не все доверя-
ли – как «официальные органы», так и негласные
хранители поэтического огня в стране. Оглядываясь
теперь с улыбкой, вижу, как производились над
«поэтическим веществом» моего изготовления умо-
зрительные и литературоведческие анализы, как на-
водились символические справки, составлялись кон-
силиумы мнений: дескать, а есть ли вообще повод-
причина для размышлений, не блеф ли – вся эта
«поэтическая конструкция», занимающая у бедных
интеллигентов трояки, а то и сдающая во утолении
жажды их послепраздничную стеклотару?
В негласных экспертизах и расследованиях при-
нимали участие тогдашние литературные спецы от
поэзии – такие, как Ефим Эткинд, Наум Берков-
ский, Виктор Мануйлов, Тамара Хмельницкая, Вла-
димир Орлов, профессор Максимов, профессор Бо-
рис Бурсов. Привели меня в дом и к Л. Я. Гинзбург,
которую я напугал, а вернее – шокировал, показа-
ли «лицом к лицу» Анне Андреевне Ахматовой, Бо-
рису Слуцкому и даже Евгению Евтушенко. Кое-что
из прогнозов, как ни странно, подтвердилось, а кое-
что – развеялось. Что и следовало ожидать. Смешно?
Пожалуй. Никто, понятное дело, не собирался де-
лать из меня подопытного кролика. Тогда что же —
мания преследования? С моей-то стороны? Ее симп-
томчики? Что ж. Хотя почему бы и не мания очище-
ния? Мания освобождения от себя прежнего, без-
божного, беспозвоночного?
По телевидению как-то показывали встречу ред-
коллегии журнала «Нева» с читательской аудито-
рией одного ленинградского научного института, и
я, не вылезающий из своего многомесячного дере-
венского добровольного отчуждения, с жадностью
наблюдал эту встречу, тем более что за столом «пре-
зидиума» сидели хорошо знакомые мне замечатель-
ные люди – писатель Виктор Конецкий, поэт Алек-
сандр Кушнер, главный редактор «Невы» Борис
Никольский, прозаик Житинский, сатирик Мишин,
а также известный писатель из Москвы В. Дудин-
цев, автор давнишнего нашумевшего романа «Не
хлебом едины», отдавший «Неве» свой новый роман
«Белые одежды». Разговор писателей с читателями,
как всегда, напоминал разговор двух иноязычных
граждан, к тому же тугоухих и подслеповатых. К
проблемам друг друга. Никакого пресловутого взаи-
мопонимания в зале и в помине не было. Хотя всех
присутствующих как бы объединяла одна общая
идея.
Что ж, думал я, поджав губы от бессилия и не-
возможности вмешаться в беседу, с жадностью на-
блюдая за происходящим на экране садоводческого,
«списанного» телека, что ж – борьба мнений, рас-
становка акцентов, неистребимая жажда конфронта-
ции – все это закономерно, присуще, свершается
все как бы по извечному сценарию противостояния
двух сакраментальных сил – добра и зла. Тогда по-
чему я волнуюсь, с какой стати потерянно озираюсь,
будто повинен в нелепой разобщенности людей, не
имеющих возможности покорно обнять друг друга
и, отрешась от гордыни, простить разом все, а о себе
грешном – забыть поскорее? Не тут-то было! И
волнуюсь я оттого, что сам живу телесно, плотояд-
но, что сам не отрешился, не простил, не очистился,
хотя и пожелал очищения, как, скажем, через час
пожелаю... чаю. Сделал в направлении раскаяния
каких-нибудь полшага. А разволновался – на це-
лую милю. И не оттого ли разволновался, что смот-
рю на происходящее как бы из прошлого, а точнее
– из небытия? На экране все тот же Саша Кушнер,
только какой-то приободрившийся, отказывающий-
ся в пользу перестройки от чтения лирики, привет-
ствующий перемены в стране, какой-то, я бы сказал,
незнакомый, деловитый, гражданственный Кушнер,
гневный на тех, кто в прошлом обвинял его поэзию в
камерности, призывающий в свидетели собственной*
социальности Мандельштама и Пастернака, напа-
дающий на огорошенного Дудинцева, имевшего не-
осторожность заявить, что Раевский в «Войне и
мире» Л. Толстого подставлял под огонь вражеских
батарей своих кровных сыночков, на что Кушнер
стал выговаривать Дудинцеву горячо, гневно – всё-
де это басни, мифы и легенда – о сыночках Раевско-
го, а на самом-то деле никто добровольно под вражес-
кие пули и осколки снарядов никого не подставлял
и что версия Толстого на его писательской совести, и
старик Дудинцев вжал голову в плечи, притих, был
смят, и захотелось крикнуть Саше Кушнеру: поми-
лосердствуй, пожалей старика!.. А иа экране редак-
тор объявляет, что в числе предстоящих публикаций
в журнале будут обнародованы документы присно-
памятного процесса, когда в Ленинграде судили Ио-
сифа Бродского за тунеядство. Словом, ничто до-
стойное восхищения не исчезает в этом мире бес-
следно, рукописи не горят, тем паче – истиная
поэзия, и что никакой такой непоправимой разлуки
в поэтическом «фонаре»-клетке на улице Пестеля
много лет тому назад не происходило, просто вышли
все из того времени малость проветриться – и опять
все стало на место. А может, и впрямь – ничего не
было? Ни жертвенного трояка никто не вручал и ни-
какое дрянное винцо в параднике не распивалось?
Я пишу эти строчки в десяти метрах от сельского
кладбища, на котором примерно раз в месяц кого-
нибудь хоронят. Иногда – с так называемой музы-
кой, с оркестром. И пьяненький барабанщик невпо-
пад ухает колотушкой в отсыревшую кожу своего
«струмента». Голосят незнакомые женщины. При-
чем незнакомый, посторонний плач по чужому по-
койнику все реже вызывает у меня страх или глухое
раздражение и все чаще – смиренную оторопь. И,
сидя в избе за пишущей машинкой, отбиваясь от на-
зойливой осенней мухи, начинаешь сдержанно схо-
дить с ума, вглядываясь в эту муху и одновременно
задавая вопрос: почему она садится на меня, на мое
теплое еще тело, а не на шкаф или пластиковый аба-
жур?
И почему все-таки гневаемся мы на оторопелых
«гуманистических старичков», отмахиваемся от них
порой, как от назойливых мух, топаем на них нож-
кой, почему призываем собратьев не к созиданию, а
к разрушению, не к воспитанию, а к восстанию, не к
постепенному очищению, а к скоропалительному
перевоплощению? Не оттого ли, что закваска у нас
всеотрицающая, а поведение – общинно-стадное,
ясельно-детсадовское, дружинно-школьное, что ор-
ганизм нашей жизни обезбожен – по аналогии с
обезвоженным, то есть обреченный организм?
И все-таки... как сказал бы непридуманный, не-
поддельный гуманист Владимир Галактионович Ко-
роленко, представитель редчайшей категории людей
с мужественной, незамутненной совестью, все-таки
впереди – огоньки! Огоньки неизвестности, огонь-
ки вероятности, если и впрямь – не огоньки Веры!
И значит, кому-то нужно, чтобы на бруствер рядом с
отцом, пусть в мифе, пусть в очередной легенде,
вставали и его сыновья, способные любить, причем
не только себя, но и других.
Глеб Горбовский среди писателен России. Санкт-Петербург. 1998.
1990 – 200 0-е годы
19 августа 1991
(Частушка)
Очень странная страна,
не поймешь – какая?
Выпил – власть была одна.
Закусил – другая.
РАБ БОЖИЙ
Он сидит в своей каморке,
смотрит жалобно в окно...
Он не любит хлеб свой горький,
сам себе – не рад давно.
На запоре окна-двери,
превратил свой дом в тюрьму...
Что случилось?
Он... не верит.
Ни во что. И – никому!
Поступили с ним так плохо
кто? Родители, жена,
дети, Родина, эпоха,
вездесущий сатана?
Поступили. Кто – не важно.
Наяву – не в страшном сне.
Тихим стал. А был – отважным.
Там, однажды, – на войне.
Страшен враг. Страшней начальство:
речи, планы... Вот и сник.
А ведь он, в своем начале,
был живым, как в горле крик!
В шифоньер, под звон регалий,
пиджачок задвинут вдаль...
Не убили. Запугали!
Мне его смертельно жаль.
Жаль сиротку, жаль былинку,
жаль себя (ведь он – во мне!),
землю жаль, народ былинный,
робкий свет в его окне.
ФРАНЦУЗСКИЕ КАПЛИ
«Свобода, равенство, братство..
От вкрадчивых капель хмелеет округа.
Свистит тенорок, как тамбовская вьюга!
И брызжут с трибуны – мокротой – слова:
«Россия без крови и смерти – мертва!»
Ах, вам ли не знать, сатанинские дети,
что чадо свободы зачато в запрете,
что путы свободы и цепи тюрьмы
извечно – одной! – порождения тьмы!
Все ваши призывы – не глубже могилы.
Лишь в гордом смирении черпаю силы —
не в ваших свободах, чье имя – тщета:
в пресветлой предсмертной улыбке Христа.
Вот мы Романовых убили.
Вот мы крестьян свели с полей.
Как лошадь загнанная, в мыле,
хрипит Россия наших дней.
– «За что-о?! – несется крик неистов.
За что нам выпал жребий сей?»
За то, что в грязь, к ногам марксистов
упал царевич Алексей.
В музее монументов,
чьи кончились часы,
утрачены «фрагменты» —
бородки, лбы, носы.
Калинин, Ленин, Троцкий,
угрюмый дядя Джо...
Отпетые уродцы.
Не крикнешь им: «Ужо!» —
как пушкинский Евгений
надменному Петру...
Их каменные тени
живут.
А я – умру.
ТЬМА ВНЕШНЯЯ
Как бы во сне, на дне развалин храма,
разбитого войной или страной,
лежали мы во власти Тьмы и Хама,
покрытые кровавой пеленой.
Сплетенные корнями сухожилий,
проклеенные вытечкой мозгов, —
развратники, пропойцы, пыль от пыли,
лжецы и воры низких берегов.
И дьявол нас вычерпывал бадьею,
как сточные отбросы сплывших лет...
Но и меж сих, отвергнутых Судьею,
нет-нет и брезжил покаянный свет!
Выцветшие мелочи,
утлый дачный быт.
Надпись на тарелочке:
слово «Общепит».
Что-то неудачное,
шрамом на лице,
мрачное, барачное
в том сквозит словце.
Что-то тускло-мнимое,
как сухая ржа,
злое, но родимое,
с чем срослась душа.
Отверстые двери вчерашнего склада.
Внутри пред иконой мерцает лампада.
Еще в этом складе – и сыро, и душно,
но можно затеплить свечу, если нужно.
Еще здесь прохладно, как в затхлой пещере,
но можно уже отдышаться – и верить!
Пусть пахнет мышами и прелой картошкой,
но можно уже начинать понемножку
любить, и прощать, и терпеть, и дарить —
к воскресшему храму дорогу торить.
Под собой не чуя ног,
поздней осенью, во мраке
я набрел на огонек,
что мерцал в пустом бараке.
Расползлись его жильцы
кто куда по бездорожью,
разошлись во все концы,
положась на волю Божью.
И лишь некая душа —
запропавшая без вести,
продолжала, не спеша,
проживать на прежнем месте.
Зажигала свет в окне,
ветер слушала вполслуха...
И блуждали по стене
тень и свет живого духа.
Не Не *
Сердце выдохнется и умрет.
Будет рай, где мы уже не люди.
Или – ад. Мне все равно, по сути.
Будет нечто. Жизнь наоборот.
Ни березки голой под окном,
ни шуршащей за окном метели.
Будет то, что мы не разглядели
в серых буднях, в промельке ночном.
Явь за явью... Дух, но – не в сосуде,
Будет «то». Но «этого» – не будет.
Или – или. То бишь либо – либо.
Что-то будет. И на том спасибо.
10-2868
* * *
Среди деревьев возле дачи
одно вело себя иначе,
чем остальные дерева:
оно... скрипело! Чуть, едва.
Оно стенало, как от боли,
как бы желая лучшей доли.
И, затаясь в своем углу,
тот скрип терпел я, как иглу,
входящую в мой мозг унылый...
Но вот на днях собрался с силой,
схватил топор! И – смерть сосне.
Но скрип остался. Там, во мне.
* * *
Всю ночь сухие травы
ломались подо мной.
Окраиной державы
спешил я в мир иной.
Всю ночь пустыней-степью,
свобода – как тюрьма...
Страх, возведенный в степень,
сводил меня с ума.
Нет, не в киргиз-кайсаки —
в край жизни неземной!
И молча шли собаки
бездомные за мной.
* * *
Рассвет сквозь иглы сосен.
Туман съедает снег.
Весна, а в сердце осень.
И деревянный смех.
Идем. Куда? Не знаю.
Ведут. Молчит конвой.
Россия, мать родная
с патлатой головой.
Явь источает запах,
тоску – не аромат.
Плывет, как дым, на Запад
великорусский мат.
Чахоточная черная зима
держалась на нуле, дожди л а аж до марта.
Но вот за окнами как бы истлела тьма, —
снег повалил... И сколько в нем азарта!
Деревья щеголяли в бахроме,
земля и впрямь для многих стала пухом.
Неслышные машины шли с ухмылкой на уме.
И провода над городом – как бы от сна опухли.
Кирпич старинный здания тюрьмы.
Ощерилась в стене железная калитка.
Последний человек на снег из затхлой тьмы
ступил... и прочь спешит – задумчиво,
но прытко.
* * *
Душа еще жива,
цела – не извели,
как церковь Покрова
над водами Нерлп.
Парящая, светла,
хотя в воде мазут.
Грань каждого угла
ясна, как Божий Суд.
Над зеленью полей,
над белизной снегов
она хранит друзей
и... стережет врагов.
Птички до рассвета
весело поют.
Скоро будет лето,
на душе – уют.
Пулемет соседа
даст осечку вдруг.
Будет больше света
и любви вокруг.
За стеной кремлевской,
как когда-то встарь, —
свой и пьяный в доску,
добрый государь.
Будет нам калачик,
на копейку – два!
А в глазах, на сдачу,
вспыхнет синева...
Тополя набухли влагой,
в воздухе – туман и прель.
Вот и все... Пойду и лягу,
как собака, на панель.
Пусть меня машины давят
в сумерках... И – дождь кропит.
Пусть моей Прекрасной Даме
рай приснится, а не быт.
Золотые гаснут окна,
улица, как гроб, узка.
...А Всевидящее Око
заслонили облака.
* * *
Алёне
Больница, психушка. Решетки стальные.
Поют задушевно душевнобольные.
Они на веранде расселись, как в клетке.
Веселые нынче им дали таблетки.
На уровне их изумительной сцены
деревья растут и чирикают птицы.
Заслышав, как люди поют вдохновенно,
на миг перестала листва шевелиться.
И птицы умолкли. Лишь где-то за зоной
заплакал ребенок. Грудной. Потрясенный.
* * *
Вновь отпылала заря.
Смутному голосу внемлю:
«Боже, верни нам царя,
выручи русскую землю!»
Шум этой жизни и гам
я в своем сердце смиряю.
Молча к разбитым йогам
вновь кандалы примеряю.
Ночь на дворе, как стена.
Темень, как камень, недвижна.
Слышно, как дышит страна.
Все еще дышит... Чуть слышно.
Россия – далеко не храм
и не собор, не кроткая обитель.
Она – барак, где вечный тарарам! —
и стыд, и срам, разборки в гнусном виде.
Там лень работать и мириться лень,
а помолиться – бомбой не заставишь.
Спокон веков кулак или кистень —
оружье духа! В душах – скукота лишь.
Лежать на нарах, дьяволу кадить,
проигрывать друг друга в карты...
При жизни в преисподню угодить!
Когда, о, Русь, отклеишься от нар ты?
Я знаю: паразиты кровь твою
сосут и портят. И кромсают душу.
Ты столько лет стояла на краю,
что – в край вросла! Тебя уж не обрушить.
Пусть ты – не храм. Ты – крепость. Ты – жива...
Ты есть неугасимая лампада.
Барак сгорит, как старая трава.
И пусть горит. А храм – достроить надо!
ВАНЮША
Ванюша приходил к монахам,
как мы – за правдой к Ильичу.
И, помолясь единым махом,
бубнил чуть слышно: «Исть хочу...
И сразу в трапезной смущенье —
в сердцах. И оттепель – в глазах.
Ванюша примет угощенье
и прочь спешит – в соплях и вшах
Его мамаша – пьянь, неряха,
подглазья метят синяки —
сынка спровадила к монахам.
Но тем со вшами – не с руки.
И вот Ванюша – в интернате.
В канаве сточной дрыхнет мать.
Не радость вечной благодати —
подай им, Бог, тепло объятий!
...А лет Ванюше – целых пять.
Во дни печали негасимой,
во дни разбоя и гульбы —
спаси, Господь, мою Россию,
не зачеркни Ея судьбы.
Она оболгана, распята,
разъята... Кружит воронье.
Она, как мать, не виновата,
что дети бросили ее.
Как церковь в зоне затопленья,
она не тонет – не плывет —
все ждет и ждет Богоявленья.
А волны бьют уже под свод...
В атмосфере дремучей, огромной,
за лесами, за Волгой-рекой —
слушать издали гомон церковный,
обливаясь звериной тоской...
Лес гудит, как ночная машина,
ветром-ухарем взят в оборот.
И душа, как стальная пружина:
не опомнишься – грудь разорвет!
...Как поют они чисто и внятно
в тесном храме – ничьи голоса!
Неужели тебе непонятно:
там от века синей небеса.
Только там – за оградой церковной,
там – под сводами горней мечты
обиталище Воли Верховной!
Так войди же под своды и ты!
Обогни неслепую ограду,
отыщи неглухпе врата —
и получишь Свободу в награду.
И – Любовь! И уже – навсегда!
Зрение греха своего...
И. Бряича
Во дни утрат, усилий ложных
сыны истерзанной страны
взялись построить церковь Божью
на берегу реки Двины.
И каждый плотничал – вначале
в словах нечист и в мыслях груб,
без умиленья и печали,
как будто ладил банный сруб.
Но вот над куполом, венчая
их труд благой, простерся крест!
И выдал денежки начальник
и отпустил до отчих мест.
И, отойдя на расстоянье,
все оглянулись, как один,
но – не увидели сиянья
и не исчерпали глубин.
Но каждый вспомнил почему-то,
как был он пьян, как бил жену,
как обманул, посеял смуту,
разрушил бранью тишину...
Стояли молча. Не молились.
Волос не рвали. Но на миг —
все вдруг чего-то устыдились...
Как бы узрели Божий лик!
Во храме, разоренном, как страна,
где ни крестов, ни даже штукатурки,
могильная набрякла тишина...
Как вдруг возникли некие фигурки!
Они свечу – чтоб Истину постичь —
затеплили в подхрамных катакомбах.
Здесь – своды Православия. Кирпич
терпения... Бессильны бомбы:
храм устоял! Надгробная плита
нам говорит: под ней – чудесный старец.
Хоть пять веков могила заперта,
а святость старца – не ржавее стали!
Звучит акафист вечному Христу.
Плывет из уст! В груди – смиренней вздо-
хи...
И не свечу – алмазную звезду
я различаю в сумерках эпохи!
И пусть над нами – бездыханный храм...
В глазницах окон – воронье и ветер...
Горит свеча! А стало быть, и там,
в стране моей, где потрудился хам, —
Любовь и Мир возбрезжут на рассвете!
Свято-Троицкий Зелепецкий монастырь,
1993
Зима. В окне стоят дымы —
не от воскресших кочегарок,
не от каминных истин старых, —
костры горят! В объятьях тьмы.
И не дрова трещат в огне —
умы пылают и надежды,
ларьки вранья и скрежет нежный
знакомств, возникших по весне.
И, как в далеком феврале
Семнадцатого, в час расплаты —
молчит над городом Распятый...
Лишь кровь дымится на челе.
Василий Бело» п Глеб Горбонский. Санкт-Петербург. 1988.
УГЛОВАЯ ДВЕНАДЦАТАЯ.
Из книги «Остывшие следы. Записки литератора»
Карельский берег Финского залива. Дачный по-
селок в полусотне километров от Ленинграда, став-
ший известным в стране благодаря эстрадной песен-
ке, где нещадное число раз повторяются строчки:
«На недельку до второго я уеду в Комарово!»
Это – для одних. Или – для большинства. Для