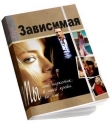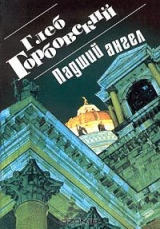
Текст книги "Падший ангел "
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
деленных, весьма влиятельных кругах.
Великое дело для новичка – найти в камере если
не задушевного, то хотя бы благосклонного собесед-
ника. Первого, изначального, единственного в двух-
сотликой толпе. Найти и начать общение. То есть —
жить полноценно, мыслить вслух, а не по-звериному
рыкать и озираться. То есть как бы заново присту-
пить к «жизненному процессу» существования. Уме-
реть и воскреснуть. Без помощи врачей. Потому-то и
запомнился Яков Васильевич Круглов, что поделил-
ся, отдал, а не взял. И не только пространством, но и
расположением духа расщедрился. А там уж, когда
человек не абсолютно одинок, возможно налажива-
ние контактов и с другими соседями по несчастью. И
вот, глядишь, ты уже и признан «массой», и как бы
прописан в ее владениях, растворен в ее «компонен-
тах», и на тебя уже не обращают излишнего внима-
ния, принимая за своего, слитного.
Были, конечно, и там исключения из правил. Двое
держались особняком. Один из них обладал знаме-
нитой фамилией расстрелянного поэта.
«Знаете, кто это? – указал отцу Яков Васильевич
на одного из независимых. – Сын поэта Гумилева».
– И ты с ним познакомился? – спросил я отца...
по прошествии пятидесяти лет со времени его пре-
бывания в пересыльной тюрьме.
– Пытался, но ничего не получилось. Эти двое —
сын поэта и сын профессора медицины Дернова —
сторонилось толпы. Не допускали к себе никого. Из
чувства самосохранения? Никому не доверяли? Не
знаю. Но мне показалось – не считали нужным.
Может, я ошибаюсь, но в поведении молодых людей
сквозила надменность этаких римских мраморных
мудрецов, место которым в Эрмитаже.
Отец не забыл и, я чувствую, не простил до сих пор
иной, нежели у него, крестьянского сына, повадки
держаться с людьми. Только и всего. Так мне поду-
малось вначале. А позже выяснилось, что я ошибал-
ся: простил, не мог не простить. Однако не забыл.
– Понимаю, что все это было смешно, несерьез-
но, наивно, – отец бесхитростно улыбнулся, – и
то, как держались эти двое с себе подобными, и то,
как воспринимал их поведение я, начитавшийся
классиков, ратовавший за всеобщее милосердие и
равенство (для меня, вчерашнего крестьянина, До-
стоевский – откровение, для них – в порядке ве-
щей). Все мы тогда хлебнули горюшка – и гордые,
и покладистые – одинаково. И я запоздало восхи-
щаюсь камерной независимостью Гумилева, хотя бы
частично внешней.
...Вскоре после ареста отца поместили в одиноч-
ную камеру, и не в камеру даже, где койка пристав-
ная и параша выносная, а в некий каменный мешок
или «багажник», где можно было только сидеть
скрючившись, но где можно-таки сосредоточиться и
подумать о случившемся не суетясь, в какой-то мере
раскрепощенно и даже независимо, – никто, поми-
мо надзирателя, не влезет в душу, не вломится с бес-
церемонностью равного. И сразу перед отцом воз-
ник вопрос: «Почему я здесь очутился?!» И – от-
вет: «Потому что ушел от Христа». И строчки Блока
воссияли в сознании: «В белом венчике из роз впе-
реди – Иисус Христос!» Какой бы длительной и
беспощадной ни была заварушка на улицах страны
(«Ой, пурга какая, Спасе!»), впереди – Свет, На-
дежда на исцеление. И на второй неизбежный во-
прос – «Кто виноват?» – в памяти вспыхнул ответ
вразумляющий и мобилизующий, и пришел он из
дневниковой и «цитатной», в черной клеенке, тетради,
где накапливались свои и «чужие» (гениев мира)
мысли, той самой тетради, что послужила следова-
телю «вещественным доказательством». Итак, ответ
на вопрос: «Если ты, человек, сам не навредишь
себе, не может навредить тебе ни друг, ни враг, ни
сам диавол» (Иоанн Златоуст).
Первая ночь наедине с собой оказалась бессонной
и в то же время милосердной: в эту ночь вызрело
убеждение, что все «не зря», что испытания посла-
ны ему во искупление вины его, заключавшейся в
безмерной гордыне и одновременно в слабости духа.
С осознанием вины пришло успокоение. А под ут-
ро—и сон. Но прежде – раскаяние...
Отец от радости просветления хотел было встать,
распрямиться, но крепко приложился о камни «ба-
гажника» и малость поостыл в своих размышлени-
ях. Однако именно с этих пор страдания тюремной и
лагерной жизни сделались для отца более терпимы-
ми, а сама жизнь – милосерднее и многозначимее.
Пришло раскаяние.
Острее и неотвязнее прочих поступков кололо
ему сердце одно давнишнее происшествие, из кото-
рого, как ему думалось и чувствовалось, вышел он
форменным подлецом. Случилось это лет за шесть
или семь до ареста, в начале тридцатых. Через всю
Россию – к северу и востоку – двигались тогда го-
лодные лишенцы, сгоняемые с земель, опустошенных
раскулачиванием. Шли они тогда и через Ленинград
в надежде подкормиться. Магазины, универмаги,
рынки, бульвары и скверы, парки культуры и отды-
ха были забиты этими пилигримами.
Однажды, возвращаясь с Васильевского острова,
где отец преподавал в Образцовой школе, наткнулся
он у Львиного мостика на канале Грибоедова, возле
своего дома-утюга, на толпу женщин, что-то громко
и яростно обсуждавших, кого-то за что-то срамивших
и чуть ли не бивших кулаками. Как выяснилось, ру-
гали прохожую, постороннюю женщину, худющую,
с черным, словно обугленным, лицом, обезумевшую
от страха и голода, тянувшую руку к свертку с ре-
бенком, которого у нее отобрала толпа. Трясли ее и
поносили за то, что она хотела бросить в канал свое-
го ребеночка. Женщина стояла спиной к толпе,
глядя в мутную воду канала, и казалось, все еще
раздумывала, броситься ей с моста или нет. Ребенка
ей в конце концов вернули, она привычно привязала
его платком к себе, и теперь огромный сверток то-
порщился на тощем, изломанном боку женщины.
– Нет, вы полюбуйтесь! – кричала из толпы са-
мая горластая, пожилая уже тетка. – Утопить дитю
надумала! Кровинушку свою, окаянная, не пожа-
лела!
– Да мертвенький он... Холодненький, – огля-
нулась медленно женщина и так посмотрела на всех,
в том числе и на отца, что на мосту сделалось тихо.
А мост маленький, пешеходный. И все, как в одной
лодочке, на его досках. И отец испугался этого взгля-
да, заспешил прочь. То есть – поплелся к себе до-
мой, в свое, пусть ничтожных размеров, девятимет-
ровое, убежище, где ждали его – семья и относи-
тельный покой.
– Никогда себе не прощал и... до последнего часа
не прощу, – говорил мне отец спустя полвека после
случившегося. – Надо было за руку взять и привес-
ти домой. Пусть тесно, пусть чужая, посторонняя,
грязь, вши... Приютить! Дело было к ночи. Пусть бы
переночевала. Отдохнула бы, чаю попили. А я вот...
мимо прошел. Струсил. Смалодушничал.
Такая на сердце ноша. На всю жизнь. И что зна-
менательно: впервые осознание вины, как я уже го-
ворил, пришло к нему в одиночной камере. Осозна-
ние вины и обретение опоры в грядущих испытаниях.
Недаром древний девиз – «Через тернии к звез-
дам» – для отца с тех пор не просто утешающая ис-
тина, но – возбудитель добродетели и радости сер-
дечной. А неустанно сопутствующий совестливому
человеку вопрос «кто виноват?» получил тогда в ми-
ровоззрении отца недвусмысленный ответ: «Я!» Со-
вершенствуя себя, совершенствуем мир. Раз и на-
всегда.
После одиночки была камера на двоих. Отец об-
радовался новому человеку. Жить в необитаемом
пространстве он еще не умел. Хорошо рассуждать об
интеллектуальном одиночестве, находясь в толпе.
Жить наедине с собой, да еще взаперти, может не
каждый. Хрупкая человеческая психика чаще всего
деформируется от вынужденного безлюдья. Послед-
ствия такой деформации непредсказуемы, потому
что индивидуальны.
И вот беда: человек, с которым теперь предстоя-
ло совместно обитать, был мрачен, то есть угнетен
происходящим до крайней степени, общения сторо-
ни лея, бесед не поддерживал и, казалось, в отличие
от моего отца, жаждал побыть наедине с собой.
К тому же человек этот, Безгрешнов Василий Ми-
хайлович, по роду своей деятельности (дотюремной,
естественно) являлся представителем совершенно
неизвестного, а значит, и малопонятного отцу круга
людей, еще недавно облеченных властью и распола-
гавших привилегиями. То есть – как бы и свой,
российский мужик из крестьян или рабочих и одно-
временно – чужак, иностранец у себя дома, если
вообще не инопланетянин.
По словам отца, «на воле» Безгрешнов был за-
местителем наркома путей сообщения Лазаря Кага-
новича, занимался электрификацией Мурманской
железной дороги. Под следствием Безгрешнов нахо-
дился уже целый год, «шили» ему контрреволюцион-
ный заговор, шпионаж и террор (убийство все того
же Кагановича), то есть дело вели четко к расстрелу
Василия Михайловича, но он оговаривать себя не
спешил, обвинительного заключения ни в какую не
подписывал. «Методы воздействия» к нему применя-
ли самые разнообразные, то есть пытали с пристрас-
тием, но Безгрешнов уперся. Как выяснилось в ка-
мере чуть позже, для Безгрешнова непризнание
вины перед Родиной стало единственным способом
продолжения жизни. Не «соломинкой», за которую
хватаются в отчаянии, а как бы самим сердцебиени-
ем, о пользе которого не рассуждают, а ежели утра-
чивают, то вместе с жизнью.
Разбудил, расшевелил (если не воскресил!) Без-
грешнова отец при помощи чтения книг, русской
классики. В тюремной библиотеке Большого дома
на Литейном имелась тогда хорошая, весьма «кало-
рийная» духовная пища: «Война и мир», «Воскресе-
ние», «Преступление и наказание», «Братья Кара-
мазовы» и даже однотомник Гоголя с «Выбранными
местами из переписки с друзьями». На чтение вслух
отец, естественно, испросил у Безгрешнова разреше-
ния. Тот невнятно буркнул в ответ, и отец присту-
пил к «озвучиванию» толстовской эпопеи.
Бывший путеец с каждым днем становился вни-
мательнее, за происходящими в романе событиями
явно следил, и когда отец, утомленный чтением, по-
жаловался на свое слабое зрение, Безгрешнов согла-
сился «поработать». Вначале смущаясь, скованно, а
затем все раскрепощеннее, а местами даже с «выра-
жением» продолжил чтение «Войны и мира».
Толстого сменил Достоевский. Прочитанное, а для
отца-учителя в который раз перечитанное, по ходу
чтения пытались осмыслить совместными усилиями.
Отец подметил, что Безгрешнову было безразлично
то, как написаны великие романы, его совершенно
не волновала непохожесть нервного письма Достоев-
ского на степенное письмо Толстого. Бывшего замнар-
кома интересовал итог: что своим сочинением хотел
ему, впавшему в унижение и немилость коммунисту,
сказать автор? И есть ли связь меж его, автора, гени-
альными размышлениями и той жизненной ситуа-
цией, в которую угодил читатель Безгрешнов? И
нельзя ли этому обескураженному, отчаявшемуся
читателю извлечь для себя из прочитанного утеше-
ние? Или хотя бы поиметь вразумительное толкова-
ние свалившимся на него бедам?
Речь шла о Наполеоне, а значит, о гордыне; о
прозрении и смирении князя Болконского, смер-
тельно раненного на поле боя; о мудрости крестья-
нина Платона Каратаева, имевшего нравственные
убеждения, которые помогали ему переносить тяго-
ты плена; о повелевающих царях-императорах, по-
сылающих на смерть народы, о ничтожестве этих
царей перед лицом высших начал.
– Как вас понимать? – настораживался время
от времени Безгрешнов. – Речь идет о... боженьке,
что ли? Видите ли, я – член партии большевиков, а
стало быть, неверующий. Ни в бога, ни в дьявола.
– А в свою партию? Разве не верите? Человек
жив, покуда во что-нибудь верит. Хотя бы в... завт-
рашний день! В то, что он наступит.
– Если партия мне почему-то не верит... – на-
чал было Безгрешнов, но в голосе его что-то надло-
милось, Василий Михайлович надолго замолчал.
Потом читали «Преступление и наказание». В
перерыве опять рассуждали о гордыне и покаянии,
о возмездии и милосердии.
– А я не совершал преступления, в котором ме-
ня обвиняют, – как бы случайно, между прочим про-
бормотал себе под нос Безгрешнов. – Не совершал,
однако... наказан. Разве это по-божески? Это... это
по-дьявольски!
На что отец согласно кивнул бывшему замнарко-
му, предложив то ли в шутку, то ли всерьез:
– Хотите, Василий Михайлович, обучу вас вол-
шебному слову? Ни один следователь после этого не
справится с вами. Не заставит подписать неправду.
Ни один бес не боднет, копытом не лягнет.
– Подписать – значит получить «высшую меру».
Я и так уже год держусь. Но силы не беспредельны...
– Потому-то я и хочу вам помочь.
– Вы что, серьезно?
– Повторяйте за мной: «Отче наш, иже еси на
небесах... да святится имя Твое...»
Безгрешнов укоризненно рассматривал человека,
читающего наизусть какую-то старушечью абрака-
дабру, слышанную им в детстве и прочно забытую.
Затем, отвернувшись от отца, размеренно зашагал
по камере – взад-вперед, туда-обратно.
– Хотите, растолкую вам смысл этой бессмерт-
ной «белиберды», которую повторяет половина че-
ловечества? И повторяет чаще в минуты скорби,
смертного ужаса, реже – в состоянии радости, из
неосознанной благодарности. И почти никогда – в
остальное время, то есть – в серые будни повсе-
дневности.
Отец толковал, как мог, импровизировал, прони-
кая в слова молитвы, просвещая не столько Без-
грешнова, сколько себя, так как прежде почти не за-
думывался над торжественно-архаичным звучанием
молитвы. Потом уже, по прошествии дней, они пели
эту молитву на два голоса, и надзиратель предуп-
реждал их неоднократно, грозя карцером и некото-
рыми другими неприятностями, которые могли воз-
никнуть в тюремной обстановке. Но они продолжали
читать и тихо петь, потому что знали: сама тюрьма и
есть для них высшая неприятность и что бы к ней те-
перь ни добавили – тюрьма останется тюрьмой, как
жизнь – жизнью, а смерть – смертью.
Через какое-то время Безгрешнова увели на оче-
редной допрос к следователю. Пение бывшим зам-
наркома «реакционных словосочетаний» походило
один к одному на сумасшествие, по крайней мере —
на частичное помешательство, и, конечно же, не
производило впечатления духовного преображения
бывшего атеиста. Особливо – на молчаливых, ко
всему привыкших надзирателей. Дескать, чего только
не случается с хлипкими интеллигентами на нерв-
ной почве. Каких только фокусов не выкидывают,
окаянные. Их и сажают-то наверняка потому, как
неизвестно, что от них ждать. Самое страшное для
государства – неожиданные люди.
А ведь и впрямь, согласитесь – фантастическое
зрелище: заместитель Кагановича распевает «Отче
наш»! Даже с высоты нынешних, покаянно-рефор-
маторских времен – впечатляет. Но факт остается
фактом, живым историческим оттенком постижения
человечеством путей к Истине. Поступком одной не
окаменевшей души, запечатленным в другой живой
душе – в сознании моего отца.
Со слов самого Безгрешнова, однако не без учас-
тия собственного воображения, отец рисует тогдаш-
нюю сцену в кабинете следователя как весьма знаме-
нательную, подвижнической окраски.
Видимо, Безгрешнов вошел в кабинет с несколь-
ко иным, нежели всегда, выражением лица, что не
укрылось от внимательного, из-под ладони взгляда
хозяина кабинета.
– Что это с вами, Василий Михайлович? Никак...
решились?! Ну и правильно. Стоило мучить друг
друга столько времени. Присаживайтесь. Слушаю
вас, Василий Михайлович. Такая улыбка у вас се-
годня хорошая... Предвещающая. Что вы там шеп-
чете? Говорите громче. Или вот бумага, перо – из-
лагайте.
Неожиданно Безгрешнов поднялся со стула, и
оказалось, что он высокий, осанистый – видный,
одним словом. Дряблые складки на похудевшем, не-
когда полном, дородном его лице расправились.
В движениях проснулась военная выправка бывше-
го комиссара полка.
– Дело в том, что я вас теперь не боюсь, – от-
четливо произнес Безгрешнов.
– Не понимаю... – опешил чиновник.
– И вот еще что: я не из тех, кто часто меняет
свои убеждения. И если уж проникло что... в серд-
це – колом не выбьешь!
– Никто и не собирается... колом. Что, собст-
венно, произошло?
– А то, что я теперь знаю: моя жизнь, а стало
быть, и смерть не от вас зависит! Не вы мне ее дали,
не вам и распоряжаться ею!
В задачу автора этих «Записок» не входит по-
дробное описание тюремно-лагерных мытарств отца
или своих собственных, пусть не таких продолжи-
тельных и объемных, какими были они у родителя,
но – также весьма впечатляющих. Придется обой-
тись без тщательного изображения всех этих нар,
параш, вышек, попок, паек, этапов, бараков и про-
чих аксессуаров уголовного быта блатняжек или
интеллектуальной атмосферы политкаторжан сере-
дины двадцатого века. Деталь хороша своей внезап-
ностью, ненавязчивостью. Обобщения – ожидаемы.
Долг русского литератора – еще раз напомнить
миру, что народ мой, в сравнении с другими наро-
дами, принял в двадцатом веке страдания безмер-
ные, безграничные, ни с чем не сравнимые, причем
принял их снизу доверху, вширь и вглубь – начи-
ная с кормящего страну крестьянина и кончая всеми
остальными мыслящими, творящими, созидающими,
терпеливо скорбящими и сдержанно ликующими
слоями общества. Принял и устоял. Страдания вос-
питывают. Делают народ милосерднее и устойчи-
вее. На лице государства начинает просматриваться
улыбка. Вместо гримасы ожесточения. Улыбка на-
дежды. Усталая и для стороннего взгляда загадоч-
ная.
АХ ВЫ, ГРУДИ!
На Садовой улице в магазине шляп
понял, что погибну я из-за этих баб!
Глазки их пригожие, в клеточку трусы.
Пропадаю пропадом из-за их красы!
Ах вы, груди, ах вы, груди,
носят женские вас люди, —
ведьмы носят, дурочки
и комиссар в тужурочке.
Там, где пес на кладбище гложет свою кость,
повстречал я женщину, пьяную насквозь.
Повстречал нечаянно, привожу в свой быт,
а она качается, а она – грубит!
Ах вы, груди, ах вы, груди,
носят женские вас люди, —
ведьмы носят, дурочки
и комиссар в тужурочке.
Взял я кралю на руки, выношу на двор.
А она беспочвенный заводит разговор.
Разлеглась, мурлыкая, на рыдван-тахте:
«Что ты, – говорит, – прикасаешься
к моей красоте?»
Ах вы, груди, ах вы, груди,
носят женские вас люди, —
ведьмы носят, дурочки
и комиссар в тужурочке.
НА ДИВАНЕ
Песенка бедных художников
М. Кулакову
На диване, на диване
мы лежим – художники.
У меня да и у Вани
протянулись ноженьки.
В животе снуют пельмени,
как шары бильярдные.
Дайте нам хоть рваных денег, —
будем благодарные.
Мы бутылочку по попе
стукнули б ладошкою.
Мы бы дрыгнули в галопе
протянутой ножкою.
Закадрили бы в кино мы
по красивой дамочке.
Мы лежим, малютки-гномы,
на диване в ямочке.
Уменьшаемся в размерах
от недоедания.
Жрут соседи-гулливеры
жирные питания.
На диване, на диване
тишина раздалася...
У меня да и у Вани
сердце оборвалося.
Все пою и пою,
как дурак тухломыслый.
Попаду ли в струю?
Или – заживо скисну?
Попаду, попаду!
Меня будут печатать.
Я еще накладу
свой большой отпечаток.
ПЕСЕНКА ПРО ПОСТОВОГО
У помещенья «Пиво-Воды»
стоял непьяный постовой.
Он вышел родом из народа,
как говорится, парень свой.
Ему хотелось очень выпить,
ему хотелось закусить.
Хотелось встретить лейтенанта
и глаз падлюке погасить.
Однажды ночью он сменился,
принес бутылку коньяку.
И возносился, возносился —
до потемнения в мозгу.
Деревня древняя Ольховка
ему приснилась в эту ночь:
сметана, яйца и морковка,
и председателева дочь.
...Потом он выпил на дежурстве,
он лейтенанта оттолкнул!
И снилось пиво, снились воды, —
как в этих водах он тонул.
У помещенья «Пиво-Воды»
лежал довольный человек.
Он вышел родом из народа,
но вышел и... упал на снег.
* * *
Уходят праздные друзья,
и начинается мой праздник.
Я, как степенная семья,
разогреваю чай на газе.
Я, как примерный семьянин,
ложусь на островок дивана...
Как хорошо, что я – один,
что чай желтеет из стакана,
что я опять увижу сны,
и в этих снах – такая радость,
что ни любовниц, ни жены,
ни даже счастия не надо.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВЕНЕРИЧЕСКАЯ
Торговала ты водой
газированной.
Был жених твой молодой —
образованный.
Он закончил факультет
филологический.
Заболел болезнею
венерической.
Наградил тебя сполна
под завязочку,
чтоб носила на носу
ты повязочку.
Проклинала чтобы ты
жизню русскую,
говорила чтобы в нос —
по-французскому.
И сидишь ты на дому,
затворившись,
нос не кажешь, так как нос —
отвалившись.
ПРО СУЛТАНА
У султана было триста жен.
Был фонтан и голубой бассейн.
Только был он главного лишен —
не употреблял султан портвейн!
Жаль султана.
Звонкий автомат
не выбрасывал ему салат.
Жаль султана.
«Красная стрела»
не везла его и не везла.
В США не делал он визит,
где сидит Рокфеллер-паразит,
виски пьет, ест желтое желе...
А султан лежит в сырой земле!
У султана было триста жен.
Пили все из общего котла.
Но одна из них пила... крюшон,
потому как в партии была.
ВЕЧЕРИНКА
Вошла, внесла румянцы,
спросила: кто я есть?
Заваривались танцы,
шумел паркет, как жесть.
Играл я на гитаре —
дубасил по струне!
Дыхнула в ухо: «Парень,
сыграй наедине...»
Я в песню носом тыкался,
как в блюдце с молоком.
А ты, как недотыкомка,
стучала каблуком.
«Как звать меня?! Акакием».
Она в ответ: «Трепач!»
А я ей: «Прочь отскакивай —
как мяч, как мяч, как мяч!»
Стану я, как гриб морской, —
сморщенный и кисловатый.
Ты придешь ко мне с тоской
в платьице, подбитом ватой.
У тебя ли нелады
с грозным мужем – злым и ужным.
Чистым спиртом без воды
мы его помянем дружно.
Тяжела ты, как земля,
не снести тебя, родная.
Глянь в окошко: вот – поля,
вот причесочка лесная...
Там – асфальт, а тут уют:
канделябры, « Антидюринг».
А за стенкой – водку пьют,
пьют, как будто перед бурей!
Мало толку в пейзажах,
зеленеющих скромно,
а значение, скажем,
труб фабричных – огромно.
Мало важного в небе,
в экс-лирических тучках:
квинтэссенция в хлебе,
в парт и профнахлобучках.
...Я лежу на лужайке —
на асфальте, в берете.
Рядом – вкусные гайки
лижут умные дети.
Я лежу конструктивный,
я лежу мозговитый,
не банальный, спортивный,
с черной оспой привитой.
Конкретно я любил Любашу,
абстрактно я любил Анюту.
Я иногда любимых спрашивал:
а с кем я спать сегодня буду?
Любаша скидывала кофточку,
ложилась плотно, как в могилу.
Анюта сбрасывала крылышки...
Анюты не существовало.
Когда я Нюшу полюбил,
а полюбил ее не сразу,
я по утрам кагорец пил,
а не какую-то заразу.
Когда я Нюшу целовал —
и в рот, и в око, и в сопатку,
я тот кагорец наливал
в себя, как в рюмочку-лампадку.
Как хорошо, что я затих,
так удивительно, что бьется,
что бьется сердце на двоих,
как это где-то там поется.
НА МОСКОВСКОМ ВОЗДУХЕ
Оттолкнуло ветром от вагона!
Одолжи мне, Боже, пять минут...
Человек скорбящий – вне закона:
рьяные растопчут, в пыль вомнут!
Поезд отправляется. Соколики,
до свиданья! Можно подымить?
В ресторане мраморные столики
не хотят нетрезвого кормить.
В подворотне наведу румянец —
водочкой шарахну по щеке!
Поезд, как паршивый иностранец,
на чужом лопочет языке...
* * *
Человек уснул в метро,
перебрав одеколона.
От него – его нутро
развезло, определенно.
Ночью выключили свет,
затворили вход и выход.
Кутал спящего, как плед,
продувной тоннельный вихорь.
И всю ночь ему, лучась,
отпускное снилось лето
и какая-то запчасть
от невыигранной «Победы».
И всю ночь, как фараон,
он лежал в своей могиле.
А над ним не спал закон,
оставаясь в прежней силе.
Риду Грачеву
А я живу в своем гробу,
табачный дым летит в трубу,
окурки по полу снуют,
соседи – счастие куют.
Их наковальня так звонка,
победоносна и груба,
что грусть струится, как мука,
из трещин моего гроба.
Мой гроб оклеен изнутри
газетой «Правда», – о, нора.
Держу всеобщее пари,
что смерть наступит до утра,
до наковальни, до борьбы,
до излияния в клозет...
Ласкает каменные лбы
поветрие дневных газет.
Окутали тело могилой.
На память оставили крест.
И черные сучья-стропила
дубы распростерли окрест.
А где-то в тумане России,
по-прежнему страшно спеша,
в ботинках на толстой резине
его пропадает душа...
ПРОСЬБА
Памяти Аллы Рулевой
Когда я стану стар для песен
и для тебя... А это будет...
Когда виски покроет плесень,
а голос сделается нуден, —
тогда не нужно – в богадельню...
Свези меня, как в сказке, в лес.
То будет утро, будет ельник,
и что-то будет лить с небес.
В РЕСТОРАНЕ
Если можно, принесите сигарет!
Уберите эти крошки со стола.
А вот этот непочтительный брюнет, —
почему он нависает, как скала?
Вы решили, что я сник и одинок.
Вы сказали, что я гопник – не поэт.
Я разбавлю вам горчицею вино.
Если можно, принесите сигарет.
Я вас очень попрошу курить под стол.
А иначе... я вам что-нибудь спою.
Я сыграю вашей кепочкой в футбол.
Отойдите, я с утра не подаю.
На столе салат завял, как овдовел.
В лимонаде молча сдохли пузыри.
На эстраде человечек заревел,
словно что-то вырвал с корнем изнутри
Я встаю, слегка ощупав свой бюджет.
Уходи отсюда, Глебушка, дружок.
Если можно, принесите сигарет...
А брюнету мы запишем тот должок.
Это песня, птичка-песня
в горле мечется!
Над деревней бледный месяц
травкой лечится.
Это сосны, тянут сосны
шеи медные.
Надо мною воздух просто —
блажь рассветная.
Скоро утро вспыхнет мудро!
Сердцу некогда!
Спи, лахудра, – в сердце тундра.
Ехать некуда.
Ах, дорога, вниз полога, —
крах предчувствую...
Вот бы Бога, хоть немного,
хоть бы чуточку.
* * *
Божьих пташек непонятный лепет.
Клетка жизни. Семечки любви.
Нет, с небес, как овдовевший лебедь,
я не кинусь камнем – не зови...
До свиданья, старые калоши,
мне обидно, если вы – насквозь,
если вы, отяжелев под ношей,
иногда затопаете врозь.
Неизбежно звонкие долины
прорастут железною травой.
Пито всё, помимо гуталина:
от тоски и до воды живой.
Всё постыло, даже то, что мило.
До свиданья, рожицы страниц!
Не вино мне сердце истомило, —
лепет непонятный божьих птиц.
Лежу на дне коньячной речки.
То рыбы надо мной, то жабы.
То восхитительные речи
руководителей державы.
Я ощущаю толщу фальши,
хлебнув – утешного – истошно!
И посылаю всех подальше.
И засыпаю осторожно.
Е. Михнову-Войтенко
Мне пора на природу,
на деревья, на кочки,
на проточные воды,
дармовые цветочки!
Запрокинуться в травы
по-щенячьи, по-птичьи...
Нахлебался отравы,
подурнел я как личность.
Я залезу на елку,
пропою петушком
в молодецкой футболке,
с завитым гребешком!
От восторга потея,
вознесусь до небес...
Кто я, Господи? Где я?!
Неужели... воскрес?
На Колымском тракте – трактир.
Пьет проезжий преступный мир.
Пролетают с воплем машины,
тянут бешеный свой пунктир...
А в трактире преют плешины.
Вышла девушка на крыльцо —
кровью вымазано лицо.
В ОБЩЕЖИТИИ
Сосед приходит и садится на кровать,
и начинает сразу яростно зевать.
Четыре гаврика играют в домино.
«А за окном, – поют, – совсем уже темно!»
Два местных франта собираются на пляс.
Заочник Вася в математике погряз.
Приходит пьяненький, ложится на кровать
и начинает потихоньку завывать.
Один игрок сказал другому: «Эх ты, брат!»
Одели франты свой торжественный наряд.
Другой игрок сказал, подумав: «Эх ты, друг!»
И оторвал заочник голову от рук.
...В окне действительно становится темно.
Друзья все медленней играют в домино.
Приходит пьяненький, ныряет под кровать
и начинает тихо-мирно горевать.
БРИГАДА
Литого Сталина в шинели
пилили ночью, как бревно.
А утром, заспанные, ели,
не находили в жизни цели,
и... грохотало домино!
* * *
Какое страшное лицо!
Глаза ночные, без просвета,
а губы вылились свинцом...
Кому-то будет он отцом?
Чье тело будет им согрето?
Он молча пьет из кружки пиво.
И жмется очередь тоскливо.
В ПУТИ
Завихряются машины,
как железная струя.
Мы еще с тобою живы,
оболочечка моя!
Навались, душа, на посох.
Что там светит впереди?
В рай напрашиваться поздно.
В райсобес – не по пути.
Значит – в ад, точнее – в зелье,
в круг дрянных, зато – родных!
А отсюда и веселье,
что шокирует иных!
Отпусти меня, боль, отпусти.
Есть у пьяниц пароль: не грусти!
Не грусти, моя свет-красота,
ты всегда настоящая, та.
Ты прости мне проделки мои.
Отпусти меня жить в соловьи.
Буду тихо любить, как светить.
Подзаборной кончине – не быть.
Отпусти меня в обморок вьюг,
в сердце друга, как будто – на юг...
Отпустила вселенская боль:
окунулась душа в алкоголь.
«От Москвы
до самой до Камчатки.
Пьет страна. Как туча – брашно!
Вечер. Всполохи беды.
Соловей поет так страшно.
Жутко так цветут цветы...
Сыплет в душу озорную
алкоголем, как дождем.
Продавец очередную
не отпустит – пропадем.
Жаждет душенька отравы,
а чего желает друг?
Из вулкана – стопку лавы?
Или – славы пышный пук?
На Камчатке все в порядке.
Рыба. Дождь. Дворец Пропойц.
Сам с собой играет в прятки
у ларька какой-то «поц».
Я пишу стихи рукою.
Посыпаю их мозгою.
Соловей молчит... А друг
зажевал цветком недуг.
Что такое – деревня?
Да еще – в Октябре?
Это зависть и ревность,
серый дождь на дворе,
это осень и плесень,
по колено в грязи...
Это пьяные песни
по усопшей Руси.
Что такое селенье,
где привыкли молчать?
Это скука и Ленин
на стене, как печать!
Сгнили русские баре,
где ты, белая кость?
Только русские бабы,
только грустный погост.
Нет ни Бога, ни псарни,
лишь старухи да пни.
Где вы, русские парни?!
В Ленинграде они.
За кабацкою дверью
позабыли давно,
кто такая – Лукерья,
что такое – гумно.
Пятилетний Глеб Горбовский (1935 г.) со своей мамой —
Галиной Ивановной (Сухановой). Ее мать, бабушка поэта, Агния
Андреевна Даиыцикова-Сухаиова (1884—1925 гг.) была
основоположником детской литературы Коми, автором учебников
для школ. Мать поэта всю жизнь проработала учительницей.
С сыном ее разлучила война.
Фото из архива Г. Горбовского.
МУЖИК НАД ВОЛГОЙ
Мужик в разорванной рубахе —
без Бога, в бражной маете...
Ни о марксизме, ни о Бахе,
ни об античной красоте —
не знал, не знает и... не хочет!
Он просто вышел на бугор.
Он просто вынес злые очи
на расхлестнувшийся простор...
И вот – стоит. А Волга тонет
в зеленогривых берегах...
(А может, знал бы о Ньютоне,
ходил бы в модных башмаках.)
Два кулака, как два кресала,
и, словно факел, голова...
Еще Россия не сказала
свои последние слова!
Переулки Перми – деревяшки,
как старушки глухие – дома...
Я кого-то ищу по бумажке,
а найти – не хватает ума.
На столбе беспризорный фонарик
огоньком папиросным в ночи.
Кто-то молча на сонной гитаре
запоздалую песню бренчит.
Впереди замаячили купно
этажи – ослепительный свет!
...Но кого я ищу неотступно,
все равно в этом городе нет.
ПИСЬМО ИЗ ЭКСПЕДИЦИИ
Нынче ночь сырая... Ночь, как яма.
Напишите мне письмишко, мама.
Не ходите, мама, нынче в гости —
напишите, в синий ящик бросьте.
Если адрес мой попал в корзину,
напишите просто: «Север, сыну».
Отчим сам пускай готовит ужин.
Напишите, мне ваш почерк нужен,
запах ваш от присланной бумаги.
...Первым снегом заметает лагерь,
наши две притихшие палатки...
Напишите, не играйте в прятки.
Сын у вас – бродяга, невидимка...
Но и вы – как призрачная дымка.
Напишите, разгоните тучи.
Нам обоим сразу станет лучше.
Хочу увидеть короля.
Живого. В праздничном мундире.
Ведь где-то есть еще земля,
пускай – единственная в мире,
где стража стынет у крыльца,
где королевская охота,