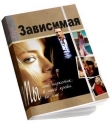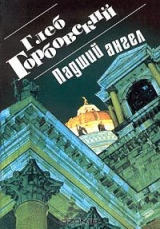
Текст книги "Падший ангел "
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
чаще всего безмолвно взывала, – все это не позво-
лило даже думать «в другую сторону», даже мыс-
ленно отвернуться от пережитого.
Иное дело – самиздат. Он произрастал как бы
сам по себе. Не требовалось особых усилий (в том
числе насилий над собой) для его функционирова-
ния. Стихи, которые не шли в печать – а поначалу
таких было абсолютное большинство, – разлета-
лись, как светящийся пепел от костра на ветру. Эти
несеяные стихи как бы сами собой прорастали в жи-
лищах горожан, имевших отношение к поэтическо-
му слову.
Недаром в середине пятидесятых кое-что из моих
стихов, а также поэма «Мертвая деревня» фигури-
ровали на судебном процессе, когда за «антисовет-
скую деятельность» и за связь с иностранцами суди-
ли ленинградского писателя Кирилла Косцинского
(псевдоним Кирилла Владимировича Успенского),
бывшего фронтовика, полковника Советской Ар-
мии, спасшего в войну от смертельных «неприятнос-
тей» недавнего австрийского канцлера Бруно Край-
ского. Косцинский написал интересную книгу «Труд
войны», изданную в издательстве «Советский писа-
тель». Был он осужден на пять лет мордовских лаге-
рей за то, что сопровождал по городу Ленинграду
приехавшего из Штатов тогда еще молодого и не
столь известного музыканта, дирижера и композито-
ра, руководителя симфонического оркестра Леонарда
Бернстайна. Кирилл Владимирович был рекомендо-
ван американцу в негласные гиды, так как владел в
совершенстве английским – привилегия бывшего
фронтового разведчика, – и жестоко поплатился за
проявленное гостеприимство.
Как же попали мои стихи в «дело» Косцинского?
У меня рукописей не изымали. Обошлись тогда без
ареста и обыска. Просто некоторые вирши ходили
по рукам. Привилегия самиздата. Дома у Кирилла
Косцинского с удовольствием собирались поэты, осо-
бенно неприкаянные, неиздававшиеся и главным об-
разом молодые. С удовольствием еще и потому, что
там... кормили. И поили. Блаженствуя и несколько
распоясываясь, сочетали фамилию хозяина с главным
собором Петербурга: «Косцинский-Исаакий» —
шутка поэта Михаила Еремина, предполагавшая
некий писуарный смысл, как бы внутреннюю рифму
в нелепом словосочетании. И вообще в этом очаро-
вательном доме, заставленном книгами, со стенами,
завешанными современной живописью, в этой ста-
ринной бескрайней коммуналке с двумя входами у
Косцинского можно было встретить кого угодно,
даже молодого писателя Валентина Пикуля с огром-
ным романом «Океанский патруль» под мышкой, но
чаще всего встретить там можно было радость обще-
ния, вкусную выпивку, ласкающие самолюбие оцен-
ки твоих поэтических опытов.
Вот ведь, не причисляя Косцинского к своим ли-
тературным наставникам, все ж таки не мог обой-
тись без воспоминаний об этом странном, ни на кого,
естественно, не похожем человеке, вечно куда-то то-
ропившемся, подвижном, с лицом рельефным до
крайности: большой нос, впадины глаз, худоба лица
такая, будто все лишнее из него выбрано стамеской.
Работал он в мордовском лагере прозектором, а кон-
чил жизнь от пятого инфаркта, на чужбине, при ав-
стрийской пенсии, назначенной ему за оказание по-
мощи гражданам этой страны во время великой
битвы народов.
А к Глебу Семенову впервые пришел я не на чай-
кофий и даже не на литературные посиделки, но —
как к лицу официальному, работавшему кем-то в
молодежной газете «Смена», куда я принес в чемо-
дане стихи, «предназначенные для печати». Лит-
консультант газеты Бальдыш, порывшись в чемода-
не, посоветовал мне учиться у классиков, почему-то
именно у Пушкина с Маяковским, из-за которых,
как я уже знал, в тридцать восьмом пострадал мой
отец. Но... классики классиками, а писатель Бальдыш,
не пустивший меня с ходу в печать (за что я ему по-
смертно благодарен), познакомил мэтра Глеба Семе-
нова с двумя-тремя моими стишками, что и решило
мою дальнейшую писчепечатную судьбу.
Моя неотесанность в изящной словесности была
безмерна. Приобщить меня к своему поэтическому
кружку Глеб Сергеевич не пожелал, но все же не от-
пихнул напрочь, пожалел, присоветовав обратиться
в Дом культуры профтехобразования, к ремеслен-
никам, где кружком «Голос юности» руководил не
менее своеобразный человек – Давид Яковлевич Дар.
Это в какой-то мере неформальное общественное
«образование», объединявшее юных и не столь юных
поэтов и прозаиков, в основном выходцев из рабо-
чей среды, а также студентов техникумов и учащих-
ся ПТУ (тогда – РУ), существует в Ленинграде до
сих пор, то есть почти сорок лет, и является настоя-
щим долгожителем среди подобных кружков.
Руководил «Голосом юности» человек маленько-
го роста, напоминавший сказочного тролля или кар-
лика, а по теперешним книжным и мультяшным ку-
мирам – и Карлсона, который, правда, жил не где-
то на крыше, а в шикарной многокомнатной
квартире на Марсовом поле. Хозяйкой квартиры
была писательница Вера Федоровна Панова, тог-
дашняя жена Дара (правильнее сказать: Дар – тог-
дашний муж Веры Пановой). До сих пор не знаю,
что в этом человеке было ярче – внешность или ин-
теллектуальное наполнение? Пожалуй, и то, и дру-
гое выглядело для многих неожиданным (для мно-
гих, впервые соприкасавшихся с умом и манерами
Дара). То есть неожпданен был он при ближайшем
рассмотрении, а где-нибудь в толпе, в уличной
стремнине, вообще на «подмостках бытия» разгля-
деть его миниатюрную фигурку не всегда удавалось,
особенно случайному, неподготовленному зрителю.
Зато уж кто пригляделся к нему – тот понял: в кар-
лике сем и форма, и содержание недюжинны.
Нос картошкой, губчатый, да и все лицо как бы
из вулканической пемзы. Длинные волосы, огром-
ный рот, во рту – гигантская трубка, увесистая и
постоянно чадящая ароматным трубочным табаком.
Дыхание хриплое, астматическое. Движения поры-
вистые, как бы сопротивляющиеся болезни сердца и
легких. Речь рассыпчата, невнятна, как бы с при-
родным акцентом, не с акцентом иностранца, а с от-
тенками пришельца откуда-нибудь с гор, пустыни,
словом – из мира одиночества.
Таким вот распевным двустишием, помнится, на-
чиналась поэма о Пушкинской улице, славившейся
до революции своими привокзальными притонами,
всевозможными хазами и красными фонариками
борделей – сказывалось соседство со знаменитой
Лиговкой, «улицей дна», о мазуриках да и вообще о
веселых жителях которой ходили и по сию пору
ходят легенды.
Пушкинская коммуналка, где я выменял девяти-
метровку, хоть и насчитывала шесть или семь само-
стоятельных семейств, безобразной не выглядела;
всего жильцов или съемщиков существовало в ней не
более десятка, семьи были компактными, в два-три
человека, а в некоторых комнатах – по одному.
Впечатление было такое, что все друг другу доводи-
лись родственниками. Обедали, а также играли в
шашки и шахматы – на кухне. За общим столом.
Там же – выпивали. Мужчины и женщины. С оди-
наковой неизбежностью. Самой заметной личностью
в квартире смотрелся благообразный, еще румяный
и сдобный старичок «замедленного действия», пере-
двигавшийся по квартире осторожно и молча в по-
стоянном кухарочном переднике, так как до послед-
них своих дней стряпал на кухне шикарные обеды
чуть ли не на весь коммунальный клан. Позже от
этих обедов время от времени перепадало и мне.
И даже моим гостям. Савельич был неподражаем.
О нем ходили легенды. В прошлом – высочайшего
класса и ранга шеф-повар, руководивший готовкой в
лучших ресторанах Петрограда – Ленинграда, ове-
янный пожухлой славой чуть ли не бывшего царско-
го кухмистера. К восьмидесяти годам сохранил он
мужественной свою плоть, взлелеянную отборными
харчами и приправами, но утратил дух. А может,
его, духа-то, в нем и не было никогда. В достаточном
количестве. Старичок имел в квартире жену, тощую
даму лет сорока. И я отчетливо различал их семей-
ную идиллию, так как перегородка меж мной и кух-
мистером была возведена при советской власти.
Там же, в пушкинской коммуналке, проживали
бывший спортсмен, чемпион Европы времен нэпа
(вид спорта не упоминался за давностью состяза-
ний) , бывший моряк, не снимавший тельняшку даже в
бане, а также бывший милиционер из псковских
крестьянских детей, к тому времени спившийся и
уволенный из органов. Однажды за игрой в шахма-
тишки, глядя в уставшие глаза экс-милиционера, со-
чинил я нехитрую песенку о пропащем постовом, ко-
торую спустя тридцать лет услыхал, сидя в такси,
звучащую с магнитофонной ленты шофера.
У помещенья «Пиво – воды»
стоял непьяный постовой.
Он вышел родом из народа,
как говорится, парень свой.
К проживанию в очередной коммуналке был я
хорошо подготовлен. Житейским опытом. Помимо
многолюдных бараков, серых и сырых землянок,
зловонных камер, пятидесятиместных воинских па-
латок, десятиместных больничных палат и экспеди-
ционных будок-балков – классическая коммуналка
на Малой Подьяческой, затем такая же на 12-й ли-
нии, далее – на 9-й и вот еще одна, похоже, послед-
няя – на Пушкинской (не считая конечной комму-
налки на одном из кладбищ России).
О том, что коммуналку познал я в достаточной
степени и мере, что она отложила на моем «унутрен-
нем мире» свой несмываемый отпечаток, а правиль-
нее сказать – свое тавро или клеймо, говорит тот
факт, что этому социальному явлению посвятил я
немало стихов и даже поэм, одна из которых, «Квар-
тира № б, была в конце пятидесятых годов весьма
популярна среди литературной молодежи и даже хо-
дила в списках. Печатать подобные стихи было
трудно, и они, за малым исключением, пролежали
до нынешней благословенной поры мертвым грузом.
Существовала договоренность: постоянные посе-
тители моей девятиметровой, чтобы не будоражить
воображение жильцов, в дверной звонок не звонили, а
бросали в мое окно спичечный коробок, или медную
монетку, или еще что-нибудь по мелочи, благо окно
располагалось на доступной, бельэтажной высоте.
Причем преимуществом посещения обладали те из
пришельцев, кто, посигналив коробком, предъявлял
в смотровую щель окна дополнительный пропуск, а
именно – торчащую из кармана металлическую
«белую головку» бутылочной пробки. В квартире,
помимо меня, проживало множество пьющих муж-
чин и женщин, способных угадывать по глазам и
другим признакам – с чем пришел посетитель, и
тогда в самый неподходящий, ответственный момент
разлития драгоценных капель в дверную щель
могла протиснуться посторонняя, дрожащая от ал-
когольной усталости рука с граненым стаканом
уличного происхождения. И нужно было скрепя серд-
це, с кровью отцеживать в этот стакан пару капель,
потому как соседи – живые люди и на их улице бы-
вает праздник и тогда они тоже не скупятся на жерт-
воприношения. «Торчит сосед, торчит бутылка вод-
ки...» – это из рубцовского стихотворения «В гостях»,
которое он написал, побывав у меня в «салоне».
Там, на Пушкинской в девятиметровой, как в за-
ле ожидания, нередко останавливались приезжие
люди из Москвы, Дальнего Востока, Молдавии, не-
черноземного Севера и прочих мест «необъятной ро-
дины». Иногда по престольным праздникам, а
также в дни чьих-либо рождений в мою девятимет-
ровую набивалось до сорока «стоячих» гостей. Но
чаще всего возникал посетитель-одиночка, посети-
тель-уникум со своими стихами, картинками, молит-
вами и проектами. Возникая, долго не задерживал-
ся, уступая место другим надеждам, другим прожек-
там, иллюзиям.
Мог объявиться веселый человек по имени Темп,
по фамилии Смирнов. Темпу ля, как все мы его зва-
ли. Желтозубый куряка-красавец с Невского про-
спекта, «стиляга» и завсегдатай ресторанов, застен-
чивый сочинитель юмористических рассказов, о ко-
торых ходили слухи, но которых никто из нас не
читал, сезонный работник изыскательских экспеди-
ций с греко-римским профилем, несколько припух-
шим после «вчерашнего», там, у себя на Невском, не
скупящийся на залихватские жесты и слова и женст-
венно сникающий при слушании посторонних его
разуму стихов, погибший на Кольском полуострове
при аварии экспедиционного вертолета, когда будто
бы пытались подняться в воздух, чтобы сдать деся-
ток ящиков бутылочной стеклотары в ближайшем
приемном пункте, а вертолет, едва оторвавшись от
земли, рухнул и загорелся (или грозил загореться),
и все успели выскочить, кроме замешкавшейся соба-
ки, любимой всеми лаечки, и Темпуля вернулся в
дымящуюся машину, и, когда открыл дверь и во-
шел, – грохнул взрывом топливный бак. Орденов
за такие подвиги не дают. А жизнь – отбирают.
Мог наведаться величественно-простодушный,
гнусаво-басовитый поэт Евгений Рейн, трезвый п, в
отличие от Темпули, насквозь пропитанный текста-
ми изысканной, труднодоступной (жильцам комму-
налок) поэзии Запада и российского декаданса, сам
слывший к тому времени одаренным стихотворцем,
обладавший бурлящим произношением слов, этаким
медвежьи-косолапым косноязычием; устоявший в
пустыне тридцати летнего непечатания, поддержи-
ваемый проницательным Евгением Евтушенко и, на-
конец, издавший книгу своих заиндевелых стихов,
как будто внезапно вспомнивший по прошествии
этих неумолимых глухих десятилетий некий па-
роль, по которому «пущают» в область литературно-
го признания и процветания.
Швырял свою вопрошающую песчинку в мое
окно (за неимением спичек, а значит, и монетки)
вечный скиталец городских чердаков и подвалов,
исторический драматург Гера Григорьев, ни одна из
пьес которого так и не увидела театральных под-
мостков, не говоря о журнальио-книжных страни-
цах. Гера, окрещенный этим престижным именем
кем-то из сомучеников на Невском проспекте, а на
самом-то деле не Гера, а всего лишь Георгий, умуд-
рившийся тридцать лет (из пятидесяти) прожить в
Ленинграде без прописки, так как ие просто любил
или обожал этот город, но и буквально не мог без
него жить, трижды за эту свою сентиментально-ли-
рическую провинность судимый, прошедший лагеря
и тюрьмы, но вот чудо – ни разу не укравший, не
обманувший – сохранивший себя неразбавленным,
цельным, не опошлившимся на нарах, где, за неиме-
нием воздушного (читай духовного) пространства,
сочинял не объемные драмы и трагедии, но всего
лишь складывал в голове стихи, которые, если их
издать, имели бы куда более отчетливый успех, не-
жели успех доброй половины писательской органи-
зации великого города. Города, без которого Гера не
мыслил жизни. Гера, имевший внешность стопро-
центного цыгана, черно-курчавую шевелюру, карие
искрящиеся подспудным, труднообъяснимым весе-
льем глаза, упрятанные в кипящий прищур жизне-
радостных морщинок, бесшабашный нос и широчай-
ший, некогда белозубый рот губошлепа-добряка.
И прозрачная, а значит, безвредная плутоватость во
всем облике, нажитая в гонениях и увертываниях,
но абсолютно чуждая его натуре. На днях он опять
освободился, отбыв очередной срок, как бы съездив
в неизбежную командировку. Позвонил, похвастал
свежим паспортом. Договорились встретиться. Я
долго размышлял перед нашей встречей, что бы мне
такое сказать ему – утешительное и одновременно
разумное, действенное (письма в милицию, хожде-
ние к следователю, прошение в Прокуратуру РСФСР
и прочие «инстанции» не помогли), а когда встретил
его на комаровской платформе – ничего не сказал,
только беспомощно ткнулся в его лохматую, излу-
чающую немеркнущее мужество физиономию и
замер на миг, словно машина, избежавшая на до-
ждливом осеннем шоссе столкновения с беззащит-
ным зверем.
Мог оповестить о себе монеткой, и необязательно
медной, некто одетый во все заграничное, экстрава-
гантное, в руке подразумевающийся стек или пред-
полагаемая трость – всегда тощий, всегда изящный,
всегда юноша – Виктор Соснора. Не теряя королев-
ской осанки и врожденной гусарской выправки, он
пройдет через кухню среди играющих в шашки или
разливающих ароматную фирменную селянку, за-
мастыренную Савельичем, пройдет, словно сторон-
ний наблюдатель, словно бессмертный Вергилий в
Дантовом аду, просквозит, бросив его обитателям
что-нибудь отвлеченно-безобидное, вроде: «Будто
будет будка Будде, – Будде будет храм на храме, а
тебя забудут люди со стихами и вихрами». И никто
не оскорбится его выправкой и его фразой, потому
что сигналы сии органичны их испускателю, прису-
щи орлиному носу поэта – как бы пришельца из
других, более симпатичных, античных времен, со-
вершенно случайно заглянувшего на коммунальный
огонек, а на самом-то деле – работавшего на одном
из ленинградских заводов слесарем и одновременно
изобретавшего восхитительные рифмы и ритмы, на-
поминающие разговор инопланетян, оставшихся на
земле по доброй воле, то есть – возлюбивших зем-
ные красоты и обычаи.
На пару с юным художником, будущим поэтом
О лежкой Григорьевым, как Гомер с поводырем, мог
пожаловать художник, будущий прозаик Виктор Го-
лявкин, автор знаменитого лозунга «Привет вам,
птицы!», писавший в то время языком нарочитого
примитива короткие рассказики, не чуждые невин-
ного эпатажа и дурашливого парадокса, которые
именовал птичьим словом «скирли», и в то время
окончательно еще не решивший, быть ему живопис-
цем (заканчивал Академию художеств) или пере-
квалифицироваться в писатели, причем не в «заме-
чательные детские», что с ним в итоге и произошло,
а в писатели бальзаковского масштаба, так как всем
и каждому на полном серьезе заявлял тогда, что
пишет свою «Человеческую комедию» двадцатого
века, что написано-де уже больше половины и что
получается намного интереснее, нежели у француза-
классика. До того как была задумана «Человеческая
комедия», Виктор Голявкин не менее серьезно зани-
мался боксом, был чемпионом города Баку, имел
мощную шею, массивный корпус и «отбивное», без
признаков художественной утонченности лицо, что
не мешало ему ненавязчиво, хотя и постоянно, в ра-
зумной мере интеллигентно острить; тем самым со-
здавалось впечатление, что разум этого человека по-
мещен создателем в некий иронический рассол и,
плавая в нем, насквозь пропитался изящным сарказ-
мом. Люди, подобные Голявкину и Олегу Григорье-
ву, долгое время как бы не жили, а – шутили. Год
шутили, два, десять... И вдруг – не смешно. И тог-
да Голявкин написал чудесную повесть, умную и теп-
лую, серьезную и ласковую – «Мой добрый папа».
А неизрасходованные запасы юмора плюс боксер-
ская закалка помогали и помогают ему выстоять в
приливные часы отчаяния. Однажды, когда от преж-
него веселья, похоже, ничего уже не осталось, Го-
лявкин, сам того не предполагая, весьма позабавил
поклонников своего таланта, да и не только их. В
журнале «Аврора», в самый разгар «дремотно-во-
г» оосо
ровской» эпохи, в дни, когда отмечалось семидеся-
типятилетие Брежнева, напечатали рассказ Виктора
Голявкина «Юбилейная речь» – из прежних голяв-
кинских весьма «насмешливых» запасов. Внешне,
то есть в отрыве от государственного юбилея, рас-
сказ сам по себе совершенно невинный. Типичная
придурковатая невнятица «примитивного» Голявки-
на, где речь идет о каком-то псевдописателе, про-
дукте эпохи. Рассказ как рассказ. И вдруг – снима-
ют с должности главного редактора журнала Глеба
Горышина, вдруг – шум, шорох, шепот и гомери-
ческий смех в окололитературной среде, а в «высо-
ких сферах» – форменный переполох. И смотрите,
дескать, как все хитроумно сработано: семьдесят
пять лет главному юбиляру, чей портрет на обороте
обложки, а сам рассказ – на семьдесят пятой стра-
нице и называется «Юбилейная речь», тогда как
всем известно, что главный юбиляр выпустил оче-
редную книгу, получил за нее Ленинскую премию и
вступил в Союз писателей... Заглянем в рассказ: что
в нем? А в нем, ясное дело, юмор. Хоть и не злая,
но – ирония и застарелый лирический сарказм. На
птичьем языке скирли. То есть все то, что делало го-
лявкинскую прозу неповторимо забавной.
«Трудно представить себе, что этот чудесный пи-
сатель жив. Не верится, что он ходит по улицам
вместе с нами. Кажется, будто он умер. Ведь он на-
писал столько книг. Любой человек, написав столь-
ко книг, давно бы лежал в могиле... Ведь Бальзак,
Достоевский, Толстой давно на том свете, как и дру-
гие великие классики. Его место там, рядом с
ними... Ему поставят огромный памятник... Могилу
его обнесут решеткой...
Позавчера я услышал, что он скончался...
– Наконец-то, – воскликнул я, – он займет
свое место в литературе.
Радость была преждевременна. Но я думаю, дол-
го нам не придется ждать...»
Там же, на 75-й странице, рисунок: могила с кре-
стом... Могильная ограда, за которой торчит черное
голое дерево с гнездом на вершине. А в гнезде —
Пегас...
Безо всякой натуги мог бы я теперь составить от-
дельную книгу из одних только кратких описаний
многочисленных визитов, нанесенных мне замечатель-
ными людьми в момент (длиною в пять лет), когда
проживал я на Пушкинской улице в девятиметровом
«зале ожидания». Если кто-то из читателей решит,
что бросание спичечного коробка в окно – всего
лишь литературный прием, скажу: ничего подобно-
го. Значит, неубедительно рассказываю, только и
всего. Десятки, многие десятки людей-друзей забре-
дали тогда ко мне на огонек. Не то что теперь, когда
поколение мое, так сказать, остепенилось. Некото-
рые дарили себя однажды. Какая-то группа гос-
тей – постоянно. Не все бросали именно коробок
или монетку. Взлетали к небу и другие предметы,
оказавшиеся под рукой, например, кепки, пробки,
огрызки яблок. Иные из прихожан предпочитали
подавать голос, крича в колодце двора: «Гле-еб!»
И мощное эхо уносило этот прозаический блеющий
звук в блистающие или моросящие дождем выси не-
бесные. Не правда ли, красиво? И – щедро. Такое
не забывается.
Самым популярным двустишием в «зале ожида-
ния» на Пушкинской, в его девятиметровом «дупле»
(так была прозвана комната гостями), звучавшим как
пароль, как девиз, как поговорка, служили нам строч-
ки турецкого поэта Назыма Хикмета: «Если они не
дают нам петь, значит – боятся нас!» Чуть реже по-
вторялись две строчки Веры Инбер: «Мы, конечно,
умрем, но это – потом, как-нибудь, в выходной
день». Повторялись, несмотря на то, что пожилая
поэтесса перед этим «зарубила» первую стихотвор-
ную рукопись хозяина «дупла», начертав на ее стра-
ницах многочисленные фразы вроде: «Это филосо-
фия 1912 года!» Склонялась и всем известная эпи-
грамма на поэтессу: «Ах, у Инбер...» и т. д. Почти
каждый божий день восторженно декламировались
блоковские «Поэты» («За городом вырос пустын-
ный квартал...»), цветаевский «Письменный стол»
(«Вас положат на обеденный, а меня – на письмен-
ный...»), что-нибудь из лирики Маяковского («А
если не буду понят страной...» или «Вот и жизнь
пройдет, как прошли Азорские острова...»), гуми-
левский «Заблудившийся трамвай» («Остановите,
вагоновожатый, остановите скорее вагон!»), что-ни-
будь пастернаковское («Какое, милые, у нас тыся-
челетье на дворе?»), тютчевское («Молчи, скрывай-
ся и таи...»), обэриутовское («Голубая рыбка, жаре-
ный карась, где твоя улыбка, что была вчерась?»),
слегка отредактированное есенинское («Что ты смот-
ришь так синими брызгами, али в морду хошь? В
огород бы тебя на чучело, пугать ворон!»), даже —
из Безыменского («Жила бы Совреспублика, а мы-
то проживем!»). И уж всенепременно, с затаенной
бравадой – из Хлебникова, из «поэта для поэтов»,
но – понятное, вроде: «Эй, молодчики-купчики, ве-
терок в голове! В пугачевском тулупчике я иду по
Москве!» Из уст в уста ходили модные словечки.
Одним из самых популярных, а потому и застряв-
ших в памяти оказалось тогда иностранное словечко
из разряда научных – «сублимировать». И чаще
всех в паре с глаголом «функционировать» нажимал
на это словечко Миша Кулаков. Он и вел себя соот-
ветственно, демонстрируя непредсказуемые превра-
щения из одного состояния, скажем, благодушия,
прямиком в другое – в остервенение, минуя про-
межуточную сосредоточенность. Модным было
тогда и словечко «супрематизм», изобретенное ху-
дожником Казимиром Малевичем на заре века, ко-
торое мы вворачивали в разговорную речь для дока-
зательства «лихости» интеллекта.
В «дупле» до поры до времени, покуда ей не
переломили позвоночник, имелась семиструнная ги-
тара. Под нее пели «авторские» шлягеры того вре-
мени: «Стою себе на месте, держусь я за карман, и
тут ко мне подходит...», или Окуджавины «Шарик
улетел», «Она по проволоке ходила...», или бело-
гвардейски-дальневосточную «Лягут синие рельсы
от Москвы до Шанси», магаданскую «Будь прокля-
та ты, Колыма...», «Когда качаются фонарики ноч-
ные...», и вдруг, благоговейно, как становясь на мо-
литву, где-то даже картинно: «Выхожу один я на
дорогу...».
Годы, проведенные на Пушкинской улице, всплы-
вают в памяти как самые многолюдные, разноголо-
сые, восторженно-обреченные, великодушные, от-
кровенные, суматошные и одновременно успешные,
потому что тогда писались стихи, нужные людям,
отвечавшие настроению эпохи; в залах, где мы чита-
ли эти стихи, нам не просто аплодировали, за нас
держались, как за идущих впереди.
Обстоятельства сложились таким образом, что
институтского образования я не получил, в студен-
тах никогда не значился, «моими университетами»
было общение с людьми, и одним из своеобразней-
ших факультетов считаю житие на Пушкинской.
Случалось, что и там писались светлые и даже вос-
торженные стихи, видимо, потому, что и туда время
от времени на огонек забредала Ее Величество Лю-
бовь, но, как правило, стихи Пушкинской улицы не
отличались умильным благодушием, да и откуда ему
было взяться? Вот характерные ритмы той поры.
А я живу в своем гробу.
Табачный дым летит в трубу.
Окурки по полу снуют.
Соседи счастие куют!
Их наковальня так звонка,
победоносна и груба,
что грусть струится, как мука,
из трещин моего гроба.
Мой гроб оклеен изнутри
газетой «Правда»... О, нора!
Держу всеобщее пари,
что смерть наступит до утра,
до наковальни, до борьбы,
до излияния в клозет...
Ласкает каменные лбы
поветрие дневных газет.
Хотелось бы назвать поименно всех, кто вместе'
со мной кормил свое сердце надеждой на лучшие
дни и годы, кто рядом со мной не просто унывал, то-
мился безвременьем и, казалось, безысходной печа-
лью духа, но, прорастая сквозь эти обманувшие
наши надежды шестидесятые, продолжал не только
мыслить в своем направлении, но и любить, про-
щать, верить – в направлении бездонных небесных
высот, всех скорбей и радостей, всех предстоящих
свиданий с премудростями Бытия. Но... «иных уж
нет, а те далече», да и память, как решето, многое
порастрясла. Однако лица вспыхивают, обознача-
ются все контрастней, отчетливей, и хочется поско-
рее зафиксировать изображение, чтобы оно не по-
тускнело, не потерялось, вызванное как бы из небы-
тия, не распрощалось с тобой, и кто знает, может, на
этот раз навсегда.
Вижу кричащее болью одиночества, преждевре-
менно изможденное ребячье лицо прозаика Рида
Грачева (Вите), эрудита и умницы, бредившего со-
чинениями француза Экзюпери, переводившего и
комментировавшего прозу этого поэта-летчика, Рида
Грачева, успевшего издать тонюсенькую (три чет-
верти из представленного им в редакцию было изъя-
то «блюстителями духа») книжечку выстраданных
рассказов и в дальнейшем якобы заболевшего ду-
шевно, а точнее – не перенесшего надругательства
над разумом, Рида Грачева, которому было посвя-
щено вышеприведенное стихотворение «А я живу в
своем гробу...» не потому только, что он, как и я,
жил тогда в крошечной комнатенке, торча занозой
или бельмом в глазу у всех нормальных, твердых
душой обитателей коммуналки, но еще и потому, что
он, Рид Грачев, попав под молох «религии рациона-
лизма» и корчась на общественной наковальне, был
безжалостно расплющен: слишком хрупкой оказа-
лась конструкция сего насмешливого в фантазиях
мечтателя, над которым насмеялась действитель-
ность, объявив душевномятущегося – душевноболь-
ным. Последняя встреча с этим человком была у
меня... в сумасшедшем доме, куда я попал с белой
горячкой. Как сейчас помню: по коридору бывшей
женской тюрьмы идет мне навстречу Рид Грачев и,
несмотря ни на что, улыбается. Не мне – всему миру.
Дима Бобышев, Костя Кузьминский, Вова Ма-
рамзин, Игорь Ефимов, Леша Хвостенко... Обозна-
чил ряд имен и спохватился: где эти люди? Неужто
умерли все? Почему не вижу их столькие годы? Ни
в городе, ни в деревне. Так ведь они все уехали, уле-
тели. Будто птицы по осени. Только не на юг. На
запад. Веселые были ребята. Вот и не захотели стать
грустными, лететь вниз головой – в глубь земли,
как Саша Морев – в ствол шахты. Не пожелали.
Да и не каждому даны такие способности – лететь
вглубь...
А вот, скажем, Боря Тайгин – не улетел. Ни
вглубь, ни вкось. Уцелел. Сдюжил. Смирил гордыню.
Остался жить у себя на Васильевском острове. Не-
вдалеке от Смоленского кладбища. Удивительно
стойкий, хоть и не оловянный солдатик, этот Боря
Тайгин, принявший отпущенные судьбой муки и ра-
дости с улыбкой ребенка, а не с ухмылкой закален-
ного в коммунальных битвах страстотерпца. Известно,
что зло в человеке – это болезнь, тогда как добро —
норма. Зло в себе необходимо лечить каждодневно,
ежесекундно. Но есть люди, к которым эта хворь
как бы не пристает. У них – иммунитет. Мне дума-
ется, что Боря Тайгин из этого ряда неподвержен-
ных. В старину их именовали блаженными. В наше
время тем же словом их не именуют, а обзывают.
Такие люди уникальны. Но – не единичны. Скажем,
в Москве – Юра Паркаев... Но о нем – в «мос-
квоской» книге. А сейчас о василеостровце Тайгине.
Вот уж кто всегда любил поэтическое слово, и не
только любил, но и любит, но и служит ему беско-
рыстно по сию пору, поклоняется и преклоняется, и
хоть сам пишет стихи – никто или почти никто про
это не знает. Пишет, как молится, по ночам. Во време-
на, когда молиться днем было небезопасно. И стихи
у Бори Тайгина есть красивые. Но все они – пота-
енные. Как невидимые миру слезы.
А ради стихов своих товарищей Боря Тайгин,
можно сказать, шел на костер, то есть – на извест-
ный риск быть взятым под стражу. Вообще-то Бори-
на подлинная фамилия – Павлинов, но ради поэти-
ческого слова не пожалел он, как говорится, своего
имени и после лагерной отбывки в глухих сибир-
ских лесах принял фамилию Тайгин, как бы совер-
шил поэтический постриг. А посадили его за то, что
делал самодельные граммофонные пластинки, было
такое выражение после войны – «музыка на реб-
рах», то есть на пленке рентгеновских снимков.
И еще за то, что... издавал стихи своих друзей тира-
жом в пять экземпляров – ровно столько, сколько
брала за «один присест» его старенькая, дореволю-
ционная пишмашинка «Ремингтон».
Отбыв четыре года в лагерях, Боря не сделался
хулиганом или вором, крикливым блатняжкой, он
как был поэтом, так им и остался. Еще до принятия
окончательной фамилии-сана Тайгин, то есть до от-
сидки, писал он стихи под псевдонимом Всево-
лод Бульварный, с непременным добавлением к
«сану» – «лирик-утопист». Должно быть, из про-