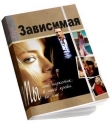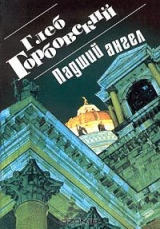
Текст книги "Падший ангел "
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
на храм за поворотом,
на избы в три окна,
припудренные мраком,
на пыль от табуна,
что пахнет аммиаком,
на русло от реки,
на шрам – от ощущенья,
на взмах твоей руки,
дарующий прощенья.
УРОД
Опять иду по февралю
меж снежных завитушек.
...Порожних зданий не люблю
ни храмов, ни избушек.
С трудом привыкший к бытию,
не к тапочкам – к эпохе,
передвигаюсь в даль свою
и вдруг... замру на вздохе.
Там, на окраине зимы,
есть дом – пустой, как череп, -
футляр для снежной кутерьмы,
никчемен и вечерен.
Издревле здесь была тюрьма,
а нынче в ней бесплатно
зимой содержится... зима,
а коли так – и ладно.
Домов порожних не люблю,
но к этому уроду
хожу и душу веселю,
как воздух, пью свободу.
Пусть ветер семечко весной
швырнет ему во вьюшку,
чтоб он зарос бурьян-травой
по самую макушку!
В. М. ШУКШИНУ
В Москве на съемках, в павильоне,
в киношном мире, как в бульоне,
средь лицедеев – новичок —
варился этот мужичок.
Среди красавцев и красавиц,
как меж волков – летящий заяц,
забавный – ухо на плече,
улыбка – песня при свече.
Так, в сапожонках на резине,
на совести – не на бензине,
пешком, тишком, в венце двух лир
Шукшин ворвался в этот мир!
И с этих пор мерцает зыбко
его сиротская улыбка
с экрана Памяти, из книг...
Он в нашу боль живую вник.
...Однажды ночью на дороге,
там, где алтайские отроги,
мою машину – вещий знак! —
остановил один чудак.
Нет, он не сел ко мне в машину,
он указал мне на вершину:
«Там...» – прошептал он сквозь года.
И я пошел за ним туда.
* * *
Вдали от глаз людских, от бренного труда
на кладбище людей есть статуя Христа.
Деревья пышные и птичий всплеск рулад, —
не скорбная юдоль, а Гефсиманский сад!
В ногах у статуи цветов живых не счесть.
И, шустрые, шуршат песком старушки здесь.
Не у фабричных же ему стоять ворот:
он там, где никого... Где – все, но в свой черед.
Он там, где тучно громоздится тишина,
где правда от мечты стеной отделена,
где ветры кроткие в листве... И тень листвы
на бронзовых устах – как Жизнь, а не «увы».
ЕЩЕ
Глаза в синеве поднебесной купаю,
остатки любви из груди выскребаю.
Еще мне милы – и река, и дорога,
береза и тень от нее до порога.
Еще меня птицы волнуют и травы,
и люди, особенно – отчей державы.
Еще меня мысли тревожат средь нощи,
но мягче душа моя с миром и проще.
Еще меня трогают взоры иные,
но я в них читаю права неземные.
Еще меня манят в просторы тропинки,
но что они знают – пески и суглинки?
И песни терзают мне ласкою грудь.
Но я уже вижу единственный Путь.
* * *
Человек мыслящий уже по-
нял, что на этом берегу у него
ничего нет.
П. Флоренский
Нет ничего на этом берегу.
Зато на том – ромашки на лугу,
душистый стог, сторожка лесника,
слепой полет ночного ветерка.
...Нет ничего на этом берегу.
Любовь, ты – мост. Я по тебе бегу.
Не оглянусь! Что я оставил там?
Тоску-печаль по вымерзшим садам?
Плач по друзьям, истаявшим в огне
земных борений? Но друзья – во мне,
как я – в сиянье этих вечных звезд,
что образуют в триединство мост.
Не оглянусь! Метель в затылок мой.
То дышит мир, что был моей тюрьмой.
Не я ли сам – песчинка в снах горы —
себя в себе захлопнул до поры?
...Прочь от себя, от средоточья тьмы —
на свет любви, как будто от чумы,
перед единой истиной в долгу...
Нет ничего на этом берегу.
* * *
Очнуться от прокисших нег,
взглянуть в окно и ахнуть: снег!
Не только смена декораций,
но – высшей нежности урок:
не только в зиму перебраться,
но – страстно выйти за порог.
Из меланхолии – в веселье,
из отщепенства – в кутерьму.
Душа справляет новоселье
еще при жизни, на дому!
И молча, как спросонок зверь,
теплом разверстым дышит дверь.
ТОНКАЯ РЯБИНА
Рассказ шофера
Лишних слов не тратил
на печаль, на пьянку, —
на Колымском тракте
он крутил баранку.
Речи вел вполсилы,
слог – не скуп, не весел,
что-то в нем сквозило
от ямщицких песен...
«Я отца не помню.
Помню маму Свету,
стол, весельем полный,
музыку, Победу!
За окном раскаты
долгого салюта,
речи и плакаты,
и... пельменей блюдо.
И... тушенки банку!
Мать, согнувши спину,
пела под тальянку
«Тонкую рябину».
Помню мамы позу.
Инвалида Лешку.
Как катились слезы
на его гармошку...»
...Замолчал. Без фальши.
Подкачали силы.
«Что же было дальше?» —
мы его спросили.
«Дальше было хуже,
вот какое дело...
«Горькую» по мужу
каждый вечер пела.
А потом уж скоро
и засохла, братцы...
А ведь ей в те поры
было только двадцать!»
ЗАЧЕМ
Вновь журавлей пунктир..
Судьба подобна мигу.
Досматриваю мир,
дочитываю книгу.
Понурые слова,
нахохленные птицы.
Поломана трава,
листва с ветвей стремится.
Все гуще мгла ночей,
все жиже синь в просветах
Не спрашивай: зачем?
Спросив – не жди ответа.
Не притяженыо вслед
листва стремится с веток -
а чтоб к родной земле
прижаться напоследок.
М. Борисовой
Блуждаю в прошлом, как подлодка,
что всплыть не может подо льдом.
И от мольбы вспухает глотка
в пространстве, смертью налитом.
С годами душу вяжут путы,
и ты плетешься, слаб и сир...
И манит прошлое, как будто
оно – потусторонний мир.
Путь в запредельное неведом.
И нужно – всплыть! И жаждет грудь
происходящего отведать,
как будто воздуха хлебнуть.
Он звал меня, как пить просил – глоток!
тот на войне сгоревший городок.
Его костьми, как зверь, хрустел прогресс.
Но через эти муки – он воскрес!
И звал меня. И я, склонив судьбу,
к нему вернулся, словно дым в трубу.
И... не узнал – ни улиц-площадей,
ни стен родимых, ни родных людей.
Да тот ли город? Верится с трудом.
И вдруг – о, чудо! – уцелевший дом.
Среди вставных бараков, блоков, труб —
старинный дом, как уцелевший зуб!
Кремень-кирпич, чугунное крыльцо,
два голубых окна во все лицо.
Кто этот дом от смерти уберег?
Дитя невинное? Иль – старость? Или —
А может, ясная – алмаз в кипенье зла —
любовь двоих, что все перемогла?
Я в этот город больше не вернусь.
Не потому, что я ему не нужен,
что нет церквей, а также – зимней стужи.
Все эти горы, волны, ветры, лужи —
еще Россия, но уже – не Русь.
Так думал я до нынешнего дня,
когда в порту, у самого причала,
я встретил существо. Оно молчало.
В ручных глазах отчаянье кричало,
все прочее из этих глаз тесня!
Я предложил ей ломтик колбасы.
Она взяла. И сразу стало ясно,
что я не прав: печаль ее не гасла.
Мы одиноки врозь. Увы, напрасно
в моих глазах созрели две слезы.
Она ушла, едва качнув хвостом.
Мы одиноки порознь, вот в чем штука!
У нас в глазах одна пылает мука,
одна обоим предстоит разлука,
но одиноки – врозь... при всем при том.
Я в этот город все же не вернусь:
не хватит сердца – пить былую грусть.
Заглохший сад, порожняя изба,
на всю округу – полторы старухи.
Что это – сон? Мистерия? Судьба?
«России нет...» – ползут, как черви, слухи.
Дурные слухи, скверные дела.
Отчизны имя будто плод запретный.
Лети, лети над клевером, пчела,
звучи, звучи в душе, напев заветный!
Все это враки, выдумки, молва,
всего лишь – пыль дорожная над полем.
Мертва – былая... Вечная – жива!
И выть, как по покойнику, – доколе?
ХУДОЖНИКУ-МОДЕРНИСТУ
Художник решил отразить этот мир.
Он страсти такие пролил на холсты,
как будто в мозгу его вызрел вампир
и все исказил до последней черты!
Зачем он старался унизить простор
и цвет обессмыслить? Откуда сей пыл?
Не знал он, что дьявол, прищурив свой взор,
рукою его неразумной водил.
Как можно, вникая в свой смертный секрет
(не просто – в одну из вселенских разлук),
писать без улыбки безгрешный рассвет
и ветра в ветвях фиолетовый звук?
Я знаю: хотел он, коверкая жест,
вниманье привлечь, как поймать на живца.
Но разве гордыня – единственный крест,
что должно нести нам тропою творца?
Как ясно на сердце. Плывут облака.
Питается прошлое правдой живых.
И ветры, и воды, и взгляд сквозь века
бездонно-прозрачны, как пушкинский стих!
Цветы полевые растопчут стада.
Затмит пролетающий спутник звезду.
Я верю, что правду спасет красота.
Но кто от неправды спасет красоту?
Все постепенно: красота
подспудно зреет в юном лике,
цветок на куполе куста,
тревога в журавлином клике,
все, все – внутри нас и вокруг —
заботе внемлет безупречной:
не перестраиваться вдруг,
но – совершенствоваться вечно!
НА ПУСТЫРЕ
Благословенна отчая земля,
любой пустырь, где яснолико
восходит одуванчик, земляника —
сквозь мусор века взгляд мой веселя!
Не созерцать, но трепетно любить
меня зовут бетонные торосы,
и эти анемичные березы,
и эти травы, стонущие: пи-ить!
Блуждая в лабиринте вещих книг,
нет, я не в них, а там, где слезы зреют,
ту истину, что истин всех добрее,
на пустыре излюбленном постиг.
Во зле животрепещущем тесны
границы счастья бытия людского,
как счастья одуванчика простого —
от золота волос до седины...
УЛЫБКА
Я стал просыпаться с улыбкой.
Внедрилась такая черта.
Все ломкое сделалось гибким:
терпенье, восторг, красота.
Стучит подоконная птица,
пытаясь разрушить мой сон,
а сон, не успев преломиться,
густеет, как благовест-звон!
Наверное, так вот будила
планету, лишенную бед,
улыбка! О, лишь бы хватило
ее – на последний рассвет.
НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ
Уже под крышу возведен,
еще глазницы окон слепы;
вьюнком-дичком переплетен,
и нет лица: есть маска, слепок.
Не мертвый, но и не живой.
Полу возник, полу распался.
И – что с хозяином? Запой?
Тюрьма? Хвороба? Сник, сломался?
Увлек его иной удел?
Где нынче дух его витает?
...А может, просто расхотел:
сидит и книжечку читает.
1952 г.
Глеб Горбовский с отцом Яковом Алексеевичем Горбовским
(1900—1992 гг.). Отец поэта родом из старообрядческой
крестьянской семьи Овсянниковых из деревни Горбово
был одержим русской литературой и поэзией. Всю жизнь
учительствовал.
Фото из архива Г. Горбовского.
БОСИКОМ
В. Лихоносову
Притомился на знойной дороге,
снял обувку, прохладой влеком,
и, терзая землицею ноги,
неумело пошел босиком...
Что тут было! Особенно с сердцем,
поощрившим такую игру.
Вся история пращуров сельских
всколыхнулась, как рожь на ветру.
Заструились священные токи
ввысь, по жилам – от сердца земли.
И бесстрашно на сером востоке
новым днем облака зацвели.
* * *
Шумит за окном затяжной,
брюзгливо стучащий по листьям...
Опять притащилась за мной
тоска, изгибаясь по-лисьи.
Виляет горячим хвостом,
зовет за собой на болото.
«Ступай, – говорю, – со Христом!
Мне нынче не плачется что-то.
Я лучше дровец наколю,
огнем пропитаю поленья.
Я все еще солнце люблю,
любое его проявленье».
И вот уже пламя внахлест.
И вот уже кто-то у печки,
поджав ослепительный хвост,
свернулся пушистым колечком.
КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ
Так повелось на свете,
впиталось с молоком:
«здоровкаются» дети
с прохожим чужаком.
Пострел обронит слово,
в глазах притушит свет
и весь замрет сурово:
ждет на привет – ответ.
Весь в цыпках-царапушках,
озяб наверняка;
тесна его избушка,
улыбка – широка!
И хочется, и нужно
за тот привет – не жаль! —
отдать ему всю душу,
взять – всю его печаль...
Восславим свежий хлеб, газетный лист,
конкретной электрички бег и свист,
глаза сиюминутных Афродит...
А прошлое лишь душу бередит.
Очнемся – не от запаха мимоз —
от ностальгии, сосущих кровь и мозг,
от поминальных вздохов по Руси —
она жива. И не на небеси.
Жива в глазах приютского дитя,
в тоске пропойцы, снятого с гвоздя,
в забытой бабке в мертвом хуторке,
а не в спортсмене с гирею в руке.
Она жива... Но скорбен древний лик.
Дадим ей хлеб (а смысл ее велик).
Вернем улыбку в блеклые уста.
Побег из сна, как снятие с креста.
Пришла пора – проглянул в снах предел.
Преображенье – вот ее удел.
Пришла пора – веление судьбы —
опять вздымать Россию на дыбы!
УШЕДШИЕ
Вас было больше, чем листвы
на этих тополях.
Бурьян-травой накрылись вы,
землею съеден прах.
Живым все чаще – не до вас,
всяк прав – в своем седле.
...Но иногда восходит час —
Час Мертвых на земле.
Я вижу, как, за валом вал, —
дым без костей, без жил, —
неспешно входят в степь, как в зал,
все те, кто прежде жил.
Всю ночь, как дикие цветы,
колышется их строй.
И шум посмертной суеты
доносится порой.
И я, очнувшись от тоски,
стою над бездной всей...
И две своих живых руки
ласкаю, как друзей.
РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ
Не из дерева-кирпича,
не из мрамора и гранита —
из немеркнущего луча
плоть благая ее отлита.
Православная, вопреки
всем печалям – не пала низко.
Колыма, Сибирь, Соловки —
вот героев ее прописка.
Ей завещана страсть – не страх.
Страстотерпица! Слышу эхо:
то горят на своих кострах
Аввакумы двадцатого века.
Не иссякла в кровавой тьме,
не изникла в бесовской смуте.
Вот она стоит на холме
в осиянной Господом сути!
Пусть одежда ее проста,
цель – подвержена злым наветам.
Свет негромкий ее креста
неразлучен с небесным светом.
ОЧЕВИДЕЦ
Под вселенский голос вьюги
на диване в темноте
поразмыслить на досуге
о Пилате и Христе.
...Как же так! – руками трогать
воздух истины, итог,
в двух шагах стоять от Бога
и не верить, что он ■– Бог...
Под тенистою маслиной,
на пороге дивных дней,
видеть солнечного сына
и не сделаться светлей!
Отмахнуться... Вымыть руки.
Ах, Пилат, а как же нам
под щемящий голос вьюги
строить в сердце Божий храм?
Нам, не знавшим благодати,
нам, забывшим о Христе,
нам, сидящим в Ленинграде
на диване – в темноте?
ПОКАЯНИЕ
Гласит божественная лира,
нас уводя от суеты:
не сотвори себе кумира,
не искази Творца черты,
уйми гордыню...
Богом данной
душе -
в трудах воздвигни храм!
...Ведь даже звезды,
покаянно,
бледнеют в небе по утрам.
Присутствую при снегопаде —
последнем, может быть, в судьбе.
Не отвлекайте, Бога ради,
забыть позвольте о себе.
Ловлю холодную снежинку
горячим выступом губы.
Слежу зигзаги и ужимки
венозно вздувшейся тропы.
Очаровательное иго —
снеговращенья краткий срок...
Читаю небо, точно книгу,
и Божью милость – между строк.
МЕРТВЫЕ СЛОВА
Мутна была погода,
мертва листва словес:
«лишенец», «враг народа»,
«в расход», «лагпункт», «обрез»
Что вынести Отчизне
пришлось и – для чего?
Лишенец... смысла жизни?
Враг... брата своего?
Слова как брань, как окрик,
как свист хлыста сквозь век:
«гулаг», «рабсила», «контрик»,
«нацмен», «баланда», «зэк»...
ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИИ
Как бы мы ни теребили
слово Русь – посредством рта,
мы России не любили.
Лишь жалели иногда.
Русский дух, как будто чадо,
нянчили в себе, греша,
забывая, что мельчала
в нас – Вселенская душа.
...Плачут реки, стонут пашни,
камни храмов вопиют.
И слепую совесть нашу
хамы под руки ведут.
Если б мы и впрямь любили, —
на святых холмах Москвы
не росло бы столько пыли,
столько всякой трын-травы.
Если б мы на небо косо
не смотрели столько лет, —
не дошло бы до вопроса:
быть России или – нет?
В ней одно нельзя осилить:
божье, звездное, «ничье» —
ни любителям России,
ни губителям ее!
Сжигать натруженные нервы,
чтоб первым слыть, а первых... нет.
Они – легенда. Их шедевры
возникли там, за далью лет.
Все было: Библия, Бетховен,
Шекспир, и Рембрандт, и Толстой.
Но и Сальери не виновен,
став спутником, а не звездой.
Увы, не каждое творенье
слывет бессмертным наяву, —
но всем доступно утешенье
в стремленье духа – к божеству!
* * *
О цветке поведал гений, —
слов мерцала ворожба...
В жажде острых ощущений
ощетинилась толпа.
«Как посмел ты петь про пестик
в дни гонений, про пыльцу?!» —
в жажде крови, в жажде мести
говорил народ певцу.
Но молчал он... Лишь медвяно
мысль стекала со струны.
Дни гонений – постоянны.
Дни прозрений – сочтены.
ПУСТЫНЯ
Не то пустыня, что лежит в песках,
где дружат ящерка и черепаха,
где саксаул на скрюченных ногах
танцует в пыльной буре праха.
Не то пустыня, что течет водой
земных морей и океанов,
где чайки мечутся, где рыб косяк густой
и корабли связуют страны.
Не то пустыня, что сияньем звезд
оповещает жителей Вселенной
о том, что в небе есть немало гнезд,
а в них – крупицы вечности нетленной.
Пустыня то, где нет любви уже,
где даже музыка молитв некстати:
она – в твоей измученной душе,
лишенной милости и Божьей благодати.
Тепло. Внезапную жару
деревья слушают, как вьюгу.
Сухие листья на ветру
стучат отходную друг другу.
А по обочинам – полынь,
вегетарьянский запах тленья.
И небывалая теплынь —
как бы включили отопленье.
И в сердце мягко неспроста.
И сквозь грядущие рассветы
восходит лунный лик Христа
в морозном выдохе планеты.
Дождь молится на крыше,
под полом – мышки смех!
...Меня никто не слышит,
я слышу вся и всех.
С молчащей колокольни
плывет безмолвный звон.
Струится стих крамольный
из сжатых уст, как стон.
Звучащие, провисли
над миром провода,
кипящие в них мысли
ревут, как поезда!
Окуренные ядом,
деревья бьют в набат.
Рыдают реки рядом,
и рыбы в них вопят.
Гудит земля, как бочка,
вздыхают в ней гроба.
И ветра оболочка
скрипит, как кожа лба...
Скулят белки и соли,
трещит озонный щит...
И, ртом в подушку, совесть
вновь по ночам кричит!
соловьи
Вороны, голуби, синицы —
отчетливые существа.
А соловьи – не столько птицы,
сколь – тайна, миф, мечта, молва.
Грачи, воробышки, сороки —
питомцы стай! А соловьи —
особняком. И в кратки сроки
ткут песнопения свои.
...Ив мире, где людские песни
звучат средь фальши и утрат,
есть голоса иных чудесней
и – одиноче во сто крат.
Они вразрез звучат! Без толку
для власть имущих болтунов.
И хоть звучат не слишком долго,
но проникают до основ.
В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ
Листва полу опала,
экскурсовод толков.
Собор Петра и Павла —
прохлада трех веков.
Высокие могилы,
Петровский саркофаг.
Все каменно-уныло,
все было, да не так...
А во дворе булыжник, —
в лодыжке боль крута!
Вот движется подвижник
желудка-живота.
Вид колокольни постный
и аскетичен дух.
Вот катится апостол
румяных молодух.
На плитах – листья, лужи.
Мечты обнажены.
Вот шествует послушник
ученья сатаны.
Небесный свод распорот,
в прорехе – синева.
Здесь начинался город,
училась жить Нева.
Листва полуопала,
редеют голоса...
Собор Петра и Павла
уходит в небеса.
КРАСНОЕ И БЕЛОЕ
Россия – единое целое.
Но в заспанном сердце ее
то красное вспыхнет, то белое!
То кровное жжет, то – ничье.
За прошлым грядущее гонится, —
приспичило марши играть!
И вот уже красная конница
несется на белую рать.
На что разрешение выпадет —
о том и молчим, и поем.
То кровушка белая выпита,
то кровушку красную пьем.
А ежели драться не велено —
ударимся в сон-тишину...
И вот уже беленьким, беленьким,
как снегом, заносит страну.
...Но, вычерпав время напрасное,
над белым, чью грязь не отмыть,
мы будем оплакивать красное
и маршами душу томить.
СОРОКОУСТ
Какое сказочное слово —
Сорокоуст! Букет из губ.
Не смысла груз, не грусть-основа
мне строй его музыки люб!
Сорокоуст! – рокочет слитно.
Как струны или провода...
Не поминальная молитва,
а Слово, снятое с креста!
Живое, сущее, густое,
колючее – терновый куст,
дыханьем жизни налитое
и – жгучим хладом смертных уст
ПРИТЧА
О ПЕРВОПРИЧИНЕ ЗЛА
Очнулся на больничной койке.
«Дышу! – подумал. – Повезло».
Затем, измученный, но стойкий,
спросил: «Откуда в мире – зло?
А что, – вздохнул, – имею право
спросить: страдал, сбивали с ног, —
война, тюрьма... Любовь-отрава.
И – на краю! И – одинок...
Кто виноват, что я печален?
Что совесть... меньше на размер?
Кто лихоимец? Гитлер, Сталин?!
А может – вовсе Люцифер?
О, где она, первопричина
всех зол земных, владевших мной?»
...И тут расслабленный мужчина
рванулся с койки – в мир иной.
Но в те расстанные мгновенья,
что нам даются, как венец,
ему пригрезилось виденье:
одно из множества сердец...
Все в язвах зависти кислотной,
в рубцах тщеславия, в слезах
неверия, в тоске бесплотной —
оно висело в небесах.
И голос был как запах серы,
как эхо дна – в небесну высь:
«Соль зла в твоем гнездится сердце,
взгляни в него – и ужаснись».
ТРЕТЬИ
Памяти мирных граждан войны
Участникам войны – почет и ордена,
смерть и бессмертье,
а на долю третьих
(в борьбе сторон – есть третья сторона),
на долю третьих —
лишь ухмылка смерти.
А если – жизнь, то чаще без отца,
без дома, без любви,
с душою инвалида...
Участникам войны,
тем, кто глотнул свинца,
и тем, кто не глотнул, —
и слава, и эгида.
Жить под эгидой подвига – одно.
Жить под опекой ужаса – другое.
Участникам войны завидовать грешно.
А третьим...
Вот ведь дело-то какое.
МУЗЫКА
Касаясь при жизни всего понемногу,
однажды подумать в концертных слезах:
«А все-таки музыка – ниточка к Богу!
Связует! И мы забываем свой страх...»
Веселье прокиснет. И радость прогоркнет.
И сухо на сердце. И холод в глазах.
Но музыка добрые слезы исторгнет!
И чаши качнутся на судных весах.
* * *
Я схоронил свою мечту:
Она во мне, как в темном склепе,
а ей бы плавать в синем небе,
цедя сквозь зубы высоту!
Я пережил себя в себе.
Тот человек, что звался мною,
стал запредельной тишиною,
росой на ангельской тропе.
Но... я узнал в пучине дня,
в стремнине пешего потока, —
ту, что вскормила грудью Бога!
...С какой печалью и тревогой
она взглянула на меня.
* * *
Блаженны нищие духом...
Лампада над книгой потухла,
а строчки в глазах все ясней:
«Блаженны голодные духом,
взалкавшие правды Моей!»
Сижу в окружении ночи,
читаю в себе письмена,
как будто я старец-заточник
и нет в моей келье окна.
Но в сердце – немеркнущий праздник,
и в вечность протянута нить.
И если вдруг солнце погаснет —
все ж Истина будет светить!
Глеб Горбовский с товарищами по ссйсмобрнгадс.
Река Кспега, Северный Сахалин, 1958.
Я ВЕРНУСЬ
...возвратить поглощенное.
Я. Ф. Федоров
Всего нагляднее – в апреле,
когда из-под одежд зимы
трава – в сиянии и в теле —
в мир возвращается из тьмы.
Так в сердце – на исходе жизни —
в сию копилку снов, гробов,
трещиноватую от истин, —
вдруг возвращается... любовь!
Так на забытую могилу
Цветаевой, где мгла и мох,
второй, наджизненною силой
слетает славы поздний вздох.
...Блажен, кто верит в «небылицы» —
в бессмертье душ, в Святую Русь,
кто, распадаясь на частицы,
с улыбкой мыслит: «Я – вернусь!»
Кто чрез смертельные границы
плывет, как журавлиный клик...
С чьей опаленной плащаницы
к нам проступает Божий лик.
ЖЕРНОВА
Порхов. Остатки плотины. Трава.
Камни торчат из травы – жернова.
Здесь, на Шел они, забыть не дано —
мельница мерно молола зерно.
Мерно и мудро трудилась вода.
Вал рокотал, и вибрировал пол.
Мельник – ржаная торчком борода —
белый, как дух, восходил на престол.
Там, наверху, где дощатый помост,
хлебушком он загружал бункерок
и, осенив свою душу и мозг
знаменьем крестным, – работал урок.
...Мне и тогда, и нередко теперь
мнится под грохот весенней воды:
старая мельница – сумрачный зверь —
все еще дышит, свершая труды.
Слышу, как рушат ее жернова
зерен заморских прельщающий крик.
Так, разрыхляя чужие слова,
в муках рождается русский язык.
Пенятся воды, трепещет каркас,
ось изнывает, припудрена грусть.
Все перемелется – Энгельс и Маркс,
Черчилль и Рузвельт – останется Русь.
Не потому, что для нас она мать, —
просто не выбраны в шахте пласты.
Просто трудней на Голгофу вздымать
восьмиконечные наши кресты.
* * *
Когда устанете глаголить о генсеке,
о беззакониях в Двадцатом веке-зеке, —
вдруг кто-то вспомнит о начале дивной речки,
о человечке – стриженой овечке,
о том, как искренне торжественная туча
над городом плывет, ломая сучья;
о том, как тщательно антенна в поднебесье
усами ловит улетающие песни;
о том, как истово мальчишка лет под сорок
гоняет голубей, поправших город;
о том, как некую тревожили старушку,
что, взорванную, помнила церквушку;
о том, как крест ковали в кузне искрометной
и золотили... солнцем! В час рассветный.
БАБА ДУСЯ
Как выглядит столетие – живьем?
Довольно неприглядно, если верить
своим глазам... Так выглядит проем
в порожнем доме – выломанной двери
или окна. Зияющая скорбь.
...Нет, нет! Все проще. И в изящном вкусе.
Платочек ситцевый, как снег вершинный с гор,
под ним – глаза крестьянки бабы Дуси,
Глаза глядят. И видят. Глубоки.
И все еще синеют в помощь лику,
как меж страниц бессмертных васильки,
заложены в апостольскую книгу.
Под бабушкой, седая от дождей,
завалинка на улице порожней.
Есть улица, и нет на ней людей, —
лишь петушок, поющий все безбожней!
И дельце есть у Дуси: огород.
Но прежде... И, слегка раскрючив спину,
идет к соседке – та уж не встает.
Но вряд ли стоит довершать картину...
Тогда откуда благовест в груди,
не умиленье – отблеск благодати?
Как выглядит столетье во плоти?
А так и выглядит, как вылепил Создатель.
НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО
Край неба и звезда
в углу, как на конверте.
Рождение Христа —
спасение от смерти.
Снег. Прошлое. Мороз.
Мир распрямляет спину.
Нельзя смотреть без слез
на русскую равнину.
В сугробе, как пенек,
избушка в платье белом.
Но вспыхнул огонек
в окне заиндевелом!
Живи, земля, живи.
Добра сияйте знаки.
Рождение Любви —
прозрение во мраке.
...Ему – с твоей тоской —
быть на кресте распяту.
Тебе – Его рукой —
возжечь в ночи лампаду.
ВРАЗРЕЗ
Барка жизни стала
на большой мели...
А. Блок
Вразрез волнам житейской непогоды,
вразрез теченью общему вещей, —
мы не властям, мы Господу в угоду
тянули лямку барки жизни всей!
В театре жизни знали мы не мозгом,
а знаньем сердца (покаянный труд), —
зачем пришли на шаткие подмостки,
куда уйдем, коль занавес дадут...
Во все века, исполненные желчи,
со дней Голгофы, мир людей – тюрьма.
То объявлялся Гоголь сумасшедшим,
то вся Россия – сдвинутой с ума.
Мы пели в хоре, рта не раскрывая.
Сверлили почву, сущему вразрез,
чтоб видеть свет сквозь тьму земного рая,
сквозь шар земной – благую синь небес!
БЕЗГЛАГОЛЬНОЕ
Россия. Вольница. Тюрьма.
Храм на бассейне. Вера в слово.
И нет могильного холма
у Гумилева.
Загадка. Горе от ума.
Тюрьма народов. Наций драма.
И нет могильного холма
у Мандельштама.
Терпенье. Длинная зима,
длинней, чем в возрожденье вера.
Но – нет могильного холма
и... у Гомера.
Век суеты короче стал,
догадка зреет в нас:
сбываются пророчества —
грядет расплаты час!
Жизнь выцвела, пока листал
ее ты, в жажде див, —
не так, как Апокалипсис, —
как пошлый детектив.
Не тонет уж тоска в вине.
Страх застит путь к звезде.
И светит лишь Раскаянье!
Хотя бы – на кресте.
«КРЕСТЫ»
На невском берегу торчит сия твердыня.
Багров ее кирпич и камеры глухи.
Коль мимо прохожу,
то кровь в сосудах стынет...
Мать-мачеха вдоль стен, и чахнут лопухи.
Известна всей стране ее архитектура:
крестами корпуса... В глазницах —
сталь ресниц.
Российская тюрьма должна смотреться хмуро,
чтоб всякий, кто взглянул, бежал ее границ.
На той же стороне, на побережье впалом —
еще одна тюрьма, но смотрится светлей:
над нею купола святых Петра и Павла, —
как будто волнорез судьбы России всей!
Луч шпиля на заре собой являет чудо.
И ангел держит крест,
как некий смысл живой...
Л в сумрачных «Крестах» есть камера,
откуда
крест виден из окна... В трехсотой, угловой.
ПАДШИЙ АНГЕЛ
Отца не знавшее дитя
с улыбкой мудреца,
дитя невинное, хотя —
во взгляде хитреца.
Дитя отведало всего
за свой десяток лет...
А есть ли мама у него?
А мамы тоже нет.
Она сейчас встречает май
одна, прогнав отца.
...Какой же нравственный Мамай
прошел сквозь их сердца!
Ведь даже на огне войны,
где наш горел народ, —
все ж было меньше у страны
изгоев и сирот.
Дитя в одежке продувной.
Мат – нз молочных уст!
И горних крыльев за спиной
уже ненужный груз.
Глеб Горбовский на Васильевском острове. 1966.
КВАРТИРА НОМЕР ШЕСТЬ
Из книги «Остывшие следы. Записки литератора»
Теперь, по прошествии не просто лет, но львиной
доли судьбы, в назидание молодым поэтам скажу
откровенно, бесстрашно: самым вредным, губитель-
ным, тлетворным желанием для начинающего поэта
является желание как можно скорее опубликовать
свои стихи, жажда напечататься. Для шлифующего-
ся таланта (а талант хоть и врожденное свойство,
однако развивающееся, оно далеко не алмаз, но —
эмбрион), так вот для развивающегося дарования
нет ничего более гнетущего, разрушительного, иссу-
шающего, чем желание... славы. Желать должно
себе совершенства. И не просто желать, а постоянно
его в себе возводить (как себя – в окружающем ми-
ре). По кирпичику, по ступеньке, молча и, по воз-
можности, подальше от редакций и всяческих око-
лолитературных соблазнов и соблазнителей. На на-
ших глазах выросла целая плеяда поэтов, чьи имена,
чья скандальная репутация, а значит, и участь —
жалки. Скандал может обеспечить известностью,
даже ославить, но он же способен внести в поэтичес-
кий организм инфекцию суетливости. В погоне уже
не за славой, а за поддержанием ее свечения стихо-
творец становится своеобразным литературным ал-
коголиком, для которого глоток паблисити дороже
всех таинств поэтического действа. И наоборот, мы
знаем энное количество писательских имен, чей
труд в поэзии был для них священным, всепоглоща-
ющим, для кого поэзия не идол, а сама вера, на чей
алтарь поставили они, как сумели, свет своих сер-
дец, изъязвленных не столько тщеславием, сколько
невозможностью очистить свою поэзию, свое миро-
воззрение до идеальной степени.
О конкретных писательских именах – чуть поз-
же. Внутренне подобрев, поуняв характер. А пока
что – о себе грешном, о том, каким нравственным
уродом, с какой потаенной двуликостью, выпесто-
ванной двойной моралью тогдашней лжеидеологии,
предстал я пред светлые, но отчетливо страдающие очи
Глеба Семенова, всю свою жизнь имевшего склон-
ность помогать начинающим литераторам разби-
раться в самих себе и в окружающей их обстановке.
Глаза его кричали, терзаясь сомнениями, но... кто
расслышит глаза? Язык его не мог выговориться, ибо,
как и все прочие языки страны, был скован страхом
еще не остывшей, хотя и бесспорно издыхавшей
эпохи. Сквозь измученный город, приходящий в
себя от войны, политических дел, постановлений о
журналах, успения вождя, шел заторможенный, как
бы пребывающий в шоке 1954 год.
С одной стороны (или с одной головы двуликого
Януса), хотелось мне тогда выразить в стихах се-
бя – свои отчаяние, боль, гнев, накопленные за
двадцать три года жизни, с другой – попытаться
тиснуть, пропечатать стишки (любой пробы!) во что
бы то ни стало. «Увидеть свет!» – так это называет-
ся, не без проникшего в эту фразу сарказма, ибо что
может увидеть слепой котенок, помышляющий (ут-
робой) о кормящем сосце? Магия печатного слова...
Для поэта, не обретшего своих убеждений, она воис-
тину губительна. Ибо идешь ты тогда на поводу у
властей предержащих, диктующих условия проник-
новения твоего слова в печать, в и х печать. Другой
печати не было и нет. Помимо самиздатовской и —
«потусторонней». Нельзя забывать, и прежде всего
человеку, собравшемуся «в поэты», что в его распо-
ряжении не только пресловутая свобода слова, но и
нетленная, неотторжимая от его совести свобода
мысли. Утратить свободу слова ничего не стоит, ут-
ратить свободомыслие – конец всему.
Заняться «потусторонней» литературной дея-
тельностью мне даже в голову тогда не приходило:
во-первых, страх; во-вторых, патриотический замес
в сознании слишком густ. Вновь обретенная после
войны-разлуки Родина, любовь к ней, почерпнутая
и впитанная из классической литературы, как из кро-
ви народа, скитания по истерзанной родимой земле,
где каждая живая душа взывала о сострадании,