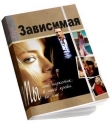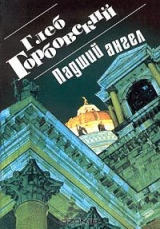
Текст книги "Падший ангел "
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
места святые.
Дайте, ради Христа,
огня мне: душа пуста,
глаза на мне пустые.
В трапезной – хлеб да соль.
Господней молитвы боль —
песнь неземная.
...Вновь дорожкою – вдоль...
Мила мне моя юдоль,
земля мне мила родная.
ЗАБЫТЫЙ КРЕСТ
Обнаружился он не в кумирне,
где склоняются Божьи рабы,
а в старинной московской квартире,
в ванной комнате – возле трубы.
Приходили друзья и соседи,
мыли руки, справляли нужду.
И никто этот крест не заметил,
хоть висел он у всех на виду.
Но однажды с оказией дивной
этот крест мне вернули друзья.
Года три в обстановке интимной
провисел он во тьме бытия.
Он вернулся ко мне... А другие
не вернулись. Хмельной вертопрах —
их оставил в житейской стихии
сиротеть на залетных ветрах.
Жил неряшливо, пыльно, дебильно,
без креста, без оглядки на страх...
Вот и матери крест надмогильный
затерялся в кавказских горах.
Возвращаясь с грибного пробега,
ощутил я коня за спиной.
А затем, приглашенный в телегу,
вдруг уснул на подстилке сенной.
...И во сне, миновав лихолетье,
разрушенье и гибель сердец,
я проснулся... в начале столетья,
в том селе, где родился отец.
То есть – именно в Лютых Болотах,
где вокруг – непролазье чащоб.
А на тропке – глазастенький кто-то,
и кудряшки скатились на лоб.
– Как тебя величать, цыганенок? —
так спросил я чудного мальца.
– Яшка я, – отвечает ребенок. —
Твой отец. Узнаешь ли отца?
Улыбнулся, чирикнув, как птица,
а затем вопрошает всерьез:
– Что там в жизни со мною случится?
Ты ведь знаешь... Ответь на вопрос.
Рассказал я ему про аресты,
про увечные пытки воины...
Постоял он – и сдвинулся с места,
и потопал в объятья страны.
А потом обернулся оттуда
и спросил – без раскрытия рта:
– А любить меня в будущем будут?
– Да как всех... Кое-кто... Иногда.
Снаружи – храм. Хотя и без креста.
Внутри, как в черепе, зияет пустота.
Но как же пустота сия грязна:
обрезки мишуры, стекло из-под вина...
Не красный клуб здесь был и не вертеп:
всего лишь – цех, производящий ширпотреб.
На фресках – доски. Острия гвоздей
уходят в роспись, как в тела живых людей.
О, городок, в своем ли ты уме?!
На окнах – ржавые решетки, как в тюрьме.
Но стекол нет. Гуляет ветерок.
И сердце просится из склепа – за порог.
Не запустенье ощутила грудь,
но отвращенье! Как сюда вернуть
любовь и святость? Как избыть позор?
Чтоб просиял народа мутный взор!..
...Снаружи – храм. Хотя и без креста.
Внутри – Россия. В ожидании Христа.
ТРАВА ПОКАЯНЬЯ
Дух мнимой свободы из гордости соткан.
...Пустые глазницы грозненских окон —
куда они смотрят, не плача, не видя?
В пожары отмщения? В зубы обиде?
А что есть свобода? И присно, и ныне —
все те же узилища, вопли в пустыне!
На окнах свободы – все те же решетки
безбожья, безлюбья. И... взрезаны глотки
Куда она манит, в какие просторы?
В кровавые реки, гнилые озера...
Но жажда пустых обгоревших глазниц
не знает любви, не имеет границ.
И нужно вдохнуть в эти окна пустые —
и свет, и Свободы черты молодые.
А смертную ненависть, вместо отмщенья,
с годами – развеять молитвой прощенья.
И пусть зарастают гордыни деянья,
как пепел пожарищ, – травой покаянья...
* * *
Теперь, когда все меньше сил,
все круче бережок, —
я в сердце лампу погасил
и свечечку возжег.
Тускнее книжек корешки,
а свет икон – видней.
И запьянцовские дружки
все реже – в шуме дней.
...Свеча мертва. Ее пенек
погас. И страх велик.
Но жив лампадный огонек!
А с ним – и Божий лик.
* * *
Двадцатый век – гремучий, нервный,
похож на сникшую грозу...
Перешагну ли – в двадцать первый?
Скорей всего – переползу.
Еще каких-то три годочка —
и жахнет точка... с запятой;
стоит под застрехою бочка,
небесной полнится водой;
листва омытая сверкает,
и ласточка торчит в гнезде...
И жизнь чудесная такая —
всегда и, стало быть, везде.
Всегда! А счет векам – забава.
Счет дням – затея для тюрьмы...
...О дни сочтенные, куда вы?
Из царства света – в царство тьмы.
Хожу предсмертного походкою
по кромке ладожской воды,
оброс монашеской бородкою,
свершаю тихие труды...
Омытый банькою бревенчатой,
продутый рыбным ветерком,
живу – крещеный, но – не венчанный,
согретый русским языком.
А человеку много ль надо?
Проснуться, подоить козу.
Пустить ее в траву – за гряды.
Пошарить ягоду в лесу.
Обрить лужок косою сочный,
сварить похлебку на огне.
Сходить за пенсией на почту,
потом – на кладбище к жене.
И, тяжелея понемножку,
передохнув – опять в труды:
окучить юную картошку,
поднять колодезной воды.
Потом сложить сенцо в копешку,
лицо в реке ополоснуть,
поймать на удочку рыбешку,
прочесть молитву – и уснуть.
Над землей алеет шаль
заревая,
и течет с нее печаль
мировая.
Ниже – горбятся леса,
спят туманы.
И вошла в траву коса —
несмеяна.
Проступает в синеве
крест соборный.
И крадется по траве
луч проворный.
Паучок связует нить —
хочет кушать.
Кто, скажи, не хочет жить?
Даже – в луже?
Где деревья – там и пни
в жизни нашей.
Мысли черные гони
в шею, взашей!
Пусть не Будда, не Федот —
Жизни Автор,
но сегодня – рассветет!
Да и – завтра.
Повышены ставки и цены,
на площади бдят старики,
и мечет певица со сцены
слова про любовь, как плевки.
У «русских» – другая походка,
осанка... Мосты сожжены.
Мистически булькает водка
из горлышка в горло страны.
В фаворе по-прежнему – хамы,
а в трепетных душах – тоска.
И службы в разверзшихся храмах
похожи на съезды ЦеКа.
Свершилось кровавое дело,
и тысячи глаз отцвели...
О, где ты, Пречистая Дева,
Заступница Русской земли...
В Кремле, как прежде, сатана,
в газетах – байки или басни.
Какая страшная страна,
хотя – и нет ее прекрасней...
Как черный снег, вокруг Кремля
витают господа удачи.
Какая нищая земля,
хотя – и нет ее богаче...
Являли ад, сулили рай,
плевались за ее порогом...
Как безнадежен этот край,
хотя – и не оставлен Богом!..
На склоне лет – а значит, зря —
меня спросили:
«Вот вы хотели бы – царя
опять – в России?»
...Принять меня за дурака,
когда мой поезд
стоит на станции «Тоска»,
на свалке то есть!..
Не до царя на склоне лет,
не до особы...
Мне до себя-то дела нет,
не токмо чтобы...
В стране, где всяк – и скот, и тварь,
и волком воет,
всегда найдется государь,
а то – и двое.
Всегда найдется вор и враль,
ваятель денег...
Но только мне сия печаль
уже – «дофени».
Родина, дух мой слепя,
убереги от сомнений...
Разве я против тебя?
Против твоих завихрений!
Что же ты сбилась с ноги?
Или забыл тебя Боже?
Или тесны сапоги
красно-коричневой кожи?
Бодро шуршит ветеран
мимо камней мавзолея.
Мрачно вещает экран.
Слаще застолья и злее!
Корчится Вечный огонь.
Русь почернела святая...
...Нищий раззявил ладонь,
а ведь ладонь – молодая!
Не торопи события,
не запускай винтов:
я не готов к отплытию,
к отлету не готов.
Не досмотрел я озеро
и не дослушал птиц,
не дообнялся с осенью,
не досчитал зарниц,
не дочитал Евангелье,
людей не до любил,
не дообщался с ангелом,
цистерну не допил,
не дорасстался с силою
и не окончил бой...
Не допрощался с милою
Отчизной и... с тобой.
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ
Бессонница жмется к былому солдату:
он землю купил по дешевке, по блату.
А что с нею делать – не знает, не мыслит.
Весна приближается. Снег уже киснет.
Напялив на лапы с трудом сапожищи,
он сходит с крыльца и глазищами рыщет,
в надежде соседские окна нашарить...
А ночь ему звезды холодные дарит.
Темно и бездонно... Но вот возле тына
сквозь темень мерещиться стала рябина.
И чавкая грязным неласковым снегом,
шагнул он в пространство – с неистовым смехом!
И мимо рябины в дремучее поле
потопал, как трактор, рыча поневоле.
И вскоре, споткнувшись о камень незримый,
упал, распластался наш почвенник мнимый.
И плакал... И пальцы его, как мокрицы,
сквозь слякоть и лед – добрались до землицы.
И так он лежал до сырого рассвета,
покуда сосед не окликнул соседа...
* * *
На руках моих – пятна и шрамы,
а в мозгу – отголоски войны.
Я себя извлекаю из ямы,
из которой лишь звезды видны.
Как попал я туда? Добровольно.
Просто рухнул от сущего – в тень.
Мне от сущего тошно – не больно,
потому что оно – каждый день.
Мне наружу карабкаться поздно.
Знать, судил мне Господь неспроста
видеть только далекие звезды,
а о ближних – забыть навсегда.
А ночь мне шептала, что речка в тумане,
течение Жизни – есть Божия тайна...
А я себе думал: меня не обманешь —
течение жизни возникло случайно.
Меня научило той правде крамольной —
молчание Бога. Не козни науки.
И мне уже как бы не страшно, не больно
земле отдавать себя в хищные руки.
Но я еще меряю землю шагами,
смотрю на цветы и небесные звезды.
И разве мы, Господи, стали врагами?
Мы просто чужие. И врать себе – поздно.
Мы просто не знаем друг друга. Нам ближе
наплыв облаков, тишина листопада,
парящие птицы, намокшие крыши...
И с правдою тайна, живущие рядом.
* * *
Не комедия, не драма —
просто ночью иногда
заколоченного храма
скрипнут ржавые врата.
...Свет лампад сочится в щели,
хор: «Спаси и сохрани...»
И выходит в мир священник,
убиенный в оны дни.
Крестным знаменьем широким
осенит поля с холма
и блуждает, одинокий,
словно выжил из ума.
Архаичен в мире новом,
глянет в сторону небес —
и на храме безголовом
воссияет звездный крест.
Поп идет легко и прямо,
словно видит Божьи сны...
...Не комедия, не драма,
просто – ночь. Моей страны..
Минус двадцать пять по Цельсию.
По скрипучей белизне
похоронная процессия —
мимо храма, как во сне...
Гроб несут четыре дяденьки,
позади – родни клочок...
И церковный голос сладенький
испускает старичок.
Кто он, умерший в суровую
пору жизни и зимы?
Человек, ступивший в новую
полосу... Такой, как мы.
Подогретые могильщики,
что долбили мерзлый грунт,
подогретые носильщики —
все построились во фрунт.
Покадил священник-дедушка
над покойником дымком...
А потом упала девушка
в снег – беспомощным комком.
* * *
Как бы во сне, на дне развалин храма,
разбитого войной или страной,
лежали мы во власти Тьмы и Хама,
покрытые кровавой пеленой.
Сплетенные корнями сухожилий,
проклеенные вытечкой мозгов —
развратники, пропойцы, пыль от пыли,
лжецы и воры низких берегов.
И дьявол нас вычерпывал бадьею,
как сточные отбросы сплывших лет...
Но и меж сих, отвергнутых Судьею,
нет-нет и брезжил покаянный свет!
Когда утратил я дорогу
и ощутил в крови беду,
ты за меня молилась Богу
и свечку ставила Христу.
Сама уставшая, как пашня,
что возвратила урожай,
ты сохранила нежность к павшим.
Живи, светись – не утешай!
Сама утешься Бога ради.
Дай, загляну в твои глаза.
Останься жить в моей тетради,
как в майском облаке – гроза!
Отмается – не отбуянится,
к земле хлебосольной прильнет,
поэт – не святоша, не пьяница,
а тот, что чирикал без нот.
На ветке, карнизе, на паперти
он пел, оглашая низы,
без веры, надежды и памяти...
И грызлись кремлевские псы!
И дымка плыла ядовитая,
и корчился русский язык,
и песня струилась забытая,
как будто расплавленный крик.
* * *
Любить себя способен всякий,
а кто не любит – тот урод...
Вот и Россия не иссякнет,
пока в ней есть «дурной» народ.
Народ – уродец бескорыстный,
жар сердца сливший на алтарь
Отечества...
В движеньях быстрый
и в мыслях истовый, как встарь!
Вот он спешит по бездорожью,
в глазах нескучных – синь и зной.
И пахнет чудик спелой рожью,
а не сивухой затяжной.
Мать поэта Галина Ивановна Горбовекая в Новороссийске. 1973.
Здесь она скончалась 6 июня 1996 года.
На холме – церквушка-свечка.
Тишина и невеселость.
Иногда – небезупречно —
подает собачка голос.
На вершине снег обтаял,
ручеек – слезой – в низину.
Воробьишки сбились в стаю,
суетятся, дразнят псину.
Милицейский – мимо – «газик»,
в нем, в наручниках – гулена.
Он не просто безобразник —
он из храма спер икону.
С колокольни без напора
ветхий звон зовет на требу...
Две старушки лезут в гору,
норовят – поближе к небу.
* * *
Когда истлеет память обо мне,
а также – явленные мною книги,
я в мир вернусь однажды по весне
цветком – для продолжения интриги.
Чтобы одним расширенным зрачком
на солнце посмотреть и стать неслышно
оранжевым! И проторчать торчком
вторую жизнь, короткую, как вспышка!
ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
Из книги «Остывшие следы. Записки литератора»
Могу без ложного стеснения сказать, что я подо-
шел к нынешним, перестроечным (начало 90-х)
годам очередного безвременья – не опустошенным,
не растерянным, но вполне сориентировавшимся в
себе, а значит, и в ситуации «текущего момента».
И единственным извлеченным из ситуации вопро-
сом, на который мне бы хотелось услышать ответ,
умиротворяющий во мне патриота, это вопрос мно-
гих и многих поколений моей Родины: почему Рос-
сии выпало то, что... выпало? Почему – ей? Неуж-
то – самая смиренная в долготерпении? Самая по-
кладистая, а значит, и самая подходящая для
экспериментов? Этакий полигон для всевозможных
бесовских штучек. Или все-таки – избранница Гос-
подня? Чтобы, как положено, через страдания к
звездам? Ради других народов, которые никогда те-
перь не последуют нашему примеру. А что – дока-
зать миру, что путем насилия нельзя достигнуть бла-
годати земной, – разве не цель, разве не результат?
Разве не стоило во спасение мира пускаться нам во
все тяжкие? Еще как стоило, ибо – зачтется.
Хотя в адресном справочнике Союза писателей
против моей фамилии значится сверхъестественное,
таинственнейшее слово поэт, надо понимать, что
этим словом официально подтверждается моя при-
верженность литературному жанру, а не профессия
вообще. Профессия, надо думать, всего лишь – пи-
сатель (по-чешски звучит как – списыватель).
А метафорой «поэт» как бы высвечивается призва-
ние («Его призвали всеблагие, как собеседника, на
пир»). Вот так, и не меньше, естественно, при усло-
вии соответствия призыву в собеседники. Потому
что здесь недостаточно самолично назваться груз-
дем, чтобы попасть в кузов, то бишь – на поэтичес-
кий Олимп. Да и кто на Олимпе-то у древних греков
восседал? Так себе компашка: не милосердные боги,
а скорее – знать процветающая и убивающая, зевсы
и артемиды, всевозможные мойры и эроты, разъез-
жающие на своих золотых колесницах и разящие
простых смертных стрелами своей вакхической (си-
речь пьяной) любви, любви преступной, эдиповой и
танталовой. С Олимпом – поостережемся. С при-
своением звания Поэта повременим. Здесь необхо-
димо дождаться вынесения общественного вердикта,
подтверждающего чье-либо право называться поэти-
ческим... груздем.
Однако вердикта сего можно и не дождаться.
При жизни. А нередко и после нее. То есть – никог-
да. А поговорить все-таки хочется. О поэзии. Если
не о тайне (таинстве), не о «поэтическом веществе»,
то хотя бы о стихах, о стихосложении. О довольно
странном занятии, которому ты посвятил энное ко-
личество времени. Протяженностью в жизнь. При-
чем – напрасно. Ибо, как выяснилось в конце этой
жизни, все действительно суета сует. И попробуй
опровергнуть библейскую истину любой из нынеш-
них истин «в последней инстанции»: эволюционист-
ско-дарвинской, экзистенциалистской, марксистско-
маоистской... Замучаешься, как говорят в автобусе.
Как дитя своего безбожно-бюрократического века,
объясняясь в любви к поэзии, попробую прибегнуть
к разлюбезной системе анкетирования. Для начала.
Как говорят современные мойры и хариты с герак-
лами, то бишь олимпийцы от бюрократии, – «на дан-
ном этапе». Итак – анкета. Точнее – импровиза-
ция на тему анкетирования.
1) Самое любимое стихотворение – «Выхожу
один я на дорогу...». И здесь естественным будет
спросить: а почему не из Гёте или Шиллера, не из
Байрона или Мицкевича? И хорошо бы мгновенно
признаться: а этих мы не проходили! За семью они
для нашего брата, татуированного интеллигента, пе-
чатями, сии поэтические авторитеты. А из того, что
просачивалось в наши мозги посредством несовер-
шенного перевода, – не впечатляло.
2) Самая любимая поэма – «Мертвые души».
Позвольте, скажут, но ведь это все-таки проза. По-
чему не отделаться, скажем, «Божественной коме-
дией» Данте? Так ведь это ж – комедия... К тому же
речь идет о любимом, а не о лучшем. Сойдемся
на «Медном всаднике».
3) Самый любимый поэт – Александр Блок (по-
чему не Блейк, Бодлер, Бродский или Белый-Бугаев?).
А вот так.
4) Самая любимая поэтесса – Марина Цветаева
(и еще одна, чья книжка стихов «Пустыню перейти»
произросла на моих глазах, а это всегда потрясает,
как если бы кто-то на твоих глазах вознесся на небе-
са – не на пресловутый Олимп).
5) Самая любимая песня – «Выхожу один я...».
Позвольте, укажут мне на повтор. Хотя почему бы и
не повториться? Несолидно? Тогда – «Липа веко-
вая». На данный «текущий момент».
6) Самая любимая (поэтическая) проза – «Тем-
ные аллеи» И. А. Бунина (не Джойса, не Пруста, не
Набокова даже).
7) Самый любимый роман – «Обломов» (чуть
прежде – «Идиот»).
8) Самый любимый признак поэтичности стиха:
метафора, зримая деталь, эпитет, сравнение, музы-
кальность, подсознательные ассоциации, интуитив-
ный бред, формопоиск, «несказанный свет», все
вместе плюс ясность фразы (мысли) даже при рас-
плывчатости рисунка... Интонация личности. Но глав-
ный признак – все-таки убежденческий. Признак
веры. Позвольте, воскликнет литературный дока,
речь-то зашла о признаке стиха как такового, а не о
его сотворителе! Что ж, тогда еще один признак —
признак слитности, нерасторжимости поэтической
воли и поэтического характера стихоматерии.
9) Самое любимое (большое, невероятное) собы-
тие XX века – люди на Луне, первый шаг Н.Арм-
стронга.
10) Самое любимое (благое) событие наших
дней, в нашей стране – встреча М. С. Горбачева с
Патриархом Всея Руси Пименом.
11) Самое нелюбимое (разрушительное) событие
всечеловеческой истории, предопределившее неис-
числимое количество невинных жертв, – Великая
Французская революция с ее вдохновителями-про-
светителями-энциклопедистами во главе с Дидро.
Шутка? Издержки гласности? Да... нет. Всего
лишь – ощущение. Почти энергетическая способ-
ность улавливать (предулавливать, постулавливать)
разрушительные волны катастрофических колеба-
ний мировоззренческой почвы под ногами.
Попробуем теперь проанкетировать что-нибудь
попроще, позаземленнее, хотя и в некотором смысле
литературное. То есть – как бы продлить тему. По-
пытаемся, например, проследить произвольный спи-
сок поэтов, не имеющих собственных (не книг)...
могил.
Итак, где могила Н. С. Гумилева? Или усыпаль-
ница Николая Клюева? А Бориса Корнилова? Где
холмик, венчающий «жизнедеятельность» Осипа
Мандельштама? Да, собственно, и цветаевской мо-
гилки мы не имеем – лишь камень, лишь знак, да и
тот – над ее ли прахом?
Ох, Россия, Россия... Об Индии, где прах усоп-
ших принято сжигать и развеивать, речь не идет.
Итак, Россия... Непредсказуема любовь твоя к
чадам своим. Список можно продолжать, но лучше
высказаться на сей счет при помощи рифм и ритмов,
соответственно теме. И по возможности без употреб-
ления глаголов, то есть – концентрированно.
Россия. Вольница. Тюрьма.
Храм на бассейне. Вера в слово.
И нет могильного холма
У Гумилева.
Загадка. Горе от ума.
Тюрьма народов. Наций драма.
Но – нет могильного холма
У Мандельштама.
Терпенье. Длинная зима,
длинней, чем в возрожденье вера.
Но – нет могильного холма
и... у Гомера.
Легендарная Сапфо персональным захоронением
тоже не располагает. Как, скажем, и поэт-моряк ста-
линской эпохи Лебедев, нашедший смерть в морской
пучине, как Муса Джалиль, Павел Васильев... Всем
им, как и всем остальным (во времени и пространст-
ве) гражданам иных профессий и призваний, колы-
белью, а затем и могилой исправно служит матерь
наша всеобщая – планета Земля. Которую чем дольше
мы любим, тем изощреннее истязаем. Подсознатель-
но воздавая кормилице (не по адресу!) за предна-
чертанное нам свыше, за предопределенное, неот-
вратимое, а главное – нераспознаваемое.
Но – к дьяволу анкетирование! Хочется погово-
рить о сокровенном без социальных придыханий,
как Бог на душу положит. Только вот как это сде-
лать, чтобы – без актуальных соц-спец-добавок?
Все равно что пищу без соли принимать. Неодно-
кратные попытки отстранения в искусстве, ухода от
суеты повседневности ни к чему целительно-мило-
сердному, веросозидающему не приводили, устойчи-
вого, наджизненного утверждения в творчестве,
даже для себя, единого творца-затворника, – не вы-
работали. Наоборот, сооружения типа поэтических
башен из слоновой кости служили не столько собо-
ром или сейфом для сокрытия таинств самовыраже-
ния, сколько способом его выпячивания, элементом
рекламы, ибо людское – для людей, иначе изъясняй-
ся на языке воды, неба, ветра, камня, растений...
Изображаемое создается для восприятия?! Пусть —
наедине, однако наедине со всеми, а не... глас вопи-
ющего в пустыне. В пустыне проще забыть о себе
размышляющем – не о себе функционирующем,
легче очиститься от творческих претензий и обра-
титься к спасителю твоего духа – к идеальной Ис-
тине. «Пустыня внемлет Богу», а не честолюбивым
призывам изглоданного гордыней сердца художни-
ка (изобретателя, дельца, политика, философа и т.
д.), а в нашем варианте – поэта, точнее – стихо-
творца, ибо такое – чаще.
Среди подлинных отшельников (схимников-пус-
тынников, заточников-подвижников) никогда не
было людей, писавших стишки или рисовавших кар-
тинки, ибо творчество есть прежде всего – зависи-
мость от мира людей. А не освобожденность от него.
Соображения сии не есть откровения, однако приво-
дить их время от времени необходимо. Особенно в
контексте наших дальнейших рассуждений о писа-
тельстве как способе самораскрытия.
Еще в середине пятидесятых, литературным под-
готовишкой, сочинил я экспромтом лирическую поэ-
мку под названием «Риторика», в которой хотел
объясниться с прозаическим миром о своем понима-
нии мира поэтического, о профессии стихотворца, о
праве человека заниматься «слаганием стихов». В
общем, один из многих самоутвержденческих опы-
тов, а никакое не «произведение искусства» получи-
лось. Прологом к «Риторике» служило ироническое
двустишие, которое и запомнилось из всего, что со-
ставило то давнишнее лирическое поучение.
Поэзия есть божия коровка,
которую доить весьма неловко.
Выходит, уже тогда сознание было обеспокоено
соображениями этического толка: священное дейст-
во лирического труда может ли оставаться беско-
рыстным, независимым? И ответ, забредший тогда
же в душу: может, если этот труд исповедует любовь
к ближнему, к красоте мира, исповедует, а не зави-
сит от него, тем более – от ближнего или от себя лю-
бимого и т. д.
Спрашивается, а как же тогда обходиться с иску-
шением славой, с ее, наконец, жаждой? А также с
денежным соблазном, который не то чтобы мерещит-
ся, но официально предлагается государством-изда-
телем в обмен на ваши «животрепещущие» открове-
ния? Ведь именно эти «болотные огоньки» (слава,
деньги, успех) сопутствуют профессиональному
поэту, погруженному в «таинство».
Для прояснения мысли (проблемы) стоит огля-
нуться на предшественников. Кого из них можно на-
звать бескорыстным, освобожденным? Федора Тют-
чева, о стихах которого заботились другие, скажем,
Тургенев? (Первая книга Тютчева с тургеневским
предисловием.) До какой-то степени да, освобож-
ден. И прежде всего – от меркантильных нюансов
(дипломат, поместье в Овстуге), но ведь не от тяжес-
ти самого поэтического дара избавлен! От него-то
как избавишься? Разве что при помощи безумия?
Впечатляющ опыт Велимира Хлебникова, одного
из подлинных подвижников «поэтического братст-
ва». Утверждают, что он крайне небрежно относил-
ся к стихотворческим обязанностям, в том смысле,
что таскал листки с текстами в заплечном мешке,
подкладывал их себе под голову вместо подушки,
раздавал, сорил ими... Короче – посыпал землю
поэзией, как голову пеплом. И, однако же, провоз-
глашал себя председателем Земшара. И вообще на-
верняка знал себе цену. Просто попал в «экстре-
мальные условия» мирового катаклизма, имя кото-
рому – Революция, не наблюдал, а самолично
переживал крушение «устоев», мировую разруху,
распад нравов, вызревание хамства, безбожия, бе-
совщины, философии «мое – мне», ненависти к
смирению.
Подлинно бескорыстного, до самоотречения, до
«сердечной прозрачности» жития в поэзии в челове-
ческом понимании этой проблемы я не представляю.
Нет такого чуда в природе. А что же есть? А есть бес-
корыстие и самоотречение «в той или иной степени».
И регулируют в тебе этот поведенческий коктейль
благородные реактивы, как то: вкус, такт, норма,
мера врожденной и обретенной интеллигентности, с
непременной оглядкой на недремлющее око совести.
Другое дело, что в нынешнем «поэтическом воз-
духе» наметилась тенденция перевеса прагматичес-
кого угарного газа над всяческими лирическими
эфемерными наивностями и восторженностями.
Теперь многие в погоне за славой ставят прежде
всего на скандал. Культ скандала возник не сейчас и
не с «желтой кофтой» Маяковского (Есенин тоже
откровенно величал себя скандалистом), а где-то,
скажем, со времен наскальной живописи, когда пе-
щерного художника вместо изображения тривиаль-
ных охотничьих сцен потянуло на изображение
неких экстравагантностей, шокировавших устояв-
шуюся к тому времени мораль. И, глядишь, о ху-
дожнике заговорили... В том числе и... дубинками
по его горбу. А в итоге – вкушение славы всегда в
какой-то мере – осознанный мазохизм, доброволь-
ное самоистязание.
Надо бы назвать современных скандалистов от
литературы поименно, но ведь они небось только
этого и ждут. Страдающие комплексом Герострата в
искусствах любят потоптаться и наследить, скажем,
на белоснежном имени Пушкина, совершая с ним
этакие злодейские прогулки по страницам печати,
или выступают на стотысячной аудитории разодеты-
ми заморскими петушками, попутно употребляя в
своих лирических стихотворениях выражения из
уголовного обихода, свергают «авторитеты», чтобы
с судорожной поспешностью занять их пьедесталы,
мажут дегтем раскрепощенного хамства националь-
ные святыни, короче говоря, ведут себя суетливо,
даже болезненно, на манер бесноватых. Так что и
осуждать их вроде бы грех. И дело не только в «би-
сере», которым не стоит одаривать всех подряд, но и
в эффекте стаи: общаясь с волками, начинаешь не-
вольно подвывать им.
Но главное, видите ли, никого не хочется оби-
жать. Из соседей по веку. И – обнажать. Как на боль-
шой дороге. Современный литпроцесс – это тоже,
видите ли, река, поток. Но ведь современная река
больна. Мутны ее воды и ядовиты. И подтверждени-
ем тому эти строчки, не лишенные дьявольского сар-
казма.
Вчера, побывав у своего отца и прочитав ему де-
сяток страниц, завершающих эту книгу, я несказан-
но был поражен тем, как воспринял он мои сумбур-
ные размышления. О, девяностолетний старец не
стал копошиться в словесных частностях, он ударил
меня под дых и едва не свалил. Как медленно заки-
пал я, наливаясь испарениями гордыни... И все ж таки
устоял, утихомирил ретивое, загнал его в угол, в тот
самый, темный, подвальный угол «нутра натуры».
– Знаешь! – кричал отец. – Знаешь, чего у те-
бя нет?! В сочинении твоем литературном?! Любви!
Любви не слышно... Тепла ее милосердного! Накру-
чено, наверчено, а любви не слыхать! Все слова да
слова, Бог да Бог! А ты вот сам не будь плох! Для
людей Бог – это Любовь!
Отец кричал минут пятнадцать. Мне показалось,
что с ним случилась истерика. И когда он внезапно
затих, озираясь и виновато обхватывая голову ладо-
нями, понял я, что это он – тоже от... любви. Ко мне,
к моей судьбе. Вот он ощутил на страницах писани-
ны холод, иней безлюбия и – воспылал протестом!
И вряд ли его тревога вызвана одним только чуж-
дым ему набором слов, которым воспользовался я в
сочинении. Что слишком редко воспроизводил на
бумаге слово Любовь – не в этом дело. А дело, ско-
рей всего, в дыхании моего письма. Дыхание моего
письма показалось ему тяжелым, отягощенным раз-
личными вредоносными примесями. А легкого дыха-
ния не получилось. Из-за несвободы моей от... не-
любви. Из-за неочищенности моей крови, нервных
клеток и узлов от земных примесей.
Дыхание стиля. Дефицит добра в «механизме»,
осуществляющем сие дыхание. Переизбыток трекля-
того «эго», себя любимого. Житие по Декарту: если
Бога нет, то я – Бог! Стоит хотя бы памятью огля-
нуться – из конца в начало века, чтобы явственно
ощутить некую аритмию стиля, зацепившись взгля-
дом и слухом за прерывистое дыхание русской про-
зы и поэзии времен Великих Потрясений. Кристал-
лически собранный и одновременно язвительный
стиль Василия Васильевича Розанова, особенно в
его письмах, в «Уединенном» и «Опавших лис-
тьях», стиль и тон поэзии Марины Ивановны Цве-
таевой, где короткая рваная фраза, вся в точках и
сломах строка ее стихотворений, то есть письмо, в
котором как бы захлеб «ветром времени», явствен-
ные акценты литературного мышления двух ярчай-
ших стилистов ущербной, убиенной России, где и в
Розанове, и в Цветаевой прежде всего – лирика
мысли, изнасилованной благими намерениями «дру-
зей народа», превративших чуть позже тот самый
народ в запуганную, окольцованную колючей прово-
локой «субстанцию», а миллионы и миллионы из-
бранных – в так называемых «врагов народа».
И тут же захотелось высказать ересь: с возвраще-
нием (обнародованием) трудов В. В. Розанова, Н. Бер-
дяева, К. Леонтьева, Вл. Соловьева, П. Флоренского,
Н. Ф. Федорова, Н. Гумилева, В. Ходасевича, Геор-
гия Иванова и др. нам не столько дают, сколько
лишают нас тайны «запретного плода», прелести де-
фицита, тяги на их потусторонний берег, в их тускло
мерцающую полуявь. Делают сказку былью.
Мечту – предметом пользования.
Нет, что ни говори, а дыхание (личностное —
мысли, интонации) требует немедленной передыш-
ки. Необходимо набрать воздуха. То есть расстаться
с Книгой, чтобы не задушить ее «кормящей грудью» до
потери пульса. Ибо мало-помалу, исподволь начинает
тянуть на бред, в словесную заумь. Что не входит в
наши планы. Вчерашняя встреча с отцом подтверди-
ла мои сомнения в пользе второго, «искусственно-
го» дыхания, в продлении «крика» самовыражения
путем самоистязания. Прав отец: маловато любви в
моих чернилах, а количества этого «витамина» путем
разумных добавок не восполнишь. Даже прямым уко-
лом в сердце. Для любви необходимо созреть. И дай
Бог, чтобы это случилось при жизни. То есть – на
ее «вещественной», дарвинистской половине.
СОДЕРЖАНИЕ
Николай Рубцов. В гостях....................5
КОГДА КАЧАЮТСЯ ФОНАРИКИ НОЧНЫЕ...
50 – 60-с годы
Фонарики ночные..........................9
Юность................................ Ю
Визит. Из цикла «Незабываемый 37-й».......... 11
На Смоленском кладбище................... 12
Моей соседке............................ 14
« Ребенок вымочил усы...»................... 15
« Если есть они, глазастые...»................. 16
Поэт из коммуналки....................... 17
« Мы сидели чинно в парке...»................ 19