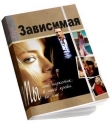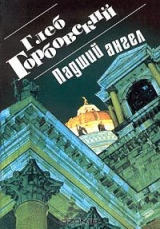
Текст книги "Падший ангел "
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
ли под имущество «вольняшек», то есть вольнонаем-
ных, работавших в колонии; играли на побег, когда
проигравший обязан был перемахнуть через забор.
Совершившего побег тут же под холостой выстрел
«попки» (стрелять в малолеток не разрешалось) от-
лавливали и учили, как могли, водворяли в «кан-
дей» – карцер. Играли на «велосипед»: проиграв-
ший мастырил какому-нибудь спящему, на кого вы-
игравший укажет, «велосипед» – промеж пальцев
ног спящего («сонника») вставлялась и поджига-
лась бумажка, спящий, которого начинал кусать
огонь, выделывал ногами движения, напоминавшие
движения велосипедиста; играли на удар спящего
человека каблуком ботинка по лбу, на облив уснув-
шего водой из ведра... Играли и на порез ножом ак-
тивиста, на «сажание на пику», играли и под убий-
ство. Но – крайне редко.
Ясное дело: подобные воспоминания не греют.
Эстетического удовольствия не доставляют. Читать
их необязательно. Но разве я вправе забыть о пере-
житом? Забыть о страданиях не только своей, но и
чьей-то еще, более печальной участи? Загубленной
юности? Забыть о происходящем в подобных заве-
дениях и поныне? Да, да, смею не только предпола-
гать, но и уверять: изменилась лагерная терминоло-
гия, «феня», увеличилась пайка, усовершенствова-
лась технология производства карт, допускаю, что
колонистский быт сам по себе сделался благообраз-
нее, но ведь сама-то антигуманная суть этих калеча-
щих, а не воспитывающих заведений, губительная
для ребяческих душ, – она-то осталась незыблемой
и поныне! Вот почему я вспоминаю, почему навязы-
ваю: чтобы не повторилось с другими. А не потому,
что мне приятно дышать испарениями прошлого. Да
и не стану я продолжать о колонии, довольно тоски,
достаточно печали, как говорили немцы за своим за-
бором: «Генук!» (Будя, пожалуй, – это если выра-
зиться по-русски.) Добавлю только, что из колонии
я убежал. И, как говорили у нас в городе Марксе,
убежал «с концами». И правильно сделал. Своевре-
менно. До того, как моей душе проржаветь на-
сквозь, а ведь именно это ожидало ее в зоне. И еще:
стихов о колонии, тюрьме, вообще об арестантском
унижении человеческого достоинства я так и не на-
писал. Ни одного. За сорок лет сочинительства. Не
вдохновило.
Глеб ГорбоккмН па публичных нмстуилснпях. 1990-с годы.
Фото Пантелеева.
7 0 —8 0-е годы
* * *
Вы ему – о Шекспире,
а он вам – по морде.
Вы – наслове, на лире,
он – на сексе, на спорте!
Вы ему – о Мадонне,
а он вам – о мясе.
Вот где душенька стонет,
вот где радость-то гаснет!
Вы ему – о рассвете,
о берёзе, о Боге...
Хорошо, что есть дети.
И – могилы. В итоге.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Забор. Бумажки. Кнопки. Тетки.
«Сдаю мочу».
«Лечу от водки».
Читаю, словно блох ищу:
«Куплю жену. Озолочу».
Имен и чисел кавардак.
«Подвал меняю на чердак».
Опять... жену! Вот сукин... дочь!
«Могу от немощи помочь».
Восторг! Куда ни кину глаз.
«Продам хрустальный унитаз».
А вот эпохи эталон:
«Есть на исподнее талон».
...Забор кряхтит, забор трещит
под гнетом суетных желаний.
Он – наша крепость, символ, щит!
А меч... дамоклов меч – над нами.
Нет, не посулам-почестям,
не главам стран и каст, —
я верю Одиночеству:
уж вот кто не предаст!
Лесами, сенокосами,
дворами (мимо, прочь!)
я сам в себе, как в космосе,
блуждаю день и ночь.
Без суеты, без паники,
порой – не без нытья,
без нудного копания
в завалах бытия
тащусь к мечте утраченной
в промозглые дворы,
к заветному стаканчику —
звезде моей норы!
Тревога позже родилась,
когда уже уплыл автобус.
Ночь навалилась, точно власть.
Дождь по асфальту так и хлопал!
Землетрясение души —
тревога!
Где твои начала?
Не в зарожденье робкой лжи,
а в том, как женщина молчала...
Как безучастно, а не зло
с лица она сгоняла воду.
И как смотрела сквозь стекло —
не на меня – на непогоду.
«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ»
На заборе, не при деле,
на осеннем ветерке,
люди лучшие висели —
от плохих невдалеке.
Фотографии поникли,
пробрала их, с ветром, дрожь.
И серьезные те лики
поливал осенний дождь.
А в квартирах в это время
люди худшие, в тепле,
потребляли чай с вареньем...
Словом – жили на земле.
А меж тем и этим братством,
сам не свой, стоял поэт...
И решал: куда податься?
Середины-то ведь нет!
ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ РУБЦОВА
В березовой рубахе,
в душистых сапогах
идет полями пахарь
с букетиком в руках.
Несет своей любимой
свой васильковый смех...
И вдруг – проходит мимо
ее, меня и всех...
Идет, уходит пахарь.
Дай Богему – всего...
И пролетают птахи
сквозь тень и плоть его.
Возвращение в дом, под родное крыло, —
неизбывная тема российских поэтов.
Возвращаюсь и я, оставляю седло.
Натыкаюсь на серую руку соседа.
Открываю ударом забитую дверь.
Опускаюсь на темную лавку вдоль окон.
Из-под печки доверчиво выбежал зверь, —
здравствуй, серая мышка! И ты – одинока?
С голосистым ведерком иду за водой,
раздуваю живительный жар в самоваре...
На стене фотография: дед молодой —
молодой принаряженный дедушка-парень.
...На кого он похож? На царя? На меня?
Где мы с ним разминулись
средь белого дня?
6-2868
Г. В. Мельникову
У дороги, у самой развилки,
возле самого скрипа колес,
из-под снега торчала травинка...
Неуютно ей нынче жилось.
Тело травки пружинило ловко.
Не сломал ее ветер, не смял.
И торчала на лысой головке
уцелевшая одра семян.
...Я стоял, говоря ей «спасибо»,
и стыдил свое сердце: «Смотри,
одиночество – это не гибель,
это мужество, черт побери!..»
РОЖДЕСТВО
Край неба – и звезда
в углу, как на конверте.
Рождение Христа —
спасение от смерти.
Снег. Прошлое. Мороз.
Мир распрямляет спину.
Нельзя смотреть без слез
на русскую равнину.
В сугробе, как пенек,
избушка в платье белом.
Но вспыхнул огонек
в окне заиндевелом!
Живи, Земля, живи.
Добра, сияйте, знаки.
Рождение Любви —
прозрение во мраке.
...Ему – людской тоской
быть на кресте распяту.
Тебе – своей рукой
возжечь в ночи лампаду.
МАДОННА
Я встретил женщину. Она
который год была пьяна.
Она была больна, негожа,
но... с Богородицею схожа.
В ее глазах – и свет, и мука,
и с сыном истины разлука.
В ее руке лежал пятак.
Она еще робела, клянча.
Так рысью вдруг припустит кляча
и вновь плетется кое-как.
И стал вопрос передо мной:
не ты ли, брат, тому виной,
что мать людей, ничья жена
в такую боль погружена?
Ты разве с болью той знаком,
чтоб откупиться пятаком?
И мог бы ты, ради Христа,
поцеловать ее в уста?
Светлане
Это были не райские кущи, ей-ей:
за больничной оградой десяток растений...
Я увидел ее в перехлесте ветвей,
и упала душа на колени.
В этой горсточке женского тела, в цветке
мне навстречу такие глаза горевали!
И такая большая усталость в руке
ощущалась, когда мне ее подавали.
Здравствуй, солнышко, встретились мы наконец:
гореванье твое и мое гореванье
будем вместе сгонять с опаленных сердец,
будем вместе! Союз – упованье.
Это только казалось, что страшно упасть,
а упал – и опять снизошла к тебе милость.
Я целую тот дворик в кирпичную пасть,
тот мирок заповедный,
где ты мне явилась.
КТО ОН?
По дороге возле неба,
по остаткам гор и рек
пробирается нелепый,
нестандартный человек.
На устах его – улыбка,
за плечами – только тень.
По запарке, по ошибке
он не ест который день.
Он целует снег бесшумный,
у костра ласкает дым...
«Он – безумный, он – безумный!» —
кто-то каркает над ним.
...Ремешком к нему собачка
кое-как прикреплена.
«Эй, здорово, неудачник!» —
кто-то ляпнет из окна.
А ему одна забота:
улыбаться всем подряд...
«Идиот он, идиот он!» —
даже дети говорят.
В деревнях глухих, кондовых
все его – из века в век —
принимают за святого,
зазывают на ночлег.
А иных проймет досада:
«Кто – он?» – шепчут, пряча злость.
...Кто зажег цветы над садом?
А – никто... Само зажглось.
МОНУМЕНТЫ
Особенно зимой, когда на площадях
метелица, а в сквере запустенье,
когда на бронзовых глазницах и грудях
распространится инея цветенье, —
как жалки ваши полые тела,
покрытые зеленкой трупных пятен,
в потеках голубиных, в метах зла
беззлобного, чей принцип столь невнятен.
Вот дедушка Крылов, вот с рожками сатир,
вот Афродита с патиной на ручках, —
как робко вы сейчас взираете на мир,
бездомные и в снежных нахлобучках.
...Вот бабушка с клюкой, живая, через сад,
скрипят ее шарниры, ноют кости,
но вечным бытием ее пропитан взгляд,
и зябко ей меж вас, как будто на погосте.
ПРАЗДНИК В МИХАЙЛОВСКОМ
Мертвых елок на помойке
рассыпаются тела.
Стихли знойные попойки,
снедь слиняла со стола.
Баба хмурая, как буря,
что прошла над городком,
на крыльце стоит и курит,
посыпая матерком.
Нищих нет. У павильона,
запихав бутыль в штаны,
на снегу уснул гулена
в ожидании весны.
Воробей над ним поплакал,
капнув белым на треух.
Подошла, зевнув, собака,
проворчала: «Вот лопух...»
Участковый дядя Коля
прочитал пивцу мораль:
«Замерзай, но выйди в поле —
за черту! Задвинься вдаль!
Не тревожь народ, скотина,
под святое Рождество!»
...Новогодние картинки.
Праздник. Только и всего.
* * *
Розовела вода в свеженалитых лужах.
Молодая кобыла в пространстве умытом
пробегала, вжимая пушистые уши,
колотя по воде сумасшедшим копытом!
Молодая трава на глазах удлинялась,
вылезая наружу из мрака отверстий.
Молодая земля, как волчица, линяла,
обрастая на солнце зеленою шерстью.
Убегала дорога рассвету под брюхо.
Над дорогою птицы вершили балеты...
А внизу, на дороге, стояла старуха.
И была она – внешне —.древнее планеты.
И внезапное в сердце вошло ощущенье,
что не кровь пробегает по жилам, а время!
И что всякая радость достойна прощенья,
потому что за ней – увядания бремя.
МАТЕРИ
Предвоенные дождики лета,
на Варшавском вокзале цветы!
...Я впервые на поезде еду.
Десять дней до Великой Черты.
Провожает меня, задыхаясь
от улыбок и жалобных слез,
мама... мама моя молодая,
золотой одуванчик волос!
Умоляла попутчиков слезно
присмотреть за мальчишкой в пути...
Слышишь, мама, гудок паровозный?
От вагона, дружок, отойди!
...Мы расстались. И время проворно
понесло нас по рельсам своим.
Напиталась война... И тлетворный
над дорогой рассеялся дым.
Далеко мы заехали, знаю.
До седин. И тебе не в укор —
всё я вижу: не ты, а иная
провожает меня до сих пор.
Вижу лето и солнце, как мячик,
над перроном. И люди в купе.
Золотистых волос одуванчик
все мелькает в нарядной толпе.
Провожает меня исступленно,
за окном продолжает бежать
И уже до последнего стона
будет в жизни меня провожать.
РУКИ
Стареют прежде руки: мы их видим.
Лицо нам заменяют зеркала.
В обратном, искаженном, плоском виде —
зеркальной сказкой молодость прошла.
А руки... В шрамах, линиях, узорах —
в подробностях! – они и в смертный час,
уложенные накрест перед взором, —
последнее, что видит влажный глаз.
ТЕБЕ, ГОСПОДИ!
Бегу по земле, притороченный к ней.
Измученный, к ночи влетаю в квартиру!
И вижу – Тебя... И в потемках – светлей.
...Что было бы с хрупкой планетой моей,
когда б не явились глаза Твои – миру?
Стою на холме, в окруженье врагов,
смотрю сквозь огонь на танцующий лютик.
И вижу – Тебя! В ореоле веков.
...Что было бы с ширью полей и лугов,
когда б не явились глаза Твои – людям?
И ныне, духовною жаждой томим,
читаю премудрых, которых уж нету,
но вижу – Тебя! Сквозь познания дым.
...Что было бы с сердцем и духом моим,
когда б не явились глаза Твои – свету?
Ласкаю дитя, отрешась от страстей,
и птицы поют, как на первом рассвете!
И рай различим в щебетанье детей...
...Что было бы в песнях и клятвах людей,
когда б не явились глаза Твои – детям?
И солнце восходит – на помощь Тебе!
И падают тучи вершинам на плечи.
И я Тебя вижу на Млечной тропе...
...Но что б я успел в сумасшедшей судьбе,
когда б не омыла глаза Твои – вечность?
Глеб Горбовский на отдыхе в г. Ока-па-Сахалнпс. 1958 г. Здесь
в геологических партиях рождались стихи и песни, но только
малая часть из них вошла в первую книгу поэта-геолога «Поиски
тепла» (1960). Горбовский входил в знаменитое «Горняцкое
ЛИТО» Глеба Семенова, выпустившего в 1957 г. крамольный
поэтический сборник, весь тираж которого был уничтожен
за публикацию стихотворения Л. Агеева «Дорога в небо».
Глеб Горбовский причислял себя к «ГЛЕБгварднп
СЕМЕНОВского полка».
В ОМУТЕ СТИХОПИСАНИЯ
Из книги «Остывшие следы. Записки литератора»
Добивая шестой десяток лет, все чаще ловлю себя
на крамольной мысли: не хочется жить. Устал, прито-
мился. Голова кружится. И если бы – от вина или
успехов. В основном – от сужения сосудов. В по-
ходке – неуверенность. Зубы пропали, стерлись.
Зрение на исходе. Слух перерождается в шум. Ко
всему еще – неуверенность: на ту ли карту поста-
вил, принимаясь за писательство? Не правильнее ли
было просто задуматься... лет этак на пятьдесят?
Лежа на продавленном диване и размышляя о том
же, только – без применения письменных принад-
лежностей и неизбежной писательской маеты?
В зеркало посмотришь – смотреть противно:
лицо расплылось, испортилось. Хоть не брейся. Не
по этой ли причине люди бороды отпускают? Чтобы
не видеть себя? Прежнего, ускользающего? И вообще
суета сует, только без начальных прелестей жизни:
без трепета первых любовных свиданий, без первой
пойманной рыбки в реке, первой земляничины ду-
шистой возле старого, сухого пня, без первой соло-
вьиной трели, пробудившей в тебе прекрасные чув-
ства, без первой военной бомбежки твоего детства,
да мало ли без чего, без каких неповторимых откры-
тий и событий земного присутствия предстоит тебе
жить отныне, теперь, когда все ясно, все понятно.
Как бы все. И как бы ясно. И чудеса – разве что в
кино или в приключенческих книгах, читать кото-
рые не то чтобы не хочется – нету сил.
Мрачноватый пассаж. Но – достаточно искренний.
Не можется жить, однако живешь. Спрашивается —
почему? Что прежде всего побуждает? А вот что:
любовь. Лица детей. И не только своих собствен-
ных. Это раз. Поиски Бога, в которые ты углубился,
будто в девственную тайгу, и далеко зашел. Это два.
И призывы твои в теологических дебрях небезответ-
ны, ибо отклик – в тебе же самом; и нельзя повер-
нуть обратно, не из-за потери ориентации, а потому
что, подобно бабочке, стремишься на свет из тьмы.
Что еще удерживает? Красота. Скажем, весенний
гулкий лес, полный надежд и ликующих звуков.
Или живое колыхание океана, морской волны —
именно так вздымается грудь дышащей планеты.
Что еще оставляет нас на жизненной тропе иллю-
зий в минуты отчаяния и невыносимой усталости,
что не дает сорваться в непроглядное, усыпляющее
окошко манящей трясины забытья? Что – помимо
страха? Лично меня – мания сочинительства (в от-
личие от мании величия), благословенный «миро-
творящий», словосозидательный кайф. Какое-ни-
будь внезапное сочетание слов, образующее поэти-
ческий смысл, насквозь пропитанное тем или иным
чувством – умилением, верой, раскаянием, любо-
вью опять же. Не воспоминания о таких мгновениях
возбуждают, не ностальгия по ним, а как раз пред-
чувствие оных!
Покуда живет в тебе предчувствие творца, созида-
ющего начала, все твои мечты о смерти несостоятель-
ны и отдают если и не кокетством, то наивностью.
Итак – сочинительство. То есть – служение магии
слова. В частности – магии рифмованного слова,
поклонение стиху. С чего началось – помню смут-
но, а вот когда и где – отчетливо. На заре туманной
юности, в деревне...
Внешне выглядело таким образом: возле жнлнн-
ской начальной школы, под двумя большими, «до-
родными» плакучими березами, в зарослях круши-
ны и орешника «произрастала» аккуратная рубле-
ная подсобная избушка.
Представляете, четыре года скитаний, трупный
смрад и пепел, сквозные и рваные раны, окоченев-
шие трупы повешенных, пустыри и пожарища, без-
домье и нары лагерно-барачного кромешного быта, и
вдруг – собственный уютный уголок. Причем не
комната, не квартира, а дом. Домик в два оконца.
Дощатый стол.
Вот так и получилось: сел за стол, посмотрел в окно,
по которому тихо слезился нежный, вкрадчивый лет-
ний дождь. И захотелось что-нибудь впервые сочинить.
Выпросил у отца дефицитную по тем временам
школьную тетрадочку, сел за стол, «окинул взгля-
дом кабинет» и... не сходя с места, начал «слагать»,
выдав к вечеру пяток «стихотворений», главным
свойством которых было разве что элементарное за-
нудство, этакий ритмический бубнеж, навеянный
однотомником И. С. Никитина, блатными «жалос-
тливыми» песнями поездных инвалидов. До сих пор
при воспоминании того изначального, исходного
«писчего» момента удивляюсь собственному бес-
страшию, с которым ринулся в беспросветный омут
стихописания. Знать бы, чем все это обернется, ка-
кие дивиденды приобретешь, каких радостей жиз-
ненных лишишься «на почве сочинительства», —
подумал бы хорошенько, прежде чем выводить пер-
вую строку приблизительно такого содержания:
Прилетели грачи. Отчего мне так больно?
Над погостом слепая торчит колокольня...
и т. д. – по открытке с саврасовских грачей, которые
прилетели.
Что еще толкнуло? И почему не в сторону ком-
мерции, изобретательства, воинской карьеры? Од-
ному Богу известно.
Настораживает и одновременно обнадеживает
другое, а именно – выбор темы: полуразрушенная,
испоганенная, изглоданная непогодами, безмолвная
и безглазая сельская церквушка со сшибленным
крестом, приспособленная под хранилище картош-
ки. Далее – стихи о развалившейся, с торчащими
ребрами лодке, о лодочном скелете, и еще – целая
поэма о покинутой деревне Кроваткнно («Мертвая
деревня»), что в пяти верстах от Жилина – на глу-
хой лесной поляне, деревня-призрак, без единого
жителя, поросшая бурьяном, вернее – проросшая
им насквозь, потому что крапива, полынь и прочий
чертополох лезли из щелей избушек, из окон и две-
рей, как щупальца смерти. Все это не столько стра-
шило, сколько настораживало: и это – Жизнь?
Что-то было, какие-то смыслы:
то ли хутор, а может – погост?
Эти выступы почвы бугристой,
словно формулы, буквицы, числа...
И – трава в человеческий рост.
Как видим, сюжеты прихлынули не из изящных.
Отсюда, полагаю, и мое дальнейшее пристрастие —
тащить в стихи все ущербное, униженное, скорбно-
неприглядное, измученнее непогодами Бытия. И уж
если какая красивость и вспыхивала на странице, то
и не сразу ее хотелось гасить, топтать – вычерки-
вать, потому как – несоответствие завораживает.
А стало быть, и впрямь прекрасное – из глубин
жизненных, тогда как идеальное – от созерцания
примет бытия: цветка, чьих-то глаз, звезд небесных,
творца, подразумеваемого и предощущаемого.
Отец, на которого я безжалостно пролил свои
первые лирические опыты, поначалу пришел в ужас,
подвергся панике, решив, что с этого дня я непре-
менно заброшу обучение по школьной программе,
нравственно сгину, оставшись неучем. Тогда же за
ужином был поднят вопрос о предании крамольных
опытов огню. Но было уже поздно: я вкусил. Не
просто заупрямился, но подвергся сладчайшему из
соблазнов. То есть – посягнул на ремесло – сродни
божественному. И вот что удивительно: оба мы —
отец, одержимый рациональной заботой моего обу-
чения наукам, и я, бессознательно окунувшийся в
сочинительство, – ставили перед собой одну (в
итоге) цель – вытащить меня из растительно-жи-
вотного состояния, то есть отслоить от природного
мира «чистой материи», где настоящее – миг еди-
ный, а то и вовсе ничто, отслоить и передать в мир
духа, в царство интеллекта, где проживал бы я, по
крайней мере, в трех измерениях – в настоящем,
прошлом, будущем, а если повезет – и в воображе-
нии, то есть в мире образов и в мире фантазий.
Чтобы я в конце концов не просто задумался, но от-
важно спросил себя: кто я, человек? И не менее от-
важно ответил: аз есмь мысль, воля и совесть подо-
бия божия, малая ее искра.
О духовной сфере бытия с некоторых пор хочет-
ся высказаться определеннее. Не для того, чтобы
«закрыть тему», а для того, чтобы не зябнуть в даль-
нейшем от постоянных сомнений. И предчувствий.
Сказать определеннее о нематериальном – значит
заземлить высокое, горнее, породнить (или столк-
нуть?) небо с землей. Скажем, словесно озвучить
какую-нибудь тяжелую, нержавеющую, из благо-
родного материала мысль вроде: «Труд есть одухо-
творенная материя». Подтвердив эту мысль возник-
новением из «мысленного небытия» любого из
предметов, окружающих нас в жизни, – каранда-
ша, стакана, шляпы, книги, лампы, часов, ибо что
они, как не воплощенная воля, задумка, идея, фан-
тазия разума, отлитая в определенную форму?
Отец недавно рассказал про смерть своего това-
рища, солагерника, побывавшего, как и отец, в «ежо-
вых рукавицах». Умирал этот человек уже стари-
ком, в домашней обстановке, в своей постели – где-то
в конце семидесятых. Умирал убежденным атеистом,
причем атеистом-спорщиком, атеистом-пропагандис-
том. И тут необходимо сказать, что с моим отцом этот
бедолага, несмотря на прочную житейскую дружбу,
в одном вопросе никак не сходился, постоянно выяс-
нял отношения, даже конфликтовал, а именно – в
вопросе о местонахождении на земле... Бога.
Философствовали, как правило, за вечерним чаем
в компании сверстников, то есть людей пожилых,
прошедших отпущенное судьбой от края до края.
Беседы свои душеспасительные иронически имено-
вали журфиксами. На одном из таких журфиксов
товарищ отца, долго и безнадежно хворавший опу-
холями внутренностей, воскликнул из глубины
кресла, в котором полулежал, принимая посильное
участие в чаепитии:
– Где он, этот ваш... благодетель?! В каком из-
мерении пребывает? И есть ли ему дело до нас? По-
чему тогда носа не кажет? Не напоминает о себе? Где
его царство-государство расположено? В какой га-
лактике, если не здесь, не на грешной земле? В ка-
ком мире его искать? В какой мгле?!
Тогда мой отец отвечает больному словами Христа:
– Царство мое не от мира сего.
– А где же тогда?! На луне, что ли? Если оно
есть, то кто-нибудь наверняка его видел или слышал
о нем. Кто, кто, помимо мифического Христа и лите-
ратурного Данте Алигьери, может сие подтвердить?
Чтобы – конкретно! На ощупь! А коли нельзя ни
увидеть, ни потрогать руками, то и... заткнитесь вы
со своим Богом!
Однако отец не собирался уступать позиции. Оба
теперь стояли на краю жизни: отцу – за восемьде-
сят, его оппоненту – чуть меньше, но у последне-
го
го – болезнь, из которой выбраться не чаял. Терять
обоим, кроме души, было нечего. Вопрос они тере-
били, выражаясь социальным языком, архиважный,
не просто отстраненно-мировоззренческий, но кон-
кретно-гамлетовский: быть им или не быть в гло-
бальных масштабах, а не в мелких, земных частнос-
тях? И тогда отец спросил товарища:
– Вот говоришь – нельзя пощупать... А ска-
жем, пришла тебе в голову мысль, ну хотя бы эта
самая, о прощупывании. Ее-то, мысль, можешь ты
прощупать? Пальчиками? К тому же – откуда при-
шла? Не с неба же свалилась? Или вот... внука свое-
го, Андрюшку, любишь. Любовь к нему в твоем
сердце имеется. А ты ее видел когда-нибудь, любовь
сию конкретную, глазами своими близорукими?
Хотя бы при помощи очков? Так где же она? В доку-
ментах, удостоверяющих личность? В сердце она
твоем! Вот и... Бог там. Или, скажем, ненависть к
врагам своим. Взвешивал ты ее на весах справедли-
вости? Сколько ее потянуло? И в каком она вещест-
венном виде – навроде песка или жидкая? Да и сам
ты на свете – кто? Мешок с костями и требухой или
носитель всевышней воли, мысли, века пронзающей,
воображения, переносящего тебя хоть на Марс, хоть в
колхоз «Светлый путь», совести, не позволяющей
тебе до конца дней терять образ «венца природы» —
человека? Ведь и ее, совесть-то, кстати, не ущип-
нешь, не прикинешь на глазок, не обработаешь на
вычислительной современной машинке!
Вот такие беседы, такие журфиксы, такие страс-
ти. На последнем витке движения вокруг солнца (не
вокруг же себя?).
Без веры в бессмертие души человеческой не
только умирать – жить тяжко, даже молодым. А с
возрастом – не только тяжко, но и невозможно. И
тут важно будет спросить Небо (не воздух же): всем
ли на земле дается такая возможность – поверить в
бессмертие человеческого духа? И, не задумываясь,
ответить: да, всем! Даже самым нерадивым, с под-
слеповатым разумом:
Увы, не каждое творенье
слывет бессмертным наяву,
но всем доступно утешенье —
в стремленье духа к Божеству!
...В армию призвали меня весной пятьдесят пер-
вого. За три года армейской службы мне удалось отси-
деть на гауптвахте двести девяносто шесть суток. Все-
му причина – дерзкое поведение. И конфликтовал
я не с начальством, а так сказать – с миром вообще.
Начальство, наоборот, только сдерживало мои поры-
вы и, когда надо было судить «разгильдяя» трибуна-
лом, смягчало впечатление от содеянного мной.
Губило меня анархическое состояние духа, по-
черпнутое не только на «театре» военных действий
или в бегах по белу свету, но, как я теперь понимаю,
отпущенное мне природой. Этакое душевное качест-
во вольноопределяющегося. Поступки мои в основ-
ном были трех категорий: совершаемые против
тупой сержантской муштры, затем – творимые «по
пьянке», а также – из жажды свободы. Имелись
еще порывы на любовной подкладке, когда тяга к
определенному существу женского рода застилала
не только глаза, разум, но и чувство ответственнос-
ти, то есть – страха.
Что меня спасало в армии от потрясений более
ощутимых, от наказаний тюремных за все мои вы-
крутасы, от последствий, которые шли за мной по
пятам? Как ни странно – стихи, то есть и они тоже.
Прекраснодушная Муза, взявшая надо мной покро-
вительство. В момент, когда над моей головой до
предела сгущались тучи, милосердная Муза подска-
зывала залихватский стишок в полковую газету или
заставляла выступать на политинформации с лек-
цией о творчестве великого русского поэта Некрасо-
ва (бывшие урки, когда я им напевал «Меж высоких
хлебов затерялося...», неподдельно плакали); Муза
писала за меня сценарий праздничного концерта,
пересыпанный бойкими частушками и пародиями на
«актуальную тему». И глядишь – на груз многочис-
ленных взысканий наслаивалась очередная благо-
дарность, исходившая, скажем, от начальника
политотдела, которая и покрывала своей весомостью
тяжкие грехи моей солдатской молодости.
Стихи в армии писал я двух планов: для печати и
для «народа» – для своих друзей-сослуживцев.
Двойная мораль в творчестве была тогда как бы за-
программированна общественной моралью, о так на-
зываемой, буржуазного происхождения, «свободе
творчества» никто даже не помышлял всерьез. Все
еще было актуальным понятие «неосторожное сло-
во», которое не только не печатали – за которое да-
вали срок. Мои стихи «для печати» резко отлича-
лись от «народных» своей причесанностыо, благооб-
разностью и совершенной бессердечностью.
Мертворожденные – так бы я окрестил их с высоты
утраченного времени. Самое удивительное, что
стихи эти... не печатали. Ни «Советский воин», ни
«Советский моряк», ни «Работница» с «Крестьян-
кой». Вот уж действительно – Бог уберег. В этих
непечатавшихся «печатных» стихах было все, что
нужно редактору того времени: верность Родине;
кремлевские елочки; бесстрашный юный воин, охра-
няющий склад с припасами; величавая Нева, по ко-
торой солдат грустил. Сталина, правда, в них никог-
да не было: сказались жилинские, за вечерним само-
варом беседы с отцом, у которого за восемь лет
лесоповала сложилось об этом человеке определен-
ное, весьма далекое от поэтических идеалов мнение.
Не присутствовало в печатных стихах разве что...
поэзии. Искреннего чувства. Не ночевало оно там.
И вот что примечательно: стихи эти исчезли. Все до
единого. Смыло их, как серую пыль с лица земли.
Не сохранилось при мне ни единого листочка с их
начертаниями. И как же я благодарен тем литкон-
сультантам из «Советского воина» и «Работницы»,
раскусившим мои гнусные намерения – выдать
рифмованное вранье за крик души.
Стихи второго, «народного» плана были непечат-
ными по другой причине: из-за своей безудержной
откровенности, из-за присутствия в них так называе-
мых непечатных слов. То есть совершенно иного рода
крайность. В дальнейшем, на пути к профессиональ-
ному писательству, мне постоянно приходилось сбли-
жать обе крайности, как два непокорных дерева,
грозящих разорвать меня на две половины. И слава
Богу, что одно из этих деревьев оказалось в своей
сердцевине гнилым и треснуло, обломалось. Так что
и сближать в себе с некоторых пор стало нечего, а
вот очищаться от бесконечно многого – пришлось.
Под знаком очищения от самого себя, от наносного в
себе и прошла моя «творческая деятельность», и
процессу тому не вижу завершения при жизни.
Из тогдашних стихов «народного» плана наибо-
лее характерным опусом являются стихи, ставшие
довольно известной песней (в определенных кругах,
естественно) «Фонарики».
Что дала мне служба в армии? Многое. Закалку,
мужество, смекалку, дополнительную выносливость,
уроки братства, ростки скептицизма и цинизма, нос-
тальгию по свободе подлинной и презрение к свобо-
де мнимой, хотя от запаха гнилых портянок я и до
службы не морщился. А что взяла? Гораздо меньше.
Остатки иллюзии. Поскребки детства... Плюс —
равнодушие к слову, научив в какой-то мере отли-
чать слово продажное от слова сердечного.
Отчизна в поисках кормильца
читает лозунг на стене.
Бюрократические рыльца
желают лучшего стране.
А что – народ? Сыны Отчизны?
...Как бы присутствуя на тризне,
по вынесении икон, —
усердно варят самогон.
ВОЗЛЕ МОНУМЕНТА
Глас истины
ненастным летом
заслышал я среди громов:
«Поэту должно быть поэтом,
а не властителем... умов».
Слыл уникальным, гениальным,
слепым, как дождь,
родным, как грусть,
а стал, увы, – официальным...
И что в итоге?
Пуля в грудь.
Летал, как кенар, в желтой кофте,
клеймил насмешкой пошлый быт!
А быт уже готовил когти...
И что в итоге?
Был убит.
...Стою на площади московской
в дождливый час, в дождливый век
и вижу: плачет Маяковский —
монументальный человек.
При жизни был кумиром, бонзой
среди поэтов!
Жил грешно...
А что в итоге?
Плачет бронза...
И нам, ей-богу, не смешно.
ВО ХРАМЕ БЫТИЯ
Во Храме Бытия,
где голубеют своды,
не замер камнем я
и не истек, как воды.
Свечою не оплыл
и не опал листвою...
Не гением прослыл,
а – лишь самим собою.
Срывал и я плоды,
тщетою мозг мороча,
но были мне черты
небес – милее прочих.
Не избегал утех,
боготворя земное,
но лица женщин всех
сошлись в одно – родное.
Немало стран узрел,
кочуя и бытуя,
но лишь одну воспел —
Россию, Русь святую.
...Во Храме Бытия,
где фимиам и сера,
ликует плоть моя,
но – торжествует вера!
ФЕВРАЛЬСКИЕ СТИХИ
Февраль. Холодные стихи.
Слова, подтаяв, ждут доводки.
Давай серьезно, без хи-хи
сегодня выпьем белой водки.
Прозрачной, страшной, как любовь,
берущей за душу, как песня!
Февраль, стихи – огрызки слов.
Идей заиндевевших плесень,
труха осклизлая идей...
И ложь в зубах: «Люблю... лю-дей...
Что ж, пожито весьма!
И не сулят бессмертья
ни проблески ума,
ни всплески милосердья.
И если оглянусь
разок перед уходом,
то – на Святую Русь,