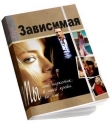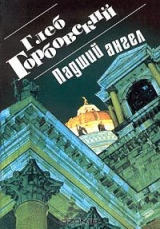
Текст книги "Падший ангел "
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
я тогда шагнул, не отпускало в подсознании, явст-
венно холодило душу, и что-то более грозное и вели-
чественное, нежели бездна падения, не позволяло
полностью забыться и ринуться, наплевав на все,
понестись сломя голову в пропасть. Не страх, не ра-
зумный расчет, не «окружающая среда» повлияли,
а вот именно нечто врожденное и неизжитое, эфе-
мерное, но крепче дамасской стали, на чем свет дер-
жится-стоит – сие и помешало сгинуть.
Так что же оно такое, сие нечто, именуемое в даль-
нейшем – совесть? Какой такой генный механизм
вырабатывает в человеке ее хромосомы и «остаточ-
ные признаки»? По чьей воле, с какой стати, во имя
чего, наконец, бессмертное человечество, как бы
низко ни падали отдельные его агнцы, а также пово-
дыри и наставники, – продолжает оставаться в
союзе с Духом или со всем тем, что под этим про-
зрачным словом подразумевается? Ответ в самом че-
ловеке. Но зарыт он глубоко. И откопать его в на-
носных слоях сознания не есть ли наипервейшая за-
поведь самосовершенствования?
Второй «охотничий» подвиг совершил я тогда
же, по дороге в колонию, как бы уже по инерции
удачи. Произошло это на одной из саратовских при-
станей, под открытым небом, среди скамеек неболь-
шого речного дебаркадера, где томились пассажиры
в ожидании своего рейса. Охранники отпустили нас
«порыбачить», оговорив условие: если «погорим» —
выкручиваемся сами, за кражу и за побег – отвеча-
ем самостоятельно. Никола, так звали урку, опекав-
шего меня в совершенствовании воровского ремесла,
неожиданно и абсолютно спокойно взял в руки чей-
то посторонний чемодан, довольно объемистый и,
как выяснилось позже, самодельный, изготовленный
из фанеры, но главное, тяжелый и... чужой. Выйдя
из узкого пространства меж скамеек, на которых
спали и дремали сморенные весенним солнышком
люди, Никола сунул в мою сторону чемодан, шеп-
нув: «Да хватай же, падло...» То есть, выражаясь
профессионально, дал мне «пропуль». Я принял че-
модан и, зачарованно глядя, как Никола «отвалива-
ет» от меня в сторону соседней пристани, не чувст-
вуя под собой ног, двинул в том же направлении.
Страх парализовал во мне все, кроме движения. Я
не смел даже оглянуться и сориентироваться. Был
уверен, что все на меня смотрят с насмешкой и пре-
зрением, как на заглотившего крючок карася. Чемо-
дан, казалось, вот-вот оторвется или взорвется и
разнесет меня на куски. И... слава Богу.
Но – обошлось и на этот раз. Трясина, так ска-
зать, прогибалась, но – выдерживала. В зале ожи-
дания пристани меня поджидал Никола, наблюдав-
ший, нет ли за мной хвоста. Он выхватил у меня че-
моданишко, и мы направились прямиком в какую-то
деревянную будку, стоявшую в углу зала и предна-
значавшуюся неизвестно для чего: на ее стенах не
висело телефонного аппарата, не было в ее полу и
«толчка», то есть туалетного отверстия, не продава-
лись в ее недрах билеты или газированная вода. Ко-
роче – будка-пережиток, будка-атавизм. Помести-
лись мы в этой будке запросто – вместе с чемоданом.
В чемодане что-то глухо, невесело брякало, шараха-
ясь о фанерные стенки, как птица в клетке. На чемо-
дане имелась петля с накладкой, в петлю продет не-
значительный висячий замок. Никола мигом отпер
его, поддев чем-то металлическим. В чемодане опять-
таки ничего существенного не было. То есть – име-
лось два точильных или мельничных камня-диска и
еще что-то ничтожное, какая-то сухая палка или ко-
решок. Как выяснилось – домашняя колбаса. Ни-
кола моментально вонзил в нее зубы и тут же взвыл
от боли: колбаска оказалась железной! Или – тоже
каменной. Как диски.
Мы даже не стали брать эту колбасу, не говоря о
камушках. Захлопнули чемодан, а чемодан, в свою
очередь, захлопнули в будке. Скрипучей дверью.
И сделал и это вовремя, так как по залу ожидания
уже ходил потерпевший в поисках пропажи. То был
невероятно тощий, морщинистый и весь какой-то
изогнутый вдоль и поперек старик. Он не кричал, не
суетился, не метался в отчаянии, он просто и дело-
вито заглядывал во все углы и закоулки, покуда не
сунулся в будку. Чемодан вынес оттуда спокойно,
как из камеры хранения. На его измятых временем
губах играла едва заметная улыбка – заурядная,
ожидаемая, тихая улыбка человека, которого ничем
уже не удивишь, разве – малость позабавишь, в со-
тый раз подтвердишь догадку, что жизнь – штука
хорошая, да вот беда – прошла, не воротишь.
Помнится, старика даже сделалось жалко. Что-
то шевельнулось в груди. Не скажу, что именно по-
сетило тогда оскаленную душу мою – раскаяние
или разочарование, однако – посетило.
Третий и последний эпизод моей преступной дея-
тельности, окончательно поколебавший веру в ро-
мантическую прелесть «воровского гуляния», про-
изошел на железнодорожном вокзале города Сара-
това. Как сейчас вижу просторное, выложенное
кафелем пространство зала, оконтуренное жесткими
диванами, на которых сплошняком теснятся «граж-
дане пассажиры», и мы, этапируемые юные пре-
ступники, в том числе. В те годы народ, передвига-
ясь по стране, держал свои небогатые вещички стро-
го возле себя, не спускал с них глаз, то и дело
ощупывал, оглаживал мешки, котомки и деревян-
ные, реже фибровые чемоданишки. Что-либо «увес-
ти» из-под такого надзора могли только настоящие
профессионалы-фокусники, которых выпестовали
полуголодное существование, вселенская нужда и
разруха, подаренные миру гражданской и Великой
Отечественной войнами.
Наверняка и теперь некоторые воруют. Чаще —
у государства. И происходит это не от голодного го-
ловокружения, а словно бы по традиции бесприн-
ципности, с продолжением эстафеты вседозволен-
ности, возникшей на заре нашей государственности
в геенне огненной событий, когда было решено
«весь мир насилья» разрушить до основания, и чуть
позже, когда сшибали с вершин российского пейза-
жа не столько церковные кресты, сколько вековеч-
ные гуманистические постулаты: не убий, не укра-
ди, не прелюбосотвори, не пожелай... недозволенно-
го, но – возлюби ближнего своего, как самого себя,
и т. д. Не из крайней бедности сейчас воруют, а ча-
ще – из зависти, и не только у нас, при социализме,
но и там, где «загнивающее» изобилие, так что и яв-
ление это, именуемое воровством, не столько соци-
альное, сколько психическое, из той же громоздкой
копилки, где концентрируются пороки человечест-
ва, в отличие от куда более скромной копилки, сум-
мирующей людскую благодетель.
Люди, сидевшие на составленных цепочкой вок-
зальных диванах, почему-то напрочь позабывали,
что сидят-то они не столько на диванах, сколько на
энном количестве ничем не заполненного, вытянуто-
го кишкой воздушного пространства, ограниченного
с четырех сторон, попеременно – кафельным по-
лом, каменной стеной, деревянными досками сиде-
ний и частоколом собственных ног, маскирующих
работающего вора, червем извивавшегося в подди-
ванной «трубе» – с определенными намерениями.
На одну из «ходок» под диваны был запущен и
я. Передвижение там осложнялось деревянными
рейками-перекладинами, крепящими диванную кон-
струкцию. И все-таки задание необходимо было вы-
полнить, чтобы окончательно убедить Николу в мо-
их намерениях и возможностях, утвердить за собой
«авторитет» умельца. Мое внимание привлек темно-
зеленый эмалированный бидон литра на три, плотно
закрытый крышкой, из-под которой торчала белая
тряпица, аппетитно пахнувшая... пчелиным медом!
По бокам бидона болтались чьи-то несерьезные, в
цыпках и царапинах, давно немытые невзрослые
ноги в дырявых спортсменках, из которых сквозь
прорванную синюю парусину выглядывали малень-
кие розовые пальцы.
И тут среди ног, в их лохматой занавеси отметил
я две странные, знакомые мне порточины раскле-
шенных брючат с огромными вставными черносу-
конными клиньями, отличавшимися по цвету от ос-
тального полинявшего полотна штанин, в которые
эти клинья были вставлены. «Николины шкаря-
та! – осенило меня. – За них и спрячу бидон!» Не-
слышно подвинув бидон в сторону Николиных шта-
нов, что свисали с дивана в полутора метрах от хо-
зяина «вкусного» бидона, я поспешил наружу из
воровского тоннеля.
Примостившись затем на диване возле Николы, в
ответ на его настырное, беспощадное: «Ну?!» – шеп-
нул ему на ухо: «Бидон с медом увел!» – «Где би-
дон?» – «У тебя в ногах». Никола заинтересованно
и предельно аккуратно пошарил под собой и, обна-
ружив ворованное, наградил меня теплым, пропах-
шим табаком словцом: «Молоток!»
И только тогда обратил я внимание на человека,
обворованного мной. Это был мальчик лет десяти,
белоголовый, худенький, в неярких веснушках, рас-
сыпанных вокруг загибистой, седлообразной пере-
носицы. Наверняка деревенский житель. В засти-
ранной, неоднократно ремонтированной одежонке с
чужого плеча. Он уже хватился бидона, обнаружил
его исчезновение. Голубые глазенки были широко
распахнуты в тихом ужасе. Я проследил за направ-
лением взгляда паренька: глаза его следили за при-
ближением мужчины в сером ватнике, серых кирза-
чах и такой же серой кепчонке с переломленным ко-
зырьком.
– Тя-я-тя-я... – плаксиво запел, обращаясь к при-
ближающемуся мужику, парнишка, «пролопушив-
ший» бидон с медом.
– Хр-р-е-ен ли тя-ятя! – передразнил сына
отец, который по одному только виду мальца, по
плачущей интонации голоса ребенка, на расстоянии
понял, что стряслась беда, что, пока он ходил в ла-
рек пиво пить, их обобрали, не устерег «гаденыш»
товар. – Хре-ен ли тятя! Разинул варежку, а бидон-
то и увели! – и хвать сынишку за ухо и ну – кру-
тить! Парнишка только вякнул, однако кричать не
стал, терпеливо сносил истязание. Слезы беззвучно
вспыхивали на его щеках.
И тогда моя нога, непроизвольно нашарив под
скамейкой бидон, вытолкнула, катнула его на свет
божий, посудина с веселым песочным писком поеха-
ла, заскользила по отшлифованному подошвами ка-
фелю – прямо к ногам ошалевшего мужика. Он тут
же отпустил ухо мальчика, изрядно опешив, затем
нашарил рукой проволочную дужку бидона и, скло-
нив голову на грудь, с виноватым видом поплелся
прочь из зала ожидания. Сынишка его, перестав
плакать, поспешил за отцом, на ходу вытирая слезы
рукавом рубахи. Я все ждал, что мальчик благодар-
но улыбнется. Однако – не улыбнулся. Оглядывал-
ся он еще не раз, пока добирался до дверей. А вот
улыбнуться не смог. На заалевшем от слез и тревол-
нений лице ребенка не было ничего, кроме недоуме-
ния.
– Т-ты это чего, падла? – спросил меня Никола
змеиным шепотом.
– Жалко малявку, – усмехнулся я как можно
независимее и залихватски, сквозь зубы сплюнул на
общественный кафель. – Мужик ему чуть ухо не
оторвал, сука.
Сейчас, когда я пишу эти строки, то есть сорок
лет спустя после истории с бидоном, за ночным ок-
ном моего садового домика – летнее ненастье: неде-
лю уже льет дождь, шумят тяжелые сочные листья
июньских яблонь, а в двадцати метрах от окна, не-
видимая в белесой ночи, несет свои мутные, припух-
лые от дождей воды Западная Двина; по другую
сторону садового участка, чуть выше, на береговом
взгорке и тоже метрах в двадцати от моего окна, за
кустами орешника, под вековыми могучими сосна-
ми – спит сельское кладбище. По радио сообщили,
что где-то меж звезд нашей галактики летит амери-
канский космический аппарат «Пионер», запущен-
ный в космос шестнадцать лет назад и до сих пор по-
дающий сигналы. На нем имеется табличка с изо-
бражением людей планеты Земля – женщины и
мужчины. По расчетам астрономов, станция будет
двигаться еще около двух миллиардов лет.
Оглядываясь на свой путь, проделанный среди
земных звезд и который, к счастью или сожалению,
завершится куда как быстрее, нежели звездный путь
«Пионера», я ловлю себя на мысли, что путь мои
программировался не ради механического постиже-
ния пространства, это был пугь очищения от сквер-
ны, которой снабжает нас доля земная, путь, кото-
рый предлагает смертному грешная жизнь, словно и
впрямь готовя его к духовному бессмертию.
Вся жизнь моя прошла в труде высвобождения от
многочисленных пороков. Познать радость очище-
ния – вот благо, выше которого не поднимается
даже радость творческая, имеющая «прямой про-
вод» к первородному человеческому изъяну – гор-
дыне, очиститься от коей главное и, чаще всего, послед-
нее желание каждой серьезной мыслящей личности.
Соблазн воровства не прижился во мне. И отри-
нуть его помогли не разум, не трезвые размышле-
ния, а способность сопереживать «потерпевшему»,
то есть качества, с профессией вора не совместимые.
А началась воровская практика еще в годы вой-
ны, оккупации, когда взрослые, можно сказать, под-
бивали ребятишек на воровство у немцев, оговари-
вая такой способ добычи чужой собственности чуть
ли не как подвиг. Украсть у врага значило нанести
ему урон, поколебать его устои. А то, что война рано
или поздно окончится, что юному добытчику при-
дется жить в условиях мирной морали, в расчет не
бралось. Война, дескать, все спишет. Такая, с позво-
ления сказать, мудрость о списании грехов прониза-
ла в военное время все общественные слои сражаю-
щегося народонаселения, погубив в нравственном
отношении – на корню! – тысячи и тысячи неок-
репших душ. Никто у нас об этом отчетливо, вслух
до сих пор не говорил, но это не означает, что разла-
гающего влияния войны на советских людей не ока-
зывалось. Война – это не только подвиги, но и па-
дения. Даже в среде защитников Отечества. Даже в
среде героев, не изменивших долгу, но изменивших,
скажем, жене, дружбе, пинавших ногой собаку, за-
бывавших ради очередного ордена о ведомом... Ска-
жут: что ж, война – это жизнь. Нет, не жизнь, а ее
уродливая, искаженная модель. Жизнь-инвалид.
Порождение сил зла. То есть – дьявольское порож-
дение, как сказали бы во времена Отечественной
войны 1812 года.
Итак, воровство, слава Богу, не прилипло. Не
числится за мной ни одного убийства (человека или
зверя, собаки или кошки на совести – ни одной).
Вот разве что птицу по глупости пристрелил. В тайге,
в экспедиции. Птицу кукшу. Бесполезную в смысле
употребления в пищу. Не являющуюся охотничьей
дичью. Дали подержать винтовку-малокалиберку,
ну и взыграло... Военных времен закваска сказа-
лась, убойная магия оружия побудила к баловству.
Но сразу и опомнился. Держа за распятые крылыш-
ки подстреленную кукшу, дал клятву не брать в
руки оружия, по крайней мере – добровольно. Ну
и... рыбок в свое время не щадил. И насекомых. А те-
перь, убивая муху или комара, если и не прошу у
природы прощения, то, во всяком случае, вспоми-
наю, что и они – живые, а значит – чудесные.
Итак, душегубцем не был, а ранения – вольные и
невольные – наносил. И чаще – людям. И глуб-
же – родным, близким.
Хорошо бы исчислить все свои пороки и слабос-
ти, сделать им, так сказать, инвентаризацию, прону-
меровать, наклеить на них ярлыки и бирки, выста-
вить на обозрение в музее Морали и Нрава.
Врал, обманывал? Да. В основном по молодости.
И по пьянке. Врал, однако, не часто и – по мело-
чам. И чаще не врал, а молчал «до упора», не созна-
вался, хоть калеными клещами тащи признание.
Это – в детстве. С годами, с чтением великих книг,
с принятием опыта «любви и страданий» отпала и
эта гнусная заботушка – врать людям. Что же каса-
ется личной стороны дела, а именно – не врать
себе, то здесь, видимо, еще не все так идеально, по-
тому что внутри себя отделить действительное от
желаемого куда сложнее.
Кстати, о пьянстве. Было? Было. Еще как. До бе-
лой горячки. Удалось преодолеть? Похоже, что так.
Восемнадцать лет не приемлю спиртного. Ни водки,
ни вина. Ни пива. Двадцать лет не курю. Что еще?
Леность духа? Которую надлежало вытравлять из
себя каждодневным трудом при помощи письменно-
го стола, бумаги, машинки и прочих письменных
принадлежностей. Там же, возле стола, высвобождать-
ся и от лености телесной. Что дальше? Скупость, за-
висть, блуд, непочтение родителей? Деликатно про-
молчать? Ведь если скажу, что избавился от этих
пороков или не имел их никогда, кто поверит?
Странно, в общественных пороках копошись
сколько угодно, особливо теперь, с включением
«сверху» кнопки гласности, а в частных, личных,
своих, то есть уникальных грешках – не принято,
не этично, а стало быть – и необязательно. И это —
несмотря на вековечный нравственный закон: начи-
нать нужно с себя – очищаться, каяться, совершен-
ствоваться.
Итак, из необузданных, непокоренных слабостей
отмечу в себе затухающую, однако все еще вспыхи-
вающую гневливость, беспомощную и оттого еще
более омерзительную; затем – страх, впитанный с
молоком матери в страшные, зловещие тридцатые,
поначалу голодные, позже – доносные, шепотли-
вые, далее предвоенные, с затемнением света в фин-
скую кампанию, с синим светом электролампочек в
подворотнях, страх военного произвола и после-
военной неприкаянности, страх тюрьмы, одиночест-
ва, отчаяния, пронизавший дух и плоть, мозг и
кровь, страх не перед стихийными бедствиями, не
первобытно-языческий, но страх цивилизован-
ный – перед вероломством собрата-человека, страх —
убийца добра в сердце. Что еще? Нет... Пожалуй, и
впрямь ни к чему продолжать. Страх смерти? Име-
ется. Хотя и постепенно испаряется. Боязнь... люб-
ви. Да, да. С годами приходит и такое. Хочется, что-
бы тебя поменьше любили, чтобы полегче было рас-
ставаться с «дорогими, хорошими», как сказал
Есенин.
Дважды в этой главе пытался уйти, отклониться
от темы колонии, лагеря, уголовного мрака, но вот
же – всплывают новые подробности, без которых
не обойтись, и я возвращаюсь «за проволоку».
Местечко или городок, на окраине которого рас-
полагалась наша колония, назывался в высшей сте-
пени внушительно – Маркс. Где-то чуть выше или
ниже (забылось уже) по течению Волги находился и
городок Энгельс, впоследствии получивший про-
мышленное развитие (знаменитые троллейбусы). А
Маркс захирел. Во всяком случае, на протяжении
последних сорока лет ничего определенного об этом
городке я не слышал – ни по радио, ни по телевиде-
нию, ни из печати.
Когда-то, еще до войны, в Поволжье жили совет-
ские немцы. Отсюда и названия городков, имено-
вавшихся прежде как-то иначе. Можно справиться в
энциклопедии. Почему-то хорошо запомнилось не-
мецкое кладбище в городе Марксе. На фоне глино-
битных чахлых построек и такой же тусклой расти-
тельности кладбище выделялось своими чуть ли не
драгоценными камнями надгробий: прежде подоб-
ные разноликие шлифованные граниты, шпаты-ага-
ты и мраморы с бронзой доводилось мне наблюдать
разве что на немецком императорских времен клад-
бище Васильевского острова, то есть – на столич-
ных невских берегах, а не в порожних, тоскливых
степях Заволжья. Еще запомнилось, что рядом с
нашей колонией, забор в забор, простиралась зона
лагеря для немецких военнопленных. Удивляло,
что среди немцев было много расконвоированных
солдат, которые преспокойно разгуливали по горо-
ду, тогда как мы, русская и прочая советская пацан-
ва, подсматривали за ними в заборные щели, а если
и передвигались иногда по марксовскпм улочкам, то
непременно – под конвоем, с охранником.
Подробно распространяться о своем пребывании
в колонии не стану: когда-то в повести «Первые про-
талины» я уже касался этой темы. А сейчас – толь-
ко о самом «горячем», о том, что больнее прочего
обожгло, о тогдашних ощущениях и нынешних ос-
мыслениях.
Восприятие зоны, загородки, забора (который
пацаны почему-то называли «баркасом»), с придан-
ной ему разрыхленной граблями контрольной поло-
сой, с вышками, где торчали «попки» с винтовками,
то есть восприятие неволи не происходило у меня
столь болезненно, как, скажем, у подростков, не
знавших немецкой оккупации. На все эти охрани-
тельные, заградительные аксессуары насилия я уже
вдоволь к тому времени насмотрелся за четыре года
войны.
Еще летом сорок первого в военном городке под
Порховом немцы организовали огромный лагерь
для наших пленных, и мы, ребятишки, ходили туда
отыскивать близких или соседей, носили кто что мог
из еды и лекарств, помогали некоторым из пленных
бежать. Немцы тогда еще не зверствовали заплани-
ровантю, все зависело от нрава и характера охранни-
ка, возле которого ты терся, стараясь проникнуть на
территорию лагеря. Чуть позже многое изменилось:
в городке и вокруг него стали происходить дивер-
сии, возле Порхова стали создаваться боевые парти-
занские отряды, немцев принялись убивать. Плен-
ных огородили еще одним рядом колючей проволоки
и не только не стали к ним пускать, но и подпускать
близко: можно было нарваться на выстрел с вышки,
который производился как упреждающий.
Затем, когда в Порхове патриот-одиночка, рабо-
тавший киномехаником в городском кинотеатре, по-
дорвал во время сеанса для офицеров и медперсона-
ла здание театра, где погибло более двухсот чело-
век, в Порхове арестовали все взрослое мужское
население, распределив его по трудовым лагерям и
тюрьмам, а тех, кого подозревали или кто не понра-
вился военной администрации, незамедлительно от-
сылали на тот свет. Мне тогда двенадцати лет еще не
было, а в лагеря хватали с пятнадцати. Взяли родст-
венников – моего пожилого дядю и его сына, моего
двоюродного брата. И я каждую неделю ходил из
Порхова на станцию Дно – двадцать пять километ-
ров туда и столько же обратно, – носил передачи:
десяток морковин, луковицу, пару овсяных лепе-
шек, обмылок немецкого эрзац-мыла, подобранного
мной на немецкой госпитальной помойке. Естествен-
но, что в лагерь «посторонних» не пускали. Обычно
я караулил колонну лагерников, когда они возвра-
щались в зону со своих котлованов, карьеров и на-
сыпей, незаметным образом вручал свой узелок род-
ственникам, подававшим мне знак. А однажды слу-
чилось «благоприятствие», я затесался в их толпу и
таким макаром проник в лагерь и некоторое время
пожил там на правах заключенного – возле двою-
родного брата. Обнаружили меня, то есть лишний
рот в лагере, на другой день. Продержали в конторе
и даже в камере лагерной гауптвахты. Потом, выяс-
нив, кто и что, поддали под зад коленкой. Немцы
народ пунктуальный: раз нет на человека докумен-
тов – значит, иди вон.
Немцев в Порхове хоронили на местном стадио-
не. После войны, через много десятков лет, поздней
осенью, когда выпадал первый снег, на равнинном
поле стадиона можно было видеть как бы «стираль-
ную доску» – волнообразный профиль от бывших
захоронений, которые хоть и сровняло неумолимое
время, но не до основания.
Вспоминая тот памятный порховский «кино-
взрыв», не могу не добавить, что помещался театр в
единственном «высотном» четырехэтажном красно-
кирпичном здании бывшего горисполкома, возве-
денном в 1913 году столь надежно, что стены его вы-
держали страшный взрыв и последующие бомбежки
и артобстрелы, и, когда лет через тридцать после
войны я приезжал в Порхов погрустить о прошед-
ших днях жизни, здание сие все еще торчало на бе-
регу Шел они, напоминая мне и всем нам, кто пере-
жил в Порхове войну, о смертном ее дыхании, о не-
возвратных тревогах моего детства, не знавшего
понятия скуки.
И все ж таки «закрытый», подконвойный, арес-
тантский образ жизни я ощутил именно тогда, в
войну. Да и что они сами по себе – годы войны —
как не подневольная, лагерная жизнь, только вот зона
пошире – от западных границ до берегов Волги и
Невы, от Балтийского моря до Черного. Туда нель-
зя, сюда нельзя, «стой, стрелять буду!». Саботаж,
пособничество. За нарушение – пуля. Взрослые —
при оружии, воюют, пайку получают, а ты, предста-
витель мирного населения, как хочешь, так и выкру-
чивайся. Окончится война, загремят победные са-
люты, воевавшие вчера люди найдут себе место в
жизни, а для тебя подыщут спецграфу в анкете: был
ли ты или нет на территории, временно оккупиро-
ванной немцами, – самой постановкой вопроса уже
как бы обвиняя тебя в чем-то. А в чем? Крыльев-то
не имелось, чтобы подняться и перелететь куда-ни-
будь за Урал или в Ташкент – город хлебный. Не
отросли еще крылышки к тому времени – это у
детей, а у стариков – уже как бы отпали, отсохли в
тоске и немочи, а не «в борьбе и тревоге».
Одним словом, по окончании войны, то есть при
собственной советской власти, у себя дома, оказался
я, как ни странно, в заключении.
Что значит – воспитательно-трудовая, закрыто-
го типа колония для несовершеннолетних образца
1947 года? Прежде всего – сообщество людей, но —
весьма странное сообщество. Помимо активистов и
тех, кто в «законе», – всевозможные «полуцвет-
ные», «сявки», «шестерки»... то есть дилетанты в
воровском деле. Были еще «придурки-мены», нечто
вроде блаженных, затем – вовсе отверженные, «пи-
деры», изнасилованные ворьем в наказание за что-
либо самым скотским образом. До этих парий нель-
зя было даже пальцем дотрагиваться. Питались они
за особым столом, ели из своей, меченой посуды, ко-
торую держали при себе, сами ее мыли. Хлебная
пайка этих несчастных чаще всего не доходила до их
стола, ее заворачивали на воровской стол. Но уж
если она дошла, коснулась поганого места – брать
ее никто не мог под страхом самому сделаться лиде-
ром. Иногда изголодавшийся прямо на раздаче бро-
сался на поднос с хлебом, и все, что он «помечал»,
доставалось в тот день «сукам». Били меченых толь-
ко палками или плетками, то есть – на расстоянии
вытянутой руки, без непосредственного контакта
тела о тело.
Главным занятием на воровской половине коло-
нии была игра в карты. Карты мастерили («масты-
рили») сами пацаны. Замастырить стос – такая за-
бота возникала чуть ли не каждый день, ибо само-
дельные картишки быстро изнашивались. Делались
«колотушки» из любой оберточной, обойной, даже
газетной, в несколько слоев бумаги.
Основным, можно сказать, единственным ин-
струментом в деле является нож (на пацанском язы-
ке – «пика», перо, «месар» – от немецкого «мес-
сер») – остро, до бритвенной «жалости» отточен-
ный обломок полотна лучковой пилы или рашпиля,
стамески. Ножом бумага нарезалась на определен-
ное количество заготовок, причем, если бумага ока-
зывалась слишком тонкой, число заготовок «двои-
ли» или «троили». Ножом вырезали трафаретки —
ромбики, сердечки, крестики. Затем склеивали по-
ловинки. Каждая карта была двух– или трехслой-
ной. Это придавало ей эластичность. Для склеива-
ния изготовлялся самодельный клейстер. В ход шла
хлебная пайка, которой у ворья всегда был излишек,
запас, наигранный в карты и хранившийся под мат-
расом или подушкой. Из пайки брался только мя-
киш, кем-либо тщательно разжеванный до полужид-
кого состояния. Затем месиво протирали на про-
стынке. Чаще всего совершал сию процедуру тот, кто
жевал. Четверо держали простынку в натянутом виде,
втиратель выливал на нее кашицу изо рта и начинал
тыльной стороной ладони втирание. Через опреде-
ленное время простынку переворачивали и ложкой
соскребали с ее испода готовый клейстер. Клейстер на-
носили на половинки карт, обжимали и прессовали,
далее заготовки поступали в сушку. Сушили при
температуре около тридцати семи градусов, то
есть – натуральным способом: часть пацанов ложи-
лась плашмя вверх животом на коечки, задирали на
животах рубахи, на животы раскладывались сырые
заготовки и вновь накрывались рубахами. Хорошо,
когда в колонии кто-нибудь из своих как следует
температурил, тогда его, как горчичниками, обкла-
дывали заготовками, скорость сушки повышалась.
Сухой стос, издающий при сгибании характер-
ный треск, обрезали, предварительно спрессовав и
накрепко обмотав веревкой – сперва вдоль, затем
поперек колоды. Обрезали по линейке. Затем стос,
или, как его еще называли, «бой», парафинпли.
Для этого плавили огарки свечей в гуталинной ба-
ночке п в горячий раствор окунали обрезанные, ош-
лифованные на камне края колоды. Далее – печа-
тали масть. На краску шли соскребы с бордюра под
потолком на стене комнаты, печная сажа или рези-
новая, с горящей подметки копоть, ложившаяся на
подставленное к кипящей резине стекло. Иногда
для придания символической яркости и прочности,
для везения-фарта в красный цвет добавляли собст-
венную кровь. Для этого слегка «полоскали» бри-
твой руку меж большим и указательным пальцами и
сцеживали в баночку кровь, по нескольку капель —
у всех по кругу. Ритуал. Игра. Краску разводили на
том же клейстере. Получалось довольно прочно и
отчетливо. А если еще к тому же трафаретка удач-
ная, художественная, вырезанная со вкусом, а то и
замысловато – тогда и вовсе шикарно выглядело.
Играли в основном «под интерес». Главным об-
разом – под хлебную пайку. Хлеб в колонии – ва-
люта. И вообще – нечто мистически-верховенст-
вующее. (Помню одного белобрысенького, лет десяти
на вид мальчика, «придурка-мена», то есть юроди-
вого, который беспрерывно, на ходьбе по террито-
рии в зоне и на сидении в корпусе на койке, повто-
рял, как заведенный, одну и ту же фразу изо дня в
день: «Ешь хлеб, не буду есть! Ешь хлеб, не буду
есть!»)
Воры в законе играть на свою личную пайку, «кров-
няшку», права не имели. Запрещалось законом
клана. Урка, проигравший в горячке азарта «кров-
няшку», по решению «толковища» мог быть объяв-
лен «сукой».
В игре ходили, а говоря современным языком —
были задействованы пайки многочисленных долж-
ников, данщиков, слабосильных и слабодушных
«фитилей». У среднего вора всегда имелся под ру-
кой целый список имен и кличек должников и «от-
мазчиков», на чьи пайки мог он преспокойно рас-
считывать, садясь за «подушку» (играли, то есть ки-
дали карты не на стол или скамью, а на подушку —
для удобства поддевания пальцем карты, для ско-
рости игры). По этой части имелись свои виртуозы,
за ними ходила репутация «исполнителя». Играть
старались честно. Однако некоторые из воров «мух-
левал и», играли на лишних картах, пряча их, как
фокусники, в рукава одежды, и при малейшем подо-
зрении били напарника по игре в лоб, в момент
удара карта из рукава вылетала за спину ударенно-
го, и поди тогда докажи «мухлевку». «Исполните-
ли» пользовались уважением. Им даже охотнее да-
вали «на отмазку» свои пайки. В случае выигрыша
взятая на отмазку пайка возвращалась, но далеко не
всегда. В благодушном состоянии урка мог шика-
нуть, крикнув голодному данщику-должнику: «Ска-
щаю!» То есть возвращал ему право на одну пайку.
Возле воров всегда толпились «кусошники», попро-
шайки на подхвате, потому что вечером во время
игры хорошим тоном было, сняв очередной куш,
бросать хапошникам выковыренный из горбушки
мякиш, а хрустящими корочками урка пользовался
сам, ибо корочки почитались за лакомство.
Играли урки, как я уже говорил, не только на
хлебную пайку, но и подо что угодно; под сахарок,
жареную рыбу, которой обеспечивала колонию
близлежащая Волга, играли на капли из медпункта,
пахнувшие спиртом (проигравший обязан был стя-
нуть их оттуда не позднее завтрашнего утра); игра-