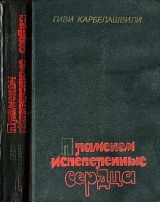
Текст книги "Пламенем испепеленные сердца"
Автор книги: Гиви Карбелашвили
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
– Истину молвит государь, – возведя очи горе, произнес Йотам Амилахори. – Мы обязаны перед страной и народом испытать судьбу нашу. Надо всеми средствами заинтересовать русского царя. Не скрывать от него ни приисков наших, ни рудников, о всех наших возможностях обязаны рассказать и растолковать сполна, без утайки, как подобает искреннему братству. Да, я тоже верю, государь, что избавление придет к нам из-за Кавказских гор. И если мы потерпим неудачу, если на этот раз не сможем осуществить наши надежды, то мы должны завещать и внукам, и правнукам нашим, что путь к спасению у нас один-единственный и ведет он на север.
Никифор Ирбах молчал. Молчал и Давид. В тишине снова стал различим звук капающего воска. Царь неслышно подошел к дверям и внезапным движением распахнул обе створки – за дверью никого не было. Мухран-батони сначала не понял, в чем дело, но, догадавшись, еле слышно проговорил:
– В моем дворце ты можешь ни о чем не беспокоиться, государь!
– Повсюду надо быть начеку, дорогой мой, у себя в Греми я бы не решился говорить столь откровенно.
– Ты прав, государь. Нам надо быть начеку везде и всегда, – вмешался Амилахори, и все снова замолкли.
– Если ты принял такое решение, государь, – заговорил Джандиери тише обычного, – то тогда не следовало посылать в Исфаган царицу цариц с царевичами.
– Об этом я уже сказал, – коротко отрезал Теймураз. – Ты, мой Давид, уповаешь на Исфаган от чистого сердца, а не хочешь признать, что слово кизилбаша ничего не стоит, что кизилбаш сына родного с такой легкостью убьет, как ты зверя дикого, лесного убить не решишься! Дед мой, Александр, якобы как-то сказал в шутку: что-то много расплодилось в царстве моем мужчин и женщин, стариков и детей, пусть бы их стало поменьше, иначе охотничьи угодья сокращаются, мол, и охотиться скоро будет негде! Не поняли злые люди его намека: своей верностью русскому царю грозил он шаху, но говорил об этом не прямо, а иносказательно, будто бы жаловался на недостаток угодий охотничьих. И пошел слух: царь Александр-де свой народ любит меньше, чем охоту. Да, крив сей мир, злых людей порой больше, чем добрых. Но знает бог, великий и справедливый, что дед мой каждую колыбель благословлял и берег как зеницу ока, каждую мать почитал, все равно, знатную или простолюдинку. Да и зверя на охоте преследовал по-христиански. А кизилбаши, повторяю, родного сына не пощадят, прирежут, как барана, дабы утолить жажду крови.
Помрачнел царь, закручинился, еще раз налил в чашу вина, потом взял со стола, накрытого к ужину, куриную ногу, отломил кусок хлеба, закусил соленьями. Ел и пил стоя, а верные дидебулы стояли рядом, раскрасневшиеся от ранее выпитого вина, но трезвые и озабоченные происходящим.
– Что покажет время? Как повернется колесо судьбы?
В эту минуту всем верил царь, доверялся им всей душой, потому-то и откровенничал он, удрученный заботами и тревогами.
– Может, перейдем к столу, государь? – предложил Мухран-батони, почувствовав, что совет окончен.
– С вашего согласия и позволения, – царь перестал есть, – я хочу отправить Никифора Ирбаха вдогонку за русскими послами. Я написал письмо московскому царю. Думаю, что послы еще не успели добраться до Крестового перевала. До степей по ту сторону хребта их проводит мой гонец со свитой, а затем и обратно успеет вернуться до закрытия перевала. Без свиты Ирбаха отпускать опасно, поэтому выбери троих преданных людей, – обратился царь к Мухран-батони, – пусть они проводят его к послам, а обратно направляясь, заберут весточку послов о благополучной сдаче им Ирбаха и моего послания на имя московского царя.
А сейчас мне нужно сказать Ирбаху еще два слова, а вы идите к князьям, пусть они увидят вас и ничего плохого не думают, не обижаются за наше уединение, пусть веселятся, ибо довольно земле грузинской слез и крови, мы истосковались по радости и веселью. Пусть слагают веселые шаири [41]41
Шаири – в данном случае частушки.
[Закрыть] на картлийский и кахетинский лад…
С Ирбахом беседовал царь вполголоса. Растолковал все подробно.
– Передашь московскому царю, что я, как и дед мой Александр, готов поклясться ему в верности, повторить дедовскую клятву о верноподданстве. Скажи ему, что у нас много руды, меди и еще много богатств всяких. Одно наше вино чего стоит – любую казну обогатит, дворцы развеселит и возвеличит. Ежели мы погибнем, то не будет за Кавказским хребтом оплота христианского, и не выйти тогда русскому царю к морю, и не знать ему покоя на южной границе. Скажи, что он много потеряет и проиграет, ежели от нашего предложения откажется. Попроси у него войск десять тысяч с пушками и прочим вооружением. Пусть знает и то, что ежели сам он на это не решится, то потомки его все равно это угодное богу дело довершат. Без России нашей стране добра не видать, но и России без нас на юге не обойтись, не укрепить южных границ. Попроси царя, убедительно проси! Шаху обо всем этом ничего не говорить и через послов ничего не передавать. И пусть перед шахом за нас не заступается: чем больше он за нас просит, тем злее шах становится, такая уж это порода!
Закончив напутствие, Теймураз позвал Мухран-батони, благословил Ирбаха в дорогу и проводил его, сам же сразу пошел к пирующим князьям.
Амилахори провозгласил тост в честь царя, восславил его мудрость, щедрость и дальновидность. Не забыл и о поэтическом его даре. «Стихотворство, – сказал он, – всегда в почете было у рода Багратиони, но здесь нельзя умолчать и об особой заслуге царицы цариц Кетеван».
Не понравилось опять Давиду Джандиери, что о царе как о стихотворце завели слово. Не спросясь, сразу встал и начал говорить после Амилахори. Именно со стихов и начал:
– Стихи на Востоке всегда служили средством отдыха для сильных мира сего. Персидский стих – изъявление мудрости, праздник, торжество разума. Кто не умеет мудро мыслить, тот и стихов не сложит, и побед не стяжает во славу отечества. Потому-то и высокочтима царица цариц Кетеван, что стихи слагает мудрые и сладкозвучные. Однако не стихом, а саблей, холодной мудростью и горячей кровью надо вершить дела отчизны. Посему и желаю государю нашему долгих трудов, славных боев, благоденствия и звучных свадеб для всех потомков его, наследников, а писание многих ему посильных мудрых стихов – лишь в минуту досуга, чтобы поэзия была одним из важных признаков покоя и процветания страны.
Закончив свою речь, Джандиери лихо, тремя пальцами подкрутил усы, передал «алаверди»[42]42
Алаверди – застольный возглас, когда чаша идет по кругу и один из сотрапезников перепоручает тост другому.
[Закрыть] хозяину дома, который успел за это время отправить Ирбаха в путь и вернуться к столу. Мухран-батони едва заметным кивком головы дал знать Теймуразу, что все в порядке, и охотно продолжил здравицу в честь царя, передав затем «алаверди» дальше. Каждый последующий говорил меньше предыдущего – при дворах всех Багратиони строго соблюдались и неписаные законы дворцовой иерархии.
Прежде чем слово взял царь, зазвучала песня. Потом заговорил Теймураз:
– Веселье – за столом, храбрость – под огнем, пылкость – в объятиях, верность – в братстве. А коль мы вино пьем, то о нем и стих мой:
Раз вино устам сказало: «Неразрывны, двуедины,
Вы пленительны, живые бадахшанские рубины,
Но хоть ярче вы, хоть жарче, вам кичиться нет причины:
Вы бессильны человека исцелить от злой кручины».
И в ответ уста: «Весельем похваляться не спеши:
Всех мы разума лишаем, так влекуще хороши.
Кубок твой мы украшаем, мы – мечта людской души.
Аргаван, иль пурпур ярче, или мы – само реши».
А вино им отвечает: «В красоте вам нет сравненья,
Соловьям теперь не розы – вы источник вдохновенья.
Но заставить человека петь в восторге опьяненья
Вы не властны, нет! Покорен мне он до самозабвенья!»
«Не хвались, – уста сказали, – тем, что ты пьянишь людей:
„Петь заставлю человека!“ А ты – горе-чародей!
Знай, мы сердце человека без хмельных твоих затей
Разбиваем, как стекляшку, вмиг на тысячи частей!»[43]43
Перевод Л. Пеньковского.
[Закрыть]
Закончив «Спор вина с устами», Теймураз осушил свой рог и добавил:
– Да исчезнет враг из грузинских лесов и полей, пусть он наподобие этой капли исчезнет с наших свадеб, от колыбелей наших потомков, от истоков слова грузинского, от Кетеван – матери всех грузин!
Снова зазвучала, окрепла, взмыла песня задушевная.
После третьих петухов дидебулы низко поклонились царю и покинули зал. Теймураз поднес губы к самому уху хозяина и прошептал:
– Где находится Джаханбан-бегум?
– Над твоими покоями, в башне, государь.
– Доброй ночи, князь.
– Покойной ночи, государь.
* * *
К Мухранскому дворцу примыкала гостевая башня. Коридор из главного зала вел на маленький балкон, с которого по мостику с перилами подымались на тесную площадку второго этажа башни. С этой площадки можно было спуститься вниз, подняться наверх, а также попасть в малые покои, которые в настоящее время были отведены Теймуразу. Другого входа в башню не было, нижний этаж занимали кладовые с хлебом и вином, там стояли деревянные лари, глиняные кувшины, хранились запасы на случай войны, под кладовыми был подвал – подземная тюрьма-темница. Над малыми покоями имелась еще одна келья, которую отводили обычно прислуге почетных гостей, а во время вражеских набегов здесь укрывалась семья князя Мухран-батони в том случае, если не успевала уйти в горы.
Именно в этой келье проживала вдова царя Свимона, внучка шаха Аббаса Джаханбан-бегум, с тех пор как по приказу Теймураза ее забрали у Эристави Зураба и доставили с подобающими почестями из Дигоми в Мухрани. В обычные дни, когда во дворце не было гостей, Джаханбан-бегум иногда проводила время в обществе супруги князя Мухран-батони Кетеван, а чаще всего делила досуг с его дочерью, которая была всего на три года моложе вдовствующей картлийской царицы-красавицы.
С того дня, как Теймураз прибыл в Мухрани, Джаханбан-бегум вниз не спускалась, на глаза никому не показывалась, сидела взаперти, развлекалась рукоделием, читала «Вепхвисткаосани» и «Шах-наме», сочиняла стихи.
…Хозяин взглядом проводил царя, который пошел через мостик и хлопнул по плечу вытянувшегося перед ним караульного, затем, миновав вход в свои покои, стал быстрым шагом подниматься по винтовой лестнице, ведущей в верхнюю башню.
Одолев лестницу, Теймураз остановился на тесной площадке, перевел дух и всем телом налег на тяжелую дубовую дверь. Дверь не поддавалась. Царь трижды постучал по крепкому дереву костяшками согнутых пальцев. Не услышав ответа, он постучал снова, но тишину ничто не нарушило. Теймураз слегка нагнулся и заглянул в щелку, в которой из глубины кельи мерцал тусклый свет. Царь достал из ножен свой кинжал, просунул клинок в щель и без труда откинул щеколду, дверь отворилась.
Привыкшими к темноте глазами царь при тусклом свете свечи разглядел раскинувшуюся бывшую царицу Картли, внучку шаха Аббаса, красавицу Джаханбан-бегум. Ее черные пышные волосы рассыпались по белому атласу подушек, на матово-смуглом лице алели, словно свежераскрывшаяся роза, пухлые губы.
Подойдя поближе, Теймураз своим острым глазом заметил над припухлой верхней губой легкий темный пушок, оттенявший свежую алость рта. В ту же минуту он вспомнил «Спор вина с устами». Вскипевшая от мухранули кровь заставила его склониться над спящей. Осторожно он коснулся губами ее алых губ. Красавица шевельнулась, выпростала из-под одеяла обнаженные руки, отбросила их на подушку, как бы обнимая голову, но не проснулась. Нагота женщины и вино взяли свое, и царь страстно приник к спящей. Она встрепенулась, попыталась приподняться, высвободиться из крепких объятий, но тщетно.
– Теймураз…
– Он самый, – коротко ответил царь и снова приник к ее устам.
Воспитанная по восточному обычаю, Джаханбан-бегум, сначала чуть противясь, покорилась воле мужчины, а потом сама вспыхнула страстью в ответ на его страсть…
– Ты, наверное, не помнишь меня… откуда? – на хорошем грузинском языке заговорила Джаханбан-бегум. – А я тебя еще в Исфагане приметила. Ты тогда был уже юношей, а я пятилетней девчонкой. Перед музыкальным дворцом, на шахской площади, были устроены большие конные состязания. Женщины и дети любовались зрелищем из окон дворца. Ты на всем скаку стрелял из лука и заслужил дар деда моего. Я хорошо помню тот дорогой, блестящий халат, который шах Аббас сбросил тебе с балкона, а ты ловко поймал его. Знала я еще, что у нас одинаковая судьба – мы оба выросли без отца, и ты, и я. Только отец твой, как мне известно, согласно воле аллаха простился с жизнью, а моего отца мой же дед повелел убить, хоть он и приходился ему кровным сыном…
– Я тоже это знаю.
– Когда мне сказали, что я буду царицей Картли, я почему-то подумала, что меня выдадут за тебя, и, признаюсь, обрадовалась… Правда, и мужем своим я осталась тогда довольна, да упокоит аллах его душу, но уж очень мало мы с ним пожили, даже ребенка у меня не осталось от него…
– И это тоже известно мне.
– Горька судьба женщины, так рано овдовевшей…
– Что ты хочешь? Чего желаешь?
– Прежде всего покровителя и хозяина.
– Я бы мог быть повелителем картлийской царицы… – двусмысленно намекнул Теймураз, заглядывая в прекрасные глаза женщины, – ведь я теперь царь и Картли.
– Сегодня – да…
– И завтра им буду.
– И завтра будешь, но кто знает, что будет послезавтра.
– Неизвестность смущает? А ведь именно это и есть жизнь – неизвестность. Когда все известно наперед, жизнь теряет всякий интерес, превращается в существование.
– Но я хочу… ребенка.
– Кто тебе мешает родить?
– Чье имя он будет носить?
– Имя Багратиони, мое имя. Восток многому научил меня. Воспитанному при Исфаганском дворе владельцу двух престолов кто посмеет встать поперек пути?
– А как же твоя вера?
– Об этом не тревожься, царица Картли. Ты поселишься во дворце Амилахори, в Квемо-чала, своей же резиденцией я избрал Гори, отныне там будет картлийский трон. Между нами будет всего полдня пути – если напрямую. Коли царь чего пожелает, господь тому не воспрепятствует. Были бы только мир да покой в стране.
– А царица Хорешан? – с истинно женским лукавством спросила бывшая царица, будто для нее ничего не значило то обстоятельство, что дворец Амилахори в Квемо-чала находился у подножия крепости Схвило, той самой, в которой убили Свимона…
У Теймураза тотчас мелькнула мысль, что в этой женщине больше персидского, чем грузинского, но, ослепленный ее красотой, он поспешил отогнать от себя мысль, что такая женщина способна без зазрения совести завтра же предаться любовным утехам даже с его убийцей.
«Так уж заведено и богом, и природой: красивая женщина не может быть собственностью одного человека, она принадлежит любому, овладевшему ею», – подумал он, а вслух ответил на ее вопрос, как отвечают все мужья:
– Хорешан ты не тронь, это – моя забота.
– Хорошо, я ведь все равно твоя. Женщина без мужчины – что роза без соловья и соловей без розы. Все земное, что мне суждено – его воля! Только смотри, – добавила она чуть погодя, лукаво сощурив свои темные очи, – не обделяй меня любовью, иначе…
– Что – иначе?
– Иначе… заведу другую любовь.
– А я запру тебя. – Теймураз с силой стиснул ее в объятиях и снова приник к ее алым устам.
– А я убегу, – выговорила она, еле высвободившись из его крепких рук и горящих губ.
– А я поймаю и убью.
– Поймать, может, и поймаешь, только… не убьешь, такие красавицы, как я, доживают до глубокой старости.
– Ты знаешь себе цену.
– Зеркало ежедневно подсказывает, да и ты добавил. Нам, женщинам, мужчины помогают узнать себе цену. Без мужчины женщина ничего не стоит.
– Ты и по-грузински хорошо говоришь.
– Мать у меня грузинка.
– Знаю. Оттого ты так хороша.
– Я это тоже знаю. Без грузинской крови наша красота вялая, нудная.
Сын в ханских владениях глушил подстегиваемую опасностью юношескую страсть, а отец с внучкой шахиншаха утолял жажду зрелого мужа…
* * *
…Накануне отъезда царя во владениях Амилахори пошел по-осеннему моросящий дождь, прозрачный легкий туман повис над Мухранской долиной, опустился в Ксанское ущелье, дымкой окутал отроги Кавкасиони, размочил дорогу, которую скакавшие кони тотчас превратили в густое месиво.
Теймураз во главе свиты выехал из ворот, когда ко дворцу Мухран-батони из Цихисдзири пригнали табун отменных лошадей. Хозяин хотел выбрать лучших скакунов для царя, ибо еще на совете в Тбилиси обещал взять на себя эту заботу. Царь задерживаться не пожелал – пусть, сказал он, кони у меня и перезимуют.
Лошади были ухоженные, много среди них было кобылиц.
Кошох-богатырь в бурке зычно покрикивал на строптивых жеребцов, подгоняя норовистых кобылок. Царь в нем сразу признал того молодца, ухмыльнулся в усы и искоса взглянул на Джаханбан-бегум, ехавшую рядом.
В ушах еще долго стояло конское ржанье.
Справа от царя, в наброшенной на плечи белой бурке, ехал Амилахори, слева чуть поодаль плавно покачивалась в седле Джаханбан-бегум.
’«Что ты наделал, царь, – уныло звучал неотвязный голос в ушах Теймураза, – убил Свимона, отнял у него трон и забрал жену!..»
«Свимона я не убирал, хотя он и был достоин смерти, как верный раб шаха, каким был и дядюшка мой Константин», – отозвался на таинственный голос Теймураз.
«При всем честном народе, на глазах у подданных своих бывшую царицу взял в наложницы!»
«Земная любовь не заказана ни царю, ни конюху, длинна жизнь человека, мало ему одной любви».
«Ты мог взять любую другую женщину, как это делали твои предки».
«Шах Аббас никак не насытится красотой грузинок, так пусть и женщина из его рода в наложницах у грузина побудет».
«Но что скажут люди, народ?»
«Враги и завистники?»
«Хотя бы и они».
«Пока я жив и властвую, я – как ореховое дерево, с которого еще не сбили плоды. Пусть бросают в меня палки, камни, пусть сбивают с меня что могут, на все хватит моих сил, моих плодов человеческих. Вот когда постарею, одряхлею, буду как дерево, с которого струсили все, что только возможно было, никто больше не бросит в меня ни камня, ни палки, и спокойно пройдет мимо, даже не заметит… А если и посмотрит, то лишь из любопытства – не осталось ли случайно хоть одного орешка… Это и есть жизнь: кидание камней в приметное и плодоносное, а неприметному и бесплодному, опустошенному – забвение».
«Но зачем давать повод для злых слухов?»
«А не дам, сами придумают. Так пусть лучше будет повод, и пусть бросают камни. Легче замечу и легче истреблю, ибо черную душу выбелить нельзя, ее нужно только уничтожить».
«Их много…»
«Покараю одного, двух, десятерых, остальные притихнут. Закон таков: побей одного – вразумишь тысячи».
«А что ты скажешь царице Кетеван?»
«Кетеван материнским сердцем поймет меня. Она женщина и живой, мыслящий, большой души человек.
Человек всегда поймет человека. Враг тебя понять, конечно, не захочет, он слеп и глух ко всему человеческому в тебе, к тому, что тебя оправдывает и возвышает, ибо он хочет видеть тебя виновным и униженным только. Но друг, в отличие от врага, всегда увидит истину деяний твоих!»
«Сыновей и мать отдал в пасть врагу, а сам наслаждаешься любовью?»
«Сыновей и мать я возвысил в душе моей и в душе народа».
«Ты кривишь душой, царь!»
«Кривит душой тот, кто думает одно, говорит другое, третье пишет, а в четвертое верит. Кто лицемерит, заигрывая с народом, кто не смеет выразить вслух выстраданные мысли. Если дело служения народу потребует, я пойду любой тропою, пусть она даже приведет меня в раскаленную печь».
– Государь, – голос Амилахори вывел царя из раздумий, – дождь усиливается. Не вернуться ли мам назад?
– Нам негоже поворачивать вспять, мой Нотам. Коли пустился в путь, иди до конца.
Над Мухранской долиной шел осенний дождь, долгий, неутомимый.
* * *
В ночь накануне отбытия царицы Кетеван и царевича Левана в Гремском дворце никто не спал, неспокойно было и в княжеском поселении – внешне суровая, скупая на доброе слово, закаленная вдовьей долей Кетеван многих одаривала добротой своего щедрого сердца, поддерживала делом, помогала в трудную минуту. Поэтому весь Греми был взбудоражен вестью об ее отъезде в Исфаган. Несмотря на ранний час, почти весь город вышел провожать снаряженный в дальний путь караван. Многие плакали и причитали, долго стояли убитые горем.
Царица Хорешан держалась до последнего, но едва отъезжающие скрылись с глаз, как ее сразу покинули силы и она замертво рухнула на землю. Ее на руках внесли во дворец и никак не могли привести в себя. Придворный лекарь старательно растирал мочки ушей, хлопал по щекам, опрыскивал холодной водой.
Едва раскрыв глаза, Хорешан спросила о Датуне, но его никак не могли найти, царице же для утешения сказали, что он еще спит. Дворецкий сбился с ног в поисках царевича; Даже послал скорохода вдогонку за караваном – узнать, не убежал ли мальчик вслед за бабушкой и братом? Гонцу было строго-настрого приказано: царице цариц Кетеван на глаза не показываться, а только издали выяснить, нет ли там Датуны. Мальчик, возможно, не присоединился к свите, а едет тайно следом. Надо обшарить все придорожные кусты и канавы, где он может прятаться. Но гонцы вернулись без Датуны.
Солнце уже стояло в зените, когда Хорешан поднялась и велела подавать завтрак, при этом снова спросила о царевиче: «Я хочу, чтобы он поел, – сказала она, – сама я не в силах проглотить и куска».
Дворецкий на этот раз не посмел смолчать и сообщил царице, что Датуны нигде нет.
Царица беспомощно взглянула на верного слугу:
– Может, он поехал вслед за бабушкой и братом?
– Я послал людей, они вернулись ни с чем.
– Вы могли напугать царицу Кетеван! – всполошилась Хорешан.
– Я велел погоне к ним не приближаться.
Был обыскан и княжеский квартал, и торговый, послали слуг в царские летние покои, обшарили монастырь, проверили все закоулки во дворце и крепости, расспросили мальчишек, сверстников царевича, – Датуну никто не видел, даже Гио-бичи не знал о нем ничего.
Дворецкий послал людей на пасеку в Алаверди – царевич любил там бывать, там провел последний день вместе с братом. «Не видели», – был ответ огорченных недоброй вестью монахов.
Послали скороходов к верховьям Алазани, и Кодорскую крепость не забыли. «Уж не похитили ли царевича лезгины? – выразил кто-то вслух опасение. – Царицу провожали на рассвете, а тут беготня, суматоха, и вдруг мальчика увезли разбойники, воспользовавшись неразберихой?..»
Тут уж всполошились все, забегали придворные и монахи, прислужницы и дети, старики и воины. Как подкошенная упала царица, горько запричитала: отмстился грех мой перед сиротами…
Весь день жители Греми тщательно искали мальчика, но нигде не смогли найти. Вдобавок ко всему обитателей дворца выводил из себя душераздирающий вой собак, запертых в псарне согласно распоряжению царицы Кетеван. От этого воя в жилах стыла кровь и сжималось сердце, томимое дурным предчувствием.
Онемел Гремский дворец. В зловещей тишине раздавался лишь протяжный собачий вой.
Незаметно подкрался вечер. Во дворце зажгли свечи. Потрясенная горем Хорешан не находила себе места, трижды спускалась во дворцовую церковь, трижды ставила там свечи.
Дворецкий пожаловал к царице в покои, на что вряд ли решился бы в обычное время, – с отбытием царя и переполохом во дворце в связи с исчезновением Датуны почтения и робости у придворных поубавилось.
– Может, пошлем вестника к царю? – осторожно спросил дворецкий.
– Чем же царь может помочь? Огорчится только. Мы сами должны что-то предпринять, – едва слышно ответила, сдерживая себя, Хорешан. – Бог наказал меня за грех перед сиротами, я должна была убедить царя и пожертвовать своим сыном, своим!
– Воля царская – божья воля, царица, – степенно заметил дворецкий и с подчеркнутой учтивостью вышел. А царица продолжала, обернувшись к придворным дамам, не покидавшим ее в этот день ни на минуту:
– Я не должна была отпускать Левана и Александра. Надо было отправить Датуну, за это и покарал меня всевышний. – С этими словами царица неожиданно вскочила с тахты и быстрым шагом вышла из покоев.
Заговорив о пасынках – Александре и Леване, – она вдруг ухватилась за спасительную мысль. Хорешан чуть ли не бегом устремилась в конец коридора, где была спальня царевичей. Следом за ней поспешила и служанка с подсвечником в руке, освещая дорогу. С ходу толкнув дверь, царица замерла на пороге: на тахте Левана, зарывшись головой в подушки, лежал Датуна.
Хорешан сначала подумала, что ее сын мертв, и с ужасом кинулась к нему… Датуна спал крепким сном, уткнувшись в подушки любимых братьев. Царица, вне себя от радости, обняла мальчика, приласкала нежно.
– Как же я не догадалась, где ты мог быть, сынок! И подушки мокрые от слез…
– Плакал… – тихо заметила одна из женщин, украдкой смахивая слезу со своих щек.
– Ты ведь никогда не плакал, сынок, даже когда совсем маленький был, а чего ж ты теперь? Слава создателю, творцу небесному! С тебя, как видно, пожелал господь возродить добро на нашей земле! До сих пор в роду, Багратиони щедро проливалась братская кровь, может, с тебя начнется совсем другое, братская преданность, – шепотом проговорила Хорешан, осторожно поцеловав спящего сына в затылок.
От этого поцелуя мальчик шевельнулся, открыл глаза и, увидев склонившуюся над ним мать, обнял ее за шею.
– Где ты был, сынок? Чуть с ума не сошли, тебя искали!
– А я тут был… никого не хотел видеть… хотел быть в одиночестве…
– А на меня за что обиделся?
– Ни на кого я не обижался… Но… – спросонья бормотал Датуна. – Леван и Александр не должны были уезжать… Наверное… это ты отцу посоветовала, не захотела со мной расставаться, все еще ребенком считаешь меня…
– Какой же ты ребенок, Датуна, ты у меня вырос, возмужал! Но бог свидетель, отец твой сам пожелал их отправить.
– Ты могла и свое слово сказать.
– Я сказала… он не послушался.
Датуна встал, осторожно переложил подушку Александра на его тахту, аккуратно поправил подушку Левана, обнял мать, и они вышли из комнаты царевичей в сопровождении придворной дамы.
Идя по коридору, Датуна услышал вой собак, доносившийся со двора. Мальчик, не долго думая, сорвался с места и побежал к лестнице, а затем, будто вспомнив о чем-то, крикнул матери, что сейчас вернется.
Минут через десять вой прекратился и запыхавшийся Датуна вошел в опочивальню матери.
– Где ты был, сынок?
– Я выпустил собак!
– Зачем?
– До каких же пор они будут выть? До исступления доведут!
– Но бабушка велела запереть собак!
– Она не думала, что они будут так страдать по хозяину. Зачем им тут оставаться, если хозяев нет здесь?.. – поправился он поспешно.
– Они пропадут, сынок.
– Не пропадут. Если останутся, я буду ухаживать за ними до возвращения Александра. Если нет, тогда… А может, они догонят наших… Можешь представить, как Александр обрадуется, если они доберутся до Исфагана!
Хорешан послала к дворецкому сообщить, что царевич нашелся. Пусть успокоит народ.
– Если спросит, где был царевич, что отвечать, государыня? – спросила одна из придворных.
– Отвечай, что не знаешь, – отрезала Хорешан, но тотчас передумала, заставила вернуться посланницу: – Постой, он может обидеться… Царевича, видит бог, все любят, все волновались. Скажи, что он заперся в летних покоях, стихи, мол, писал… – Затем, повернувшись к Датуне, повелительно сказала: – Привыкай скрывать свое горе, ибо раскрытое, не утаенное горе тяжелее ложится на плечи горюющего. Ты уже не маленький и должен знать это. О нашей с тобой печали по поводу отъезда в Исфаган твоих братьев и бабушки не должен знать шах, иначе тайна твоего отца потеряет всякую цену и нашим близким наша же печаль может лишь повредить.
Мальчик не задавал вопросов, слова матери запечатлевались в его чутком сознании.
…Собак с той ночи в Греми больше никто не видел…
* * *
Хорешан с первых же Дней взяла на себя заботу о пастушке Гио-бичи, которому отдала одежду Датуны, а его овец велела отправить в Тушети с пастухами из Алвани, которые привозили во дворец сыр для царицы Кетеван.
Самого Гио-бичи она оставила во дворце, при Датуне. После отъезда бабушки и брата Датуна целую неделю никого к себе не подпускал, и Гио-бичи видеть не желал, хотя царица часто напоминала о нем и, зная сердобольность сына, старалась вызвать в нем жалость к сверстнику, на долю которого выпало столько страданий. Она надеялась, что как раз забота о сироте может исцелить Датуну от тоски.
Через неделю Датуна сам вышел во двор и спросил, где Гио-бичи.
– Хочешь, в Алаверди съездим? – предложил он приемышу, которого с трудом разыскали в конюшне и чуть ли не силой приволокли к царевичу.
– Чего я там не видел? – с бесхитростной прямотой ответил Гио-бичи.
– Там пасека, меду наберем.
– Пчелы кусаются, так тебя разукрасят, что родная мать не узнает, и снова суматоху поднимут, мол, сына моего подменили! – Робкая улыбка заиграла на худеньком лице мальчика, наряженного в одежду Датуны. – А если соглашусь, то отпустят ли тебя? И на чем мы поедем? Вернемся ли засветло?
– Поедем, понятное дело, верхом, на лошадях, а вернемся до захода солнца.
А я кроме осла сроду верхом ни на чем не ездил… И то один раз всего. У нас и осла-?? не было.
Датуна весело рассмеялся, но тут же осекся и, подойдя к дворецкому, уверенно попросил оседлать двух лошадей. Тот испросил разрешения у царицы, Хорешан отказала наотрез. Датуна остался стоять пристыженный, неловко было перед Гио-бичи. Недолго думая, пошел к матери.
Пришлось уговаривать. Наконец она согласилась, при условии, что с ними поедут три тушина-телохранителя. Датуна, сияющий, вернулся к дворецкому. Тот потихоньку за его спиной перепроверил, действительно ли разрешила царица поездку, – царевича не хотел обижать недовернем и ответственность брать на себя тоже не желал. Получив подтверждение, тотчас отпустил мальчиков в сопровождении не трех, а пяти телохранителей – двоих он добавил от себя.
Гио-бичи с трудом держался в седле, стремена ногами не мог достать, ерзал и подпрыгивал. Датуна делал вид, что не замечает его неловкости, время от времени поглядывал на товарища искоса: хотелось покрасоваться перед ним, но и унижать да позорить его тоже не хотелось.
Как только выехали они за пределы городской ограды и очутились в лесной просеке, навстречу им попался караван верблюдов в сопровождении полутора десятка всадников, среди которых выделялся богатырским ростом и мощным сложением краснобородый в пестрой чалме и пестром халате.
Датуна натянул поводья и повелительным тоном спросил:
– Кто такие и откуда?
Краснобородый отделился от каравана тяжело груженных верблюдов, приблизился к юному всаднику и вежливо поздоровался.
– Мы – армянские купцы, едем из Тбилиси, везем товары в Греми по велению царя Теймураза.
– Воля отца моего – божья воля, – гордо отвечал Датуна, – какой товар и откуда везете?
– Исфаганские ковры, шелк и парчу, холст, сафьян, оружие… – купец склонился еще ниже, улыбнулся из-под красной бороды.
– Есть ли кинжал хороший? – спросил Датуна.







