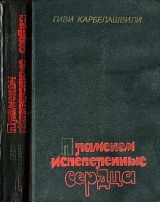
Текст книги "Пламенем испепеленные сердца"
Автор книги: Гиви Карбелашвили
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
– А ежели обвыкнутся и не смогут или же, возвратись, не захотят удержаться у нас? – выразил свои горькие сомнения Амилахори.
– Как бы они там ни обвыклись, как бы хорошо ни жили, счастливыми им не быть. А надежда на возвращение, пусть и нескорое, поможет им выдюжить: пусть не я сам, мол, но дети и внуки все-таки будут жить на родной земле! А зов земли – та великая сила, на которой стояла, стоит и вечно будет стоять отчизна наша. Грузин, как бы он ни благоденствовал на чужбине, все равно грузином останется и предпочтет сухую корку грызть на родной земле, чем быть первым визирем на чужбине! – Потом засмеялся и добавил: – Впрочем, шахиншахом, пожалуй, и на чужбине быть не откажется… На цихисдзирских кизилбашей наложи дань, хотя и податями душить тоже их не нужно, Кого уличишь в измене, голову с плеч и на кол, а труп собакам выброси! – Царь внезапно умолк, будто язык прикусил: опять у него сорвались с уст слова, которые он еще перед последним дарбази в Греми поклялся не произносить! Помолчав, царь заговорил громко и внятно: – Подданные шаха – мои подданные, ибо и я сам весь принадлежу шаху.
Некоторое время всадники галопом ехали молча. Когда село обошли сбоку, Теймураз остановил коня, спешился и свернул в кусты. Трое тушин-телохранителей тенью последовали За ним. Правда, в вечерних сумерках быстро исчезал человек, но царь отошел довольно далеко от свиты: он с детства отличался стеснительностью.
В кустах поблизости что-то зашуршало. Царь предусмотрительно взялся за рукоятку кинжала. Телохранители насторожились. Один из них обошел кусты и остановился как вкопанный. В ту же минуту и взгляд Теймураза наткнулся на зрелище, смутившее слугу. На раскинутой в траве бурке белело женское тело, а парень, прильнув и блаженствуя, не замечал ничего. Теймураз по одежде угадал, что парень грузин, а женщина – из цихисдзирских переселенцев-иноверцев.
– Ты что это делаешь, негодник? – спохватившись, прорычал тушин-телохранитель, стараясь загладить свою оплошность.
– Убирайся, сукин ты сын! Какое твое дело? – огрызнулся парень, на мгновение приподняв голову. – Ступай своей дорогой, пока башка цела!
Парню на вид было лет двадцать пять!
Девица еле слышно застонала и тут же затихла.
– Эй, тебе говорю, уматывай отсюда, не мешай, пока цел! – снова зарычал парень.
Теймураз беглым взглядом приметил что-то крупное… Затем смекнул, удивленный увиденным улыбнулся и пошел назад к своим. Тушины тоже оскалили зубы и не торопясь последовали за ним. Отойдя шагов на двадцать, царь проговорил вслух, так, чтоб слышали телохранители:
– Пусть блаженствует на здоровье! Глупцы, конечно, его осудят, скажут – срам, позор, сейчас, мол, когда кругом горе и слезы, разве можно, разве время этим заниматься! Но пусть никто не гнушается человеческим, ибо ничто человеческое не чуждо никому… кроме дураков… В деле продолжения человеческого рода мы все равны – и царь, и раб. А Джандиери хочет уничтожить кизилбашей. Не уничтожать их надо, а вот так – кровь разбавлять…
Неподалеку пасся табун лошадей… Обернувшись к свите, Теймураз спросил у Мухран-батони:
– Чей табун?
– Мой, государь.
– Кто погонщик?
– Сын конюха. Леваном зовут.
– А почему табун до сих пор здесь?
– Мы его держим тут до первого снега, пусть пасутся на воле, и сено сбережется…
– Да и сам Леван тут неплохо пасется, – усмехнулся царь, ловко вскакивая в седло. Не понимая и не осмеливаясь спросить у царя, что он имеет в виду, Мухран-батони забеспокоился. Осторожно расспросил тушинов-телохранителей, и через несколько мгновений в густых сумерках снова раздался дружный мужской гогот.
В Мухранском дворце царя ждали.
К встрече были готовы и во дворце, и в деревне. Дружину воинов разместили по крестьянским домам, свита расположилась в княжеском дворце.
Хлебом-солью встречало богатое картлийское село нового государя.
* * *
Чинарский хан с подобающими почестями принял царицу цариц Кетеван. По неписаному закону гости шахиншаха считались одновременно и гостями всех его подданных. Царевичу Левану и его приближенным были отведены отдельные комнаты, а царицу Кетеван проводили в зал, убранный исфагаискими коврами, мутаками и подушками. Слуг разместили в жалких пристройках, впрочем, и сам дом хана не поражал размерами и роскошью – он явно был беден и хлебом, и грошем. Обрадованный посещением высоких гостей, хан велел зарезать барашка, сварить плов, украсил стол шербетом. В знак уважения к гостье царице прислуживали четыре жены хана. Да, хан был явно небогат – имел всего четырех жен.
За обедом хан посадил царевича рядом. Слуги лишь к дверям подносили блюда и напитки, к столу допущен был только кетхода – чинарский староста – и приближенные царевича. Правоверный мусульманин, хан будто заранее предчувствовал, что придется нарушить запрет, наложенный кораном, как это всегда случалось при общении с грузинами. Когда внесли дымящийся плов с бараниной и рассыпчатый плов с изюмом, проголодавшиеся в дороге гости живо наполнили свои глиняные миски; первоначально они осторожно брали рис тремя пальцами, а затем, войдя во вкус и подражая хозяевам, смело запускали в лучшие восточные блюда всю пятерню.
Леван велел Георгию принести кувшин кварельского вина. Красным, как кровь, вином с легкостью наполнились азарпеши, и Леван, подмигнув Мехмед-хану, с восточной высокопарностью произнес тост за здоровье шахиншаха великого.
– Коран запрещает нам пить вино, – лукаво улыбнулся хозяин, переглянувшись с кетходой; оба не раз бывали в Кахети и знали толк в вине.
– Пить за здоровье шахиншаха великого даже коран запретить не может! – громко воскликнул заранее вдохновленный вином царевич и ловко схватил хорошо прожаренную ножку.
Мехмед-хан с ухмылкой взглянул на старосту, и, восславив аллаха, оба с удовольствием осушили чаши с кахетинским – благословенным даром грузинской земли, солнца, воды и труда виноградаря.
Леван не мешкая сразу провозгласил тост за любимых жен великого шахиншаха. Теперь он пил умеренно, все больше подливая хозяевам. Под женами шахиншаха он подразумевал свою тетушку и еще трех с их потомством, приходившихся ему тоже близкой или дальней родней.
И на этот раз не очень-то долго сопротивлялись хозяева, охотно поддержали царевича, жадно осушили свои чаши. Вскоре дело дошло до того, что они уже сами выкрикивали очередные тосты, пили до дна, позабыв о запрете, и старому Георгию пришлось второй раз наполнить кувшин кахетинским. Царевич не пил и внимательно следил за подгулявшими персами.
Мехмед-хану было далеко за шестьдесят, немногим моложе был и кетхода, а потому не удивительно, что с непривычки они очень скоро захмелели, тут же в зале повалились на ковер и дружно захрапели.
…Было далеко за полночь, когда Леван внимательно оглядел похрапывающего хана и его подручного. Затем обошел своих, блаженно сопевших после кахетинского вина. Убедившись, что и хозяева, и его приближенные крепко спят, дал знак своему верному слуге, трезвеннику, бодрствовавшему вместе с ним, Геле и, на цыпочках выйдя из зала, осторожно прокрался по темному коридору мимо зала, отведенного царице Кетеван, украдкой остановился возле двери, замеченной им сразу же по приезде сюда.
Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди, кровь приливала к вискам, в голове гудело, В другом конце коридора раздался чуть слышный шорох. Леван замер, затаив дыхание, решил вернуться, но… уяснив, что это всего лишь кошка, тут же передумал и, подзуживаемый нетерпеливой страстью, толкнул заветную дверь. Она поддалась со скрипом, но слабый скрип показался ему оглушительным грохотом. Впрочем, на этот раз он уже не подумал об отступлении, смело шагнул, решительно приблизился к широкой тахте, стоявшей справа от входа.
Зрение у царевича было острое, ночь стояла лунная, и в бледном свете, проникавшем через окна, он сразу разглядел спавших, каждую под своим одеялом, четырех жен Мехмед-хана. «Прекрасный обычай у мусульман, – с позволения аллаха иметь несколько жен. Не то что у нас. Чего они стоили бы без гаремов. Да будет благословен тот, кто придумал это… Кто угадает, которая из них лучше…» Изголодавшийся по женскому телу царевич недолго колебался и решительно нырнул под первое с краю одеяло. Теплое и упругое женское тело с гладкой кожей тотчас заставило его забыть о всякой осторожности. Со страстью голодного зверя накинулся он на признанную в гареме первой жену хана, которая сначала замерла от неожиданности, но, сообразив что к чему, тотчас же пылко ответила на дикие ласки юноши…
Укротив первый порыв страсти, Леван не мешкая проскользнул под следующее одеяло и там тоже вкусил блаженство. От первой же возни и шума проснулись другие женщины. Возбужденные сладострастным стоном, они с нетерпением ждали развязки, им было ясно, что скоро наступит их черед отвечать на страсти пылкого незнакомца. Они ждали, ждали терпеливо, блаженно, ибо это было ожидание, исполненное трепета, минутного опьянения плоти, самозабвения.
Распаленный алым кварельским вином, царевич не знал устали…
Близился рассвет, когда он скользнул под четвертое одеяло. Тело его лоснилось от пота, но страсть ничуть не утихла. Каждая последующая казалась ему слаще предыдущей, ибо охваченные желанием женщины дрожали от нетерпения, предвкушая блаженство, ниспосланное самим аллахом за те страдания, от которых они вот уже пять лет вяля возле дряхлого хана, списанного с мужских счетов волей самого же аллаха.
…Четвертая даже после блаженства не выпускала царевича из крепких и нежных объятий. Прижимая его к себе, она страстно покрывала его лицо поцелуями. Почувствовав влагу на щеках, Леван невольно произнес вслух:
– Ты плачешь!
– Да, я плачу, бог ты мой, плачу… – по-грузински зашептала девушка. – Тринадцать лет мне было, когда привез меня этот проклятый сюда из родного Кизики. Трижды я убегала, трижды меня ловили. С тех пор пять лет прошло, замучил он меня совсем. Сам ничего не может, и другому не уступает, и домой не отпускает, и ребенка не могу удостоиться – хоронит меня заживо, злодей. И я буду благодарить бога за то, что я сегодня впервые познала любовь… С тобой…
Увлекшись, женщина говорила все громче, потому-то Леван осторожно приложил указательный палец к ее губам, давая понять, чтобы она понизила голос.
– Не бойся, – успокоила его женщина, – они не пикнут, никого не выдадут. Им тоже тошно здесь, как и мне. Ты осчастливил их. Первая, с которой ты был, – старшая жена хана, – обычно громко кричит в это время, а сейчас, смотри, как притихла! Нет, они тебя не выдадут, век своего аллаха молить за тебя будут. – Женщина помолчала, потом снова страстно принялась целовать его лицо, шею, грудь. – Парень, бог ты мой, назови мне свое имя, кто ты и откуда?
– Леваном меня зовут, – прошептал царевич, – только смотри не проговорись.
– Не тревожься, любимый! Я жить буду твоим именем, а если бог даст и сын от тебя родится, я его обязательно назову Леваном, клянусь богом всевышним, грузином выращу, и если мне не будет суждено, то пусть хоть он отплатит за меня кизилбашам. Что же оставил нас беззащитными наш царь, разбросав по белу свету! До каких пор будут издеваться над нами эти басурмане, доколе кровь они будут лить нашу?
– А тебя как зовут? – Левану явно не по себе стало от упреков в адрес царя, не мог же он оправдывать отца здесь, в чужой постели, упоминать вслух его имя. Не время сейчас и не место.
– Раньше Лелой меня звали, а здесь Лейлой-ханум зовут, будь они все неладны!
– Если родится ребенок… мальчика назови Теймуразом, а девочку – Кетеван.
– Ты что-то странно говоришь. Кетеван ведь царица цариц наша, вдова Давида, которая чуть ли не собственноручно порубила своего вероотступника деверя. Не в честь ли той самой Кетеван ты хочешь назвать дочку? Не она ли здесь гостит у хана?!
– В честь той самой, – не удержался польщенный царевич.
– О, да благословит господь ее десницу, ее материнство и мужество, вместе взятое! Молю тебя, замолви за меня словечко перед царицей, пусть она заберет меня от этого Мехмед-хана, я стану ее прислужницей, твоей наложницей, я ведь красивая, парень, очень красивая и молодая, сжалься надо мной! Пусть она попросит меня у Мехмед-хана, и клянусь, ни она, ни ты не пожалеете об этом! Прошу тебя, бог ты мой, любимый, умоляю…
Леван снова приник к ее пылающим устам. На прощание шепотом пообещал выполнить просьбу, хотя наперед знал, что не посмеет сказать бабушке ни слова.
Необъезженным жеребцом дрожал у дверей верный слуга Гела. Как только царевич вышел, он сообщил ему, что вокруг все тихо и спокойно, и тут же попросил разрешения войти к женщинам. Царевич сначала нахмурился – просьба показалась ему дерзкой, но молодой задор и юношеская солидарность взяли верх, пожалел он любимца своего и шепотом объяснил, куда и как идти, не забыв строго-настрого повелеть: четвертую, последнюю справа, не трогать, она, мол, моя, грузинка, Лелой зовут.
Гела вернулся на рассвете, с учтивостью подошел к царевичу и по-братски обнял за плечи, бережно, благодарно.
– Лела просила передать, чтобы еще приходил.
– Надеюсь, ты не прогневил бога! – сквозь зубы процедил Леван.
– О чем ты говоришь, царевич! Я как сестру родную ее поберег, даже не взглянул ни разу. Она сама прошептала вдогонку, велела передать, чтобы ты свое обещание не забыл.
– Так что она велела передать: чтобы я пришел или обещание не забыл?
– Чтобы обещание не забыл, а я так и решил, что это значит – пусть еще приходит…
У Левана потеплело на сердце. Царевич перевернулся с одного бока на другой и крепко уснул сладким сном в блаженной усталости…
…Чуть свет поднялась царица Кетеван. Проснувшись словно от толчка, она немедля покинула ложе – не любила валяться в постели. Не изменила своей привычке и сейчас, хотя проснулась раньше обычного. Вместе с нею вскочили и сонные прислужницы, но Кетеван, опередив всех, вышла на крыльцо и остановилась как громом пораженная, у крыльца лежал и истекал кровью увязавшийся за ними из Греми верный пес Мура. Рядом с ним стояла его подруга Мурна с неразлучным щенком Бичей. Две пары их тоскливых по-человечески выразительных глаз устремились на хозяйку, как бы моля ее о помощи своему близкому.
…Когда царевичу Александру исполнилось шесть лет, один тушинский пастух подарил ему шестимесячного щенка. Мальчик души не чаял в своем питомце: кормил его, поил, и тот вскоре вымахал в огромного пса-волкодава с белой грудью и белыми лапами. Красавец Мура был сильный, смышленый. На царской псарне не было ему равных. Он мог стащить с коня всадника, коли врага в нем учуял, а врага от друга отличал безошибочно. Своих не трогал. Детей никогда не обижал, напротив, всегда кидался защищать их. И дети его не боялись. Царевичей всегда провожал, а по возвращении встречал, радостно виляя хвостом. Особенно любил Александра и царицу Кетеван. Однажды весной Датуна случайно свалился с крутого берега в разлившуюся реку Инцоба. Ребенок был наверняка обречен, если бы не Мура. Он бросился в воду, быстро вытащил тонувшего малютку и осторожно положил его к ногам перепуганных братьев. Александр тайком носил своему любимцу мясо и даже сласти. Года два назад Мура привел откуда-то такую же красивую сучку. Придворные вельможи нарасхват разобрали щенков. Одного лишь не отдал Александр – уж очень похож на отца неуклюжий смешной Бича!
Уезжая, Александр оставил все семейство Муры на попечение Левана и Датуны, и оба мальчика преданно заботились о собаках, но те – и сука, и Бича, – почему-то больше привязались к Левану. Когда пришло время и Левану покинуть отчий дом, он поручил своих верных друзей Датуне. В ночь перед отъездом в Исфаган Датуна предусмотрительно велел на ночь запереть их, чтобы они не сбежали. Однако чуть ли не на второй день все три собаки догнали караван. Леван догадался, что Датуна нарочно выпустил собак. Так же восприняла; и царица, потому-то она с особой нежностью приласкала посланцев родного Греми, бессловесных гонцов Датуны.
А теперь огромный волкодав лежал на крыльце, истекая кровью. Уткнув морду в лапы, он налитыми кровью глазами сочувственно взглянул на огорченную Кетеван, как бы успокаивая ее. Чья-то недобрая рука тяжелым предметом перебила хребет несчастному животному. Лужа крови, в которой лежал Мура, постепенно росла. Вдруг бока, которые до этого тяжело вздымались, впали, тело перевалилось на бок, голова откинулась, язык вывалился, собака перестала дышать… И тут же жалобно завыли осиротевший Бича и его мать.
Кетеван не выдержала этого грустного зрелища, вернулась в дом, велела Георгию похоронить пса.
Без Левана Георгий не захотел исполнять поручение царицы.
Огорченный и встревоженный Мехмед-хан подмял всех на ноги; указав местечко для Муры, велел вырыть яму. Но Леван никому не позволил рыть, сам выбрал место в уголке сада и вырыл глубокую яму. Засыпав холмик, он присел рядом, еле сдерживая слезы, впервые в жизни ощутил он горечь потери близкого существа.
– Грех я, верно, совершил, а потому наказан богом, – вслух проговорил Леван, которого понял лишь верный Гела и поспешил ответить.
– Добро и благо не надо путать с грехом, царевич, – чуть ли не шепотом возразил он.
– Грех и благо неразделимы, сынок, они ходят по свету рука об руку: то, что для одного грех, для другого – благо, – спокойно проговорил Георгий, бросая сочувственный взгляд на подавленного горем царевича.
У старика сердце так и зашлось от боли, глаза увлажнились. Он отвернулся от царевича и украдкой утер полой чохи скупую мужскую слезу. Стоящие там, чужие и свои, наивно приписали его слезы гибели Муры, но проученный шахской тиранией Георгий оплакивал совсем другое…
Мела осенняя поземка, утро было неприветливое, небо хмурилось. После ясной и тихой ночи в права вступил тусклый, сумрачный день.
Караваи спешно собирался в путь. Хозяин, назойливо извиняясь, пытался развеять грусть гостей, а в душе недоумевал, как, мол, можно смерть собаки так переживать.
Арбы были запряжены, кони оседланы, и свита поспешила покинуть Чинар.
Леван, с досадой окинув прощальным взглядом ханский двор, неожиданно для себя заметил на балконе четыре женские фигуры, закутанные в чадру. Все четыре одновременно прощались с их ночным богом. Чутье подсказало, что они подсознательно угадывали и его, и его телохранителя. У царевича одновременно мелькнули две мысли: кому из них двоих – ему или Геле – отдали предпочтение те трое и как распознать под чадрой ту, четвертую, что принадлежала только ему? Давешнее обещание свое он вспомнил сразу же, как проснулся, но царице Кетеван, конечно, ничего не осмелился сказать, постеснялся, заранее покраснев до ушей при мысли, что она могла догадаться. И то досадовало его: если женщина отличила его от другого, почему он не может отличить Лелу? Леван еще раз взглянул на женщин, а затем в сердцах огрел дедовской плеткой любимого своего иноходца и камнем из пращи понесся прочь от ханских владений.
Как бы обижаясь на владельца, не привычный к плетке конь, точно безумный, сорвался с места – в этом путешествии впервые довелось ему возглавить шествие, а потому теперь он вдвойне утолял свою страсть к полету. Леван ловко сидел в седле, подаренном сыном князя Черкезишвили Мамукой. Пожалел было, что стегнул плетью любимого коня, но эту мысль тотчас вытеснили другие.
Он вспомнил прадеда Александра, любителя охоты и верховой езды, образ которого всегда являлся для него не подлежащим оспариванию примером. «Наверное, бабушке очень даже приятно сейчас наблюдать за мной, копией прадеда, как она говорит изредка», – подумал он. Но свистящий в ушах ветер будто подсказал ему такую мысль: «А почему именно перед бабушкой я красуюсь, а не перед отцом родимым?»
«Отец далеко, бабушка – рядом», – ответил сам себе и остался доволен объяснением, но мысли, не переставая, роились в голове, тревожные, беспокойные: «А нужно ли было в Исфаган нас обоих отправлять? Не перестарался ли отец?.. Или Хорешан хотела избавиться от соперников? Что ни говори, а нам она все-таки мачехой приходится и на престол небось родного сына посадить хочет…» Леван снова перетянул коня плетью, верный друг взбесился, но прибавить скорость он уже не мог – и так мчался из последних сил…
«Если бы не мачеха, хоть Александр остался бы дома», – обманул себя царевич и признался тут же себе, что не столько о брате заботился он, сколько о своей собственной судьбе.
«Почему же царица цариц все-таки уступила мачехе и отцу? Неужели и она жертвует мною?» – мелькнула вдруг мысль, которая поразила царевича. Он резко придержал коня, повернул в обратную сторону и, помчавшись навстречу бабушке, встал как вкопанный возле нее. Та тоже приостановила свою лошадь. Леван по-детски прильнул к бабушке и нежно поцеловал ее в щеку. Царица правой рукой властным жестом закинула назад голову внука, понимающе взглянула ему в глаза своими умными, ясными глазами и мягко, но решительным голосом произнесла:
– Тебе следует быть сильнее, царевич! – И дала свите знак двигаться дальше.
Разлившуюся после недавних дождей реку Тарташи осторожно перешли вброд. Впереди шел Георгий: и конь у него был добрый, и плавать он умел, и дорогу знал хорошо. До Аскарани еще оставался целый день пути, если не больше. По осеннему вечному закону дни становились все короче, а ночи длиннее и холоднее. Потому-то Кетеван даже обсушиться толком не дала после трудной переправы. Нет, она вовсе не спешила, да и куда ей было спешить! Просто не хотелось ехать ночью по незнакомому краю, и шатер ставить на чужой земле тоже не по душе было ей.
* * *
На следующий день Теймураз не выходил из своих покоев, завтрак, обед и ужин ему подавали в малый царский зал. Не звал он к себе хозяина, не вспомнил ни о Джандиери, ни об Амилахори. Кайхосро Мухран-батони сам пожаловал, обеспокоившись, уж не занемог ли его высокий гость. Но увидев с порога, что царь сидит за столом и пишет, хозяин молча повернул назад.
Погруженный в свои мысли и поглощенный писанием, Теймураз его не заметил.
Дидебулы сидели за ужином в большом зале. Кроме кахетинцев, прибывших с царем, были приглашены и сотники-азнауры Картли. Кайхосро, как и полагалось хозяину дома, руководил столом по праву тамады. Он чинно выпил за здоровье царя, особо подчеркнул государственные и человеческие заслуги царицы цариц Кетеван, помолился богу о благополучном возвращении царевичей на родину. Кахетинцы смаковали мухранули[40]40
Мухранули – грузинское вино, родиной которого считаются окрестности села Мухрани.
[Закрыть] и после каждой чаши с достоинством воздавали должное виноградарю и виноделу, подчеркнуто благословляя их трудолюбие и умение.
Частенько вносили винные кувшины, однако никто не пьянел.
Амилахори завел песню. Кахетинцы достойно поддержали. Когда умолкли, Йотам пошутил:
– Вас, кахетинцев, за столом больше, потому и перетянули в пении.
– А мы и в питье не отстаем, – откликнулся Амиран Джорджадзе, младший брат Нодара Джорджадзе.
– И сабля наша бреет не хуже других, – поддержал своих Георгий Андроникашвили.
– Жемчуг тоже мал, зато равного ему не легко найти, – добродушно парировал остроту кахетинцев улыбающийся Йотам.
– Это здесь нас мало, а во всей Картли, бог даст, наберется достаточно, на всех хватит, – гордо вставил хозяин.
– Дай бог, чтобы и нас, и вас всегда было много! И песни у вас превосходные, и угощение богатое, и вино роскошное. Кто может делить Картли и Кахети, если не наш недруг и враг! – твердо вставил Джандиери, не признающий даже шутку в столь важном деле единства. – Да крепнет и славится наше единство, наше царство! – еще тверже завершил Джандиери и лихо осушил рог.
– Аминь! – дружно поддержали все в один голос и с удовольствием выпили легкое, но крепкое мухранули.
Не все еще успели осушить свои роги, когда в зал вошел царский слуга и громко объявил:
– Государь просит к себе хозяина, Амилахори, Джандиери и Никифора Ирбаха.
Джандиери снова слегка задело упоминание его имени после имени Амилахори; хозяйское первенство не счел обидой, хозяин – другое дело. «А этого царь, видимо, и в других делах мне предпочтет», – с болью подумал Джандиери и не спеша, сохраняя достоинство, третьим пошел за двумя картлийцами.
Царь размеренным шагом ходил из угла в угол. Вошедшим предложил сесть, а сам начал свою речь стоя. Никто не садился, остались стоять.
– Вы самые близкие и верные мне люди из всех приближенных. Вы – та основная, первейшая сила, на которую я обопрусь и в горе, и в радости, и в борьбе, ибо проигранная борьба – наше горе, а выигранная – наша радость. Хотя я еще и не венчан на картлийский престол, дабы заслужить право перед богом назваться царем и тем получить его благословение, но, желая добра нашему народу, я позволю считать себя и царем Картли, с вашего, конечно, согласия и при вашей единой поддержке только! Не примите за обиду… если я попрошу вас всех поклясться на святой иконе, что никогда никто не узнает о том, что сегодня будет здесь сказано, кроме тех, кому по долгу нужно будет знать об этом – кроме русского царя и кроме ваших наследников… последним лишь по праву завещания для передачи грядущим поколениям…
Царь замолчал и искоса поглядел на образ девы Марии, висевший в углу.
Звук капающего с подсвечников воска трижды нарушил напряженную тишину, торжественно воцарившуюся в царских покоях.
Первым к иконе подошел Амилахори, преклонил правое колено и, трижды перекрестясь, громко произнес:
– Я клянусь честью грузина, родиной, могилами предков, честью древнего рода и жизнью троих сыновей, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не отойду от царя Теймураза, не предам общего дела Картли и Кахети, никогда и никому не выдам тайны царя и страны, клянусь!
Остальные, последовав примеру Амилахори, тоже поклялись в верности царю и народу и неторопливым шагом вернулись на свои места в ожидании царского слова.
– То, что я делал и говорил в Греми и Тбилиси в отношении Исфагана и русского царя, было Скорее преднамеренным, вынужденным притворством, чем истиной. Я холодно распрощался с послами, хотя по-прежнему верю, что спасение наше – в одной России, и только в России. Другого пути нашего спасения я не вижу, так же как не видел дед мой Александр и наши далекие по времени, но близкие по духу предки. Окруженных кольцом иноверцев, нас и армян спасет только единоверная Россия, и не пушками и пушкарями, а мощью своей неодолимой, широтой неоглядной, могуществом вечным и непобедимым. Европейцы наблюдают за единоборством между шахом и султаном, хотят ослабить Османскую империю руками шаха, потому и не предпринимают прочий него никаких действий, надеясь с его помощью согнать султана с европейских земель.
Царь мгновение помолчал, нахмурясь, потер указательным пальцем правой руки лоб, как это делал всегда в минуты тяжких сомнений, потом подошел к столу, налил в азарпешу вина и немного отпил, – И русский царь тоже не хочет ссориться с шахом, ему скорее султан стоит поперек пути к морю, хотя он и шаха вовсе не так жалует, как в грамоте нам писал о том. И то я думаю, что эта грамота и составлена-то была так на тот случай, если попадет шаху в руки, дабы не служила поводом для подозрений и гнева. Мы же и без грамоты понимаем намерения наших единоверных доброжелателей и покровителей, а наши заботы и тревоги неплохо, должно быть, ведомы русскому царю…
Я сполна и без сомнения доверяю только вам четверым, как братьям своим, старшим и младшим, а потому-то и пригласил вас на совет, чтобы услышать ваше мнение о том, на кого нам опереться, кому хранить верность, на кого надеяться в деле создания единой Грузии, спасения нашего истерзанного врагом народа…
В зале опять наступила томительная тишина, уже раз двадцать срывались с подсвечников капли оплывавшего воска. Потом Амилахори, переминаясь, слегка откашлялся и приготовился говорить. Джандиери взглянул на Теймураза, тот одними глазами, только одними глазами улыбнулся своему накрепко преданному слуге. И эта никем не замеченная улыбка вмиг развеяла все прежние обиды в добром и верном Джандиери.
– Государь, – спокойно начал Амилахори, – как ты верно изволил сказать и как завещано отцами, дедами, далекими предками нашими внукам и правнукам, правоверной Грузии с кизилбашами не по пути. Ясно также и то, что ни султан, ни шах добровольно нас в покое не оставят, а у нас не хватит сил им противостоять – люди истреблены, страна обескровлена. То и дело, от передышки до передышки, нас когтят иноверцы, налетающие с отрогов Кавкасиони. А наша молодежь продана в янычары и служит врагам-супостатам… Нужна внешняя сила, и мы должны сделать все, чтобы ее, эту внешнюю силу, привлечь на свою сторону. Другого пути к спасению у Грузии нет. Одно лишь тревожит меня – помня о судьбе Луарсаба, не могу не печалиться о царице цариц Кетеван и царевичах… Наверное, не надо было посылать обоих в Исфаган…
– Если понадобится для спасения Грузии, я и третьим сыном пожертвую, и себя самого не пощажу. Сегодня, когда, опасаясь султана, шах не решится открыто против нас действовать, я, чтобы рассеять подозрения, послал к нему троих самых дорогих мне людей, дабы выиграть время, объединиться и призвать на помощь внешнюю силу. Если мы не достигнем успеха, если два чудовища – шах и султан – поладят и обратят на нас свой мутный взор и если не успеет поддержать нас внешняя сила, а у самих нас не хватит выносливости, тогда пусть они станут жертвой этой великой попытки, задуманной во имя спасения родины от неминуемой гибели.
– Но и русский царь, – осторожно, хотя и твердо начал Джандиери свою мысль, которую Теймураз сразу понял, отчего и нахмурился, – к нам придет не с одной лишь подмогой. Он тоже пожелает даров, как в свое время потребовал от царя Александра и о чем так настойчиво ныне напоминает через своих послов. Кто знает, будет ли эта дань меньше той, которую сдирают шах и султан, или ж будет еще больше. Разве в свое время они не потребовали у твоей матери тебя самого в заложники, разве не от них, спасая, укрыла тебя царица цариц в Исфагане?!
– Может, матушка-государыня моя тогда ошиблась, а вместе с ней проиграла и вся Грузия! Русский царь просил меня не в заложники, а в зятья, сестру свою хотел он отдать нам в царицы. И кто знает, если бы нашей царицей стала его сестра, отдал бы он ее потом вместе с будущими детьми и со всей Грузией на растерзание шаху, или посмел бы шах разорять Кахети, если бы государыней здесь была бы кровь и плоть русского царя?! Мать моя не раз высказывала эти размышления вслух. И до женитьбы моей на Хорешан у нее вырвалось как-то… но было уже поздно… Свершилась шахская воля.
Без выгоды, без пользы для себя – никто ради нас себя в жертву не принесет. Ни для кого не будет достаточно общности веры, чтобы проливать кровь свою. Так было, так есть, так и будет вовеки… И главная наша забота – чтобы этой жертвой не стал народ, не стали люди – мужчины, женщины, дети, чтобы Грузия не вы-ро-жда-лась. И шах, и султан – оба хотят гибели Грузии, тогда как русский царь, наоборот, всей душой стремится укрепить правоверность на Кавказе, чтобы с юга иметь прочный заслон – добрых, единоверных соседей, крепостную ограду, твердыню. Для шаха и султана – мы болезненный нарост, для северного соседа – надежда, оплот на будущее, потому-то первые хотят избавиться от нас. Правдой или неправдой стремятся переродить, обасурманить или же истребить дотла нас и наше потомство, а другие – объединиться с нами желают, хотят облегчить наши страдания. Ибо потерять христианство значило бы для нас потерять язык. Грузин без родного языка навеки останется рабом шахского и султанского мира… В нашем деле у них другой заботы нет! – Теймураз отпил еще один глоток вина. – Вот, к примеру, если меня попросят помочь нашим добрым соседям, прежде всего я подумаю: что принесет моей Грузии эта помощь, получу ли я выгоду, склоню ли с этой помощью их, моих добрых соседей, к верной службе и преданности; без этого, без царского расчета, ничего делать я не стану, хотя и не желаю соседям зла, как того им желают шах и султан. Таковы наши законы сегодняшние, хотя они не очень-то честные, зато ясные и даже необходимые для малых стран, – так ныне думаю и действую я, и зачем дивиться, если так же будет мыслить и действовать русский царь? Потому-то я не осуждаю его действий и стремлений, ведь мудро сказано недаром: чем тебе хуже, тем платить надо больше.







