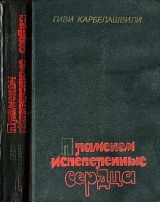
Текст книги "Пламенем испепеленные сердца"
Автор книги: Гиви Карбелашвили
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Датуна прижался к отцовской груди точно так же, как прижимался в детстве к Левану и Александру.
– Отец! Я тоже не знаю, что нас ждет, знаю лишь одно – в тебе сердце и душа, сила и надежда моя и моей страны. Я хочу, чтобы ты твердо знал: если я когда-нибудь сомневался в правильности предпринятых тобой шагов, то всякий раз ошибался… Хотя никто и никогда не считал меня глупцом. Когда ты выдавал Дареджан замуж в Имерети, я не приехал на свадьбу. Осмелился высказать тебе упрек. Прости меня, ибо и этот твой шаг был мудрым, направленным на благо твое и народа нашего многострадального…
Теймураз приник губами к челу сына, потом быстро вскочил в седло и пришпорил коня…
Солнце стояло уже высоко в небе, когда они подъезжали к Гомборскому перевалу. Впереди, соблюдая все предосторожности, ехали дозорные.
В пути они никого не повстречали, не оказалось также и поддержки, обещанной арагвским Эристави.
Войско царя было малочисленным, воины, обремененные поклажей, с трудом продвигались в горах.
Когда они миновали перевал и начали спускаться по крутому склону, к Теймуразу привели старика горца. Старик снял шапку, опустился на колени перед царем… Потом встал и доложил Теймуразу, что в этих местах все спокойно, никто не приходил, войска никакого не видно, только вот позавчера повстречался ему некий отрок из Гудамакари, который сказал, что видел войско, направлявшееся к Тианети, но не сказал, чье оно было.
– К Тианети, говоришь, направлялось?
– Да, батюшка-государь.
– Это были кизилбаши?
– Кто знает, отрок ничего об этом не сказал.
– А что за отрок был?
– Да кто его знает! Сказал, что сам из Гудамакари, отца ищет. Отец, говорит, здесь должен быть, и я, говорит, с ними пойду.
– Куда?
– А тут, говорит, царь Теймураз пройдет, дай богему здоровья, он нас от Зураба-злодея избавил.
– А про Чолокашвили он ничего не говорил? – улыбнулся Теймураз, добрым глазом покосившись на князя Чолокашвили.
– Нет, родимый, про то не говорил.
– А сколько тому отроку лет?!
– Да годков пятнадцать, бог даст тебе здоровья!
Рано мужали грузины, ибо родина нуждалась в зрелых мужах.
…Уже смеркалось, когда они подходили к Тианети.
В Тианети Теймураз не пожелал войти, шатры решили поставить на ее подступах.
Только взялись за дело, как со стороны Тианети и Гомбори налетели кизилбаши.
Горячий бой завязался в окрестностях Тианети.
Царицу и домочадцев вместе с казной тушины, пшавы и хевсуры укрыли в глубине леса, Теймураз отчаянно сражался в небольшой долине, отбиваясь от врагов.
Разъяренный, он выискивал Ростома, но тщетно. Предусмотрительный старик за неделю до его появления занял Тианети, перекрыл все пути и тропы, кроме той, по которой должен был пройти Теймураз, а сам укрепился в башне, построенной еще во времена царя Александра.
И снова настояли на своем тушины, пшавы и хевсуры – чуть ли не силой увели с поля боя Теймураза.
Посланные в Гомбори гонцы вернулись к полуночи и доложили Теймуразу, что путь на Кахети отрезан. У Теймураза была мысль спуститься в Алазанскую долину, вызвать Датуну, а оттуда перейти к дидойцам и лезгинам. Он надеялся, что на царя с войском разбойники напасть не посмеют.
Дрожавшие от холода домочадцы даже в лесу не смели разжигать огня, боялись, что враг затаился где-то рядом.
Хорешан не теряла присутствия духа, накинув бурку на плечи, сидела в головах у Теймураза, который прилег на расстеленной бурке, и шепотом молилась:
– Господь всесильный и всемогущий, поелику сподобилась я дожить до сей грозной поры, отпусти мне грехи, совершенные ныне или когда-то словом, делом и умыслом. Очисть, создатель, душу мою от всяческой скверны плоти и духа и даруй мне, всевышний, право ночью сей с миром отойти ко сну, дабы восстать с моего скромного ложа достойной святого имени твоего каждым днем жизни моей. Помоги мне одолеть врагов моих, врагов земных и неземных, и избавь меня, господи, от поношений недругов моих и от злых умыслов, ибо твое есть царствие, сила и слава, отца и сына и святого духа, ныне и присно и во веки веков, аминь…
– Господь наш всеблагой, Иисус Христос, помилуй меня, недостойную рабу твою, изыми из разума моего и уст моих слова вредные и суетные, ибо благословен есть ты ныне и вовеки, аминь!
Хорешан молилась.
Теймураз хмуро молчал.
Люди надеялись на бога и Теймураза.
В лесу было холодно, а тьма, казалось, еще усиливала этот холод.
Теймураз не спал, бодрствовала и Хорешан – все ждала, вдруг появится Датуна.
Утром стало ясно, что все дороги и тропы перекрыты накрепко.
Малый отряд Теймураза пробиться сквозь полчища врагов, конечно, не мог.
Царица умылась, поправила на голове чихтикопи и лечаки[75]75
Чихтикопии лечаки – старинный женский головной убор в виде бархатного ободка (чихти), поверх которого надевается треугольная вуаль из тюля (лечаки).
[Закрыть], приколола булавку, доставшуюся от мученицы Кетеван, и потребовала коня.
– Ты куда? – вяло спросил Теймураз, скорее для порядка, чем из любопытства, ибо и сам догадывался о замысле царицы.
– Поеду в Тианети, повидаю Ростома.
Теймураз ничего не ответил, знал, что другого выхода у них нет.
Царица взяла с собой лишь двух придворных дам – больше никого. Выехав из леса, они столкнулись с кизилбашами, но те никаких препятствий чинить им не стали.
Когда, подъехав к крепости Тианети, царица пожелала спешиться, коня принял у нее Заал Эристави.
Царица поглядела на него косо, но промолчала. Заал отвел глаза в сторону – вчерашнего союзника царица Кахети увидела сегодня в качестве хозяина, гостеприимно принимавшего врага. Она не удостоила его даже приветствием, у какого-то кизилбаша по-персидски справилась о местонахождении Ростома.
Ростом встретил царицу стоя. И Хорешан, не садясь, приступила прямо к делу.
– В моих и твоих жилах, Ростом, течет одна кровь, мы оба с тобой картлийские Багратиони.
– Я царь Картли.
– А я сестра картлийского царя и наследница престола, ибо в христианских державах никто брата с сестрой не разделяет… Со времен царицы Тамар признано – льва щенки равны друг другу, будь то самка иль самец.
– Если ты пришла искать ссоры, лучше было прислать мужа своего.
– Искать ссоры пришли вы оба – ты и Теймураз. Негоже тебе новое кровопролитие затевать, пора и о душе подумать на старости лет.
– Чего тебе надо, зачем ты пришла, Хорешан?
– Освободи нам путь, отойди и пропусти нас в Имерети.
– Теймураз все равно возвратится и будет воевать.
– Пропусти нас с имуществом нашим и приближенными, я даю слово, что он не вернется с войной… Только еще одно условие: пошли сейчас же своих людей, чтобы Датуну пропустили к нам невредимым.
– Живой он с ними не пойдет.
Хорешан сняла заветную булавку с чихтикопи, протянула Ростому.
– Это булавка царицы Кетеван… Датуна знает… Он играл ею в детстве… Пусть передадут ему, и он покорится. Ты знаешь, что у нас нет больше сыновей… Неизвестно, что еще может случиться… У тебя тоже нет детей… Не губи нас и Грузию… При жизни твоей, даю тебе слово государыни, соперничать с тобой не будет никто из моей родни.
– Вы должны мне и Кахети уступить!
– И Кахети уступим! – твердо ответила Хорешан, устами которой говорила скорее супруга и мать, чем царица, хотя держалась она с истинно царским достоинством.
Она не успела договорить, как в покои вошла царица Мариам и смиренно поклонилась просительнице.
Потом она повернулась к Ростому и громко, чтобы слышала Хорешан, проговорила:
– Эту булавку я отвезу сама. Сын Теймураза никому не сдастся, кроме меня. – Она едва не прикусила язык, ибо слово „сдастся“ звучало двусмысленно, и она поспешила исправить невольную оплошность: – В пылу сражения он опустит саблю разве только перед грузинкой.
Мариам взяла булавку у царицы Хорешан и удалилась столь стремительно, что Ростом не успел даже что-нибудь сказать ей вслед. Хорешан замерла, услышав через минуту топот пущенных галопом коней. Ростом, знавший крутой нрав своей жены, пообещал царице Хорешан беспрепятственно пропустить всех до единого в Имерети с казной и поклажей.
Хорешан поклонилась с достоинством и громко проговорила:
– Слава создателю, что родич по крови не обманул моих ожиданий! – с этими словами она круто повернулась и быстрым шагом покинула зал.
Ростом вызвал своих подручных и приказал пропустить Теймураза со свитой. Потом поманил пальцем сотника-кизилбаша и удалился с ним в келью. Убедившись, что никто их не слышит, царь наклонился и прошептал:
– Возьми с собой людей Заала Эристави и езжай в Кизики, вы должны опередить царицу Мариам, передай мой приказ Селим-хану: царевича Датуну, живого или мертвого, доставить сюда, и как можно скорее!
* * *
Теймураз снова нашел приют под кровлей Кутаисского дворца.
В зале сидели трое: Теймураз, Хорешан и Дареджан.
– Беспокоюсь я о Датуне, – сказал Теймураз. – Сердце вещает беду.
– Мариам Дадиани обещала мне твердо.
– Мариам Дадиани надоел старый муж, она и помчалась к Датуне, авось, мол, и мне перепадет малость, – съязвила Дареджан.
– Негоже все переиначивать и над всем измываться, дочка! – нахмурился Теймураз.
– Правого надо звать правым, а неправого – неправым, похотливость же Дадиани известна!
– Оговорить, дитя мое, кого угодно можно.
Хорешан встала и подошла к окну, не по душе ей пришлась бесцеремонность Дареджан.
Дареджан поняла неодобрение царицы, но не захотела уступить:
– Лицемеры Дадиани. Лживость и притворство у них на лице написаны. Не щадят ни взрослых, ни детей, лишь для себя ищут пользы, ко всему со своей меркой подходят, другого мерила у них нет.
– Я виновата, – прервала ее Хорешан. – Когда она вышла, мне надо было следовать за ней и самой направиться к Датуне.
– Он бы не послушался тебя, – возразил Теймураз.
– Я бы от твоего имени с ним говорила.
– Но я не мог просить его, чтобы он отступил и сдался, такое в нашем роду не в чести.
– А то, что в нашем роду в чести, добра нам, как видишь, не принесло, – снова вставила свое Дареджан.
Теймураз еще больше помрачнел. Хорешан с укоризной взглянула на Дареджан.
– Почему же не принесло, дочка, ведь шах Аббас ничего с нами поделать не смог!
– Как это не смог?! – вскинулась Дареджан. – А два брата и бабушка – этого, по-твоему, мало?!
– Это, дочь моя, – спокойно, но твердо отвечала Хорешан, – воля божья, ведь шах Аббас и Марабдинскую битву чуть не выиграл, однако Картли и Кахети омусульманить не смог, и истребить нас не сумел, и с родной земли нас согнать не смог. Это и есть победа Теймураза, об этом сам шах Аббас, оказывается, говорил, и не видеть этого могут только слепцы. Правда, огромную жертву нам пришлось принести, но главного, нет, главнейшего, мы все же не потеряли – Картли и Кахети, так или иначе, остались Картли и Кахети. А это достигнуто горением и подвижничеством отца твоего, и ничем более.
– Это так, – согласилась Дареджан, – но боль за братьев и бабушку душит меня. Если бы можно было, я бы нынче же послала Александра со всем имеретинским войском против кизилбашей, засевших в Картли и Кахети, послала б, чтобы раздавить и уничтожить этих неотесанных и безмозглых картлийских князей. И с этим Дадиани расправилась бы в ближайшее время…
– Время для этого еще не подоспело, дочка, – спокойно продолжала Хорешан.
Теймураз вышел на балкон и распахнул ворот, жадно ловя воздух открытым ртом.
– Я тоже понимаю, что сейчас еще не время, но потому сердце у меня и заходится от боли. Я не знаю никого, кто бы ради спасения родины отдал бы столько сил, ума, души и крови, сколько отдал их мой отец. Если бы ему сказали, что он должен умереть, чтобы спасти родину свою, он умер бы с радостью. Разве он хуже Ростома мог угождать разным Аббасам, разве его ценили бы при Исфаганском дворе меньше тех, кто когда-либо искал там славы и величия?! Однако мудрость и предвидение велят ему служить своему народу и господу богу другим, тяжелым, но верным путем. Но кто оценит жертвы его и заслуги?!
– Народ оценит, народ! Но если даже народ ничего не скажет, промолчит, Теймураз и этого не убоится, ибо он сам тверд и уверен, неколебим в единстве совести и деяний своих, в своей готовности жизнь отдать сполна за отчизну свою, за ее будущее, ибо родину спасли и сберегли только такие люди, как он, они же ее и впредь будут спасать.
– Среди грузин я не знаю другого, кто так бы страдал за родину, как мой отец.
– Я не спорю с тобой, дочка, но в мире нет мерила добра и зла и, думаю, не будет никогда. Знаю одно: люди скажут, что муки и страдания Теймураза были вызваны тяжкой годиной испытаний, выпавшей на долю Грузии. Не забудут и с Ростомом его сравнить и праведно рассудят, где черное, а где белое…
В залу вошел Александр. Обе женщины поднялись ему навстречу.
Александр как будто и не заметил этого, чего с ним прежде никогда не случалось. В другое время он бы непременно сказал: сидите, не вставайте, но сейчас ему было явно не до вежливости, он был бледен как снег, глаза его бегали, словно у безумного; бессильно опустив плечи, он с трудом волочил ноги, обутые в белые изящные сапоги.
– Где отец? – спросил он у Дареджан.
Словно почувствовав беду, Теймураз тотчас шагнул с балкона в залу и, лишь взглянув на бледное лицо зятя, понял все и только глухо проронил:
– Датуна?!
Александр не ответил, кинулся к тестю и обнял его.
Теймураз покачнулся, поднял сначала по привычке ко лбу правую руку, потом, с силой ударив себя в лоб кулаком, рухнул на колени и, пав ниц, взревел, словно старый бык, которому перерезали глотку:
– Боже великий, если ты существуешь, взгляни на меня, обездоленного, помилуй меня по-божески! Что я тебе сделал, за что терзаешь меня, за что пытаешь душу и сердце?!
В комнату чуть ли не на цыпочках вошел Гио-бичи, держа в руке башлык Датуны, который когда-то через него же и посылал его хозяину Александр.
– С каким же лицом ты пришел к нам, сын мой Гио, как просили мы тебя, как молили словами и без слов, чтобы ты сохранил последнюю надежду и жизнь мою! Где вы бросили-покинули моего юного и отважного мудреца? Скажи мне все, скажи, где он погребен и удостоился ли погребения?
Хорешан свалилась без сознания.
Не своим голосом вскричала Дареджан:
– Горе мне, – братец, единственная надежда и жизнь моя!
Сбежались слуги и служанки. Вынесли бесчувственных женщин. Теймураз, стоя на коленях, не сводил глаз с верного Гио, ждал ответа.
Изможденный – кожа да кости, – в изодранной чохе стоял Гио-бичи, собираясь с духом. Левый рукав аккуратно был продет под серебряный пояс – пустой рукав, без руки.
– Что сказать тебе, отец?.. – он впервые осмелился назвать Теймураза отцом. – Когда вы отбыли, в тот день было вроде тихо, а на следующий день нагрянули кизилбаши с большим войском. Сторожевых на крепостной ограде порубили и как саранча напали на город… Мы вчетвером – нас двое да братья Джандиери, воспользовались потайным ходом… Сначала хотели в Бодбийском монастыре укрыться, но Датуна отказался: там, говорит, моего отца на царство отчизны величаво венчали, и я там прятаться как вор не стану…
– Горе отцу твоему, Датуна, мой родимый! Я должен был взять тебя с собой! – глухо простонал Теймураз и взглянул на Гио с мольбой, чтобы тот продолжал свой рассказ.
– Мы вышли из города… Ночью ничего, а днем наткнулись на большой отряд кизилбашей.;. Не смогли уйти от них… Они преследовали нас по пятам… Меня ранили – я плечом заслонил Датуну, руку отсекли, потом… Я потерял сознание… А когда пришел в себя, увидел всех троих порубленными… Они рядом со мной лежали…
– Он и слова прощального не успел передать мне, сердечный мой!
– Слово он мне передал раньше, отец! Когда мы из Бодбе вышли, ехал рядом, он словно чувствовал беду… Если, говорит, так случится, что меня убьют, отцу передай, чтоб не горевал. Пусть о сыновьях моих, Ираклии и Луарсабе, позаботится, мать мою бережет и о себе не забывает. Передай ему, что более преданного царя и заботника у Грузии не было и не будет… Не знаю, что скажут летописцы, но, насколько я могу судить, равного ему средь Багратиони не сыскать. И пусть не печалится, что не взял меня с собой. Я бы все равно не пошел. Я должен быть там, где братья мои и бабушка. Только они в неволе погибли, а я, если умру, то как свободный и непокорившийся грузин погибну в борьбе за независимость родины моей… Если ты останешься в живых, сказал он, похорони меня в Алаверди…
– Горе мне, сынок… – снова застонал Теймураз.
– На следующее утро приехала женщина – в бурке, на коне… Спешилась, подошла ко мне… Я притворился мертвым, но она заметила яму, которую я начал своим мечом рыть под ореховым деревом, – я могилу хотел вырыть всем троим вот этой рукой, – вытянул правую руку Гио. – Она стала бить меня по щекам, чтобы я очнулся, значит. Когда я глаза открыл, спросила, который из трех царевич Датуна… А у самой на глазах слезы, с таким горем взирала на меня, будто сама царевна Дареджан была, сестра Датуны… Я указал… При ней кизилбаши были… Когда они завернули троих в бурку, я за саблю схватился… Но женщина опередила меня, наступила на саблю и рукой меня оттолкнула… Я ведь ослаб совсем, растянулся там же. Кизилбаши кинулись на меня, если бы не ее окрик свирепый, они бы моим же кинжалом мне горло и перерезали… Отняли у меня оружие, связали, через седло перекинули, так в Алаверди и привезли… Там женщина выгнала кизилбашей, оставила четверых христиан, мингрелы они были… Вырыли три могилы у входа в храм, от первого угла нужно три шага отсчитать, под ореховым деревом.
– Он любил там сидеть! Датуна, сын мой, отчего я не умер раньше тебя?!
– Женщина помогала, вместе с другими рыла могилу. Потом за священником послала. Он панихиду отслужил… Своей рукой землей царевича засыпала… Мне вернула коня и оружие. Те мегрелы меня до Лихи и проводили.
Теймураз только теперь взял у Гио башлык, прижал его к лицу обеими руками и упал на тахту.
В покоях Имеретинского дворца оплакивал своего последнего сына царь Картли и Кахети Теймураз.
Медленно текла история Грузии со своим злом и добром, если в этих скрижалях времен могло еще называться что-либо добром, кроме мужества, человечности и большой, очень большой любви к отчизне, чистейшей, как слезинка, возвышенной, как любовь отца к сыну и сына к отцу.
* * *
Сорок дней не выходил из своего добровольного заточения Теймураз, сорок дней не покидал кельи.
Дареджан не отходила от царицы Хорешан – гордая наследница картлийских Багратиони за это время превратилась в дряхлую старуху.
Верный Гио-бичи, которого все теперь называли одноруким Гио, днем и ночью охранял вход в келью царя.
Теймураз был раздавлен горем. Писал лишь при дневном свете, проникавшем в маленькое окно, остальное время лежал на тахте, словно одержимый недугом смертельным. Дух затворника метался в тесной келье.
А разум переносил эти метания духа на пергамент еще не утерявшей силу рукой.
Мир! Он как будто бы прочен, вечен как будто для всех.
Нас он встречает отрадно, много вещает утех.
Будет таким он надолго, злобный послышится смех.
Не примиряйтесь же с миром, миру довериться – грех.
В мире свершений вы ждете, – их не найдете, увы!
Есть, что короны носили, да не снесли головы.
Многих земель покоритель спит меж могильной травы.
Души, от жизни уйдите! Чем к ней привязаны вы?
Ты, проживающий в мире, мир огляди и поверь:
Мир вероломен и – поверь – горьких исполнен потерь.
Вспомни властителей первых, где их отыщешь теперь?
Брось же утехи мирские, вскрой покаяния дверь.
Нам, во дворцах и селеньях, сбросить бы мира приют!
Станет душа перед богом, – страсти ее осмеют.
Мира соблазны пошлют нам сотни негаданных пут.
Бросим брать взятки у жизни: душу они закуют.
Я, о властители мира, мир не хвалил и в бреду.
В час, когда встанет Мессия, нас призывая к суду,
Буду в грехах обличен я, в чем оправданье найду?
Мир сохранит ли нам верность? Он с вероломством в ладу.
Да! Наших дней вероломных длится без устали быль.
Мир, что идешь стороною? Яд мне дал выпить не ты ль?
В бездну послал не ты ль меня, хоть обещал мне Рахиль?
Не дал мне плотной одежды, вьется над рубищем пыль.
Те, что сей мир не приемлют, те, что не ищут услад,
Те и суда избегают, тем и костры не грозят.
Если ж от мира, с ним в распре, не отведешь ты свой взгляд,
Знай, до конца с ним не будешь, станет он горек, как яд.
То, что творит он порою, ведают лишь небеса!
Хитро влечет человека, ласковый, – злая лиса!
Вдруг, – о, болит мое сердце! – вдруг – поворот колеса.
„Миру, смотри, не доверься“, – древние есть словеса[76]76
Отрывок из поэмы Теймураза «Жалоба на мир» дается в переводе К. Липскерова.
[Закрыть].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На сорок первый день его вывел из кельи зять. Он с трудом переставлял ноги. Александр и Дареджан заново приучали его ходить, чуть ли не под руку выводя к столу. Едва заметное улучшение в состоянии Хорешан несколько приободрило Теймураза, иначе бы ему уже не оправиться.
Через две недели Александр отвез его в Рачу. Весь этот уголок – твой, сказал он Теймуразу, управляй и властвуй.
Но сердце Теймураза ни к чему не лежало: даже когда думал о делах, перед глазами стояли внуки – Луарсаб и Ираклий, не расстававшиеся теперь с бабушкой, отвыкшие от дедовой ласки.
При виде их ему вспоминалось детство Датуны, поэтому он избегал ласки и возни с ними, к чему прежде, в Кахети, тянулся всей душой. Ведь лаской и веселой возней привязал он к себе когда-то внуков своих. Ту любовь, которую он не сумел излить на своих детей по молодости лет и буйству крови, в Кахети он изливал на внуков – будь то в Алаверди или Алазанской долине, в окрестностях Греми.
Сейчас же Теймураз не находил себе места ни в Раче, ни в Кутаиси. Годы и беды разом нахлынули на него. Не помогали и стихи, не отвлекали заботы о детях и доме. В разлуке с внуками он томился, но и в общении с ними не находил утешения.
Зачастил в Гелати, почти каждый божий день с утра до вечера он просиживал там, неподвижно застыв на каком-нибудь надгробии.
Однорукий Гио как тень всюду следовал за ним вместе с другими приближенными – тушинами, пшавами, хевсурами или ингилойцами, которые бдительно охраняли царя.
Он ни с кем из дидебулов не общался, за исключением Георгия Чолокашвили, с которым иногда обменивался мыслями о поэзии.
Прошло еще какое-то время, и он иногда стал звать к себе внуков – маленького Луарсаба и растущего не по дням, а по часам Ираклия. Рассеянно внимал их матери – вдове Датуны, Елене, которая жаловалась на своеволие мальчиков – не слушаются, мол, отлучаются далеко от дворца, а Ираклий вообще не сходит с коня, иной раз до позднего вечера домой не возвращается, заставляя беспокоиться мать.
Весна была на исходе, лето вступало в свои права.
Наступил июнь.
Хорешан и Дареджан убеждали Теймураза покинуть дворец в Зварети и уехать в Рачу. Что может быть лучше июня в горах, – внушала отцу Дареджан, не желавшая, чтобы Имеретинский двор был свидетелем того, как дряхлел царь, ибо это бросало тень на достоинство и власть самой Дареджан, которая успела окрепнуть и с успехом вмешивалась в придворные дела мужа.
Теймураз угадал сокровенные мысли и тайное желание дочери, потому медлить не стал.
Прекрасны горы и долины Грузии во все времена года, особенно в летнюю пору. Поражает Имерети, благодать разлита по полям и лесам этой древней земли; словно только что начинающие говорить младенцы, лепечут ручьи, стекающие с вечно снежных вершин Кавкасиони. Ниже они превращаются в полноводные реки и с могучим рокотом спускаются в долины, набираясь силы и страсти. Пестрыми коврами расстилаются затканные цветами зеленые бархатные холмы и склоны, радостью и блаженством дышит каждая пядь этого поистине райского уголка грузинской благодатной земли.
Теймураз и его свита верхом продвигались по горным тропам Рачи. Впереди ехали завороженные красотой природы тушины, пшавы и хевсуры, шествие замыкали ингилойцы Давида Джандиери, охраняя даря с тыла. Георгий Чолокашвили на подаренном царем Александром коне в качестве первого придворного следовал за Теймуразом, который, чуть ссутулясь, покачивался в седле и тоже зачарованно любовался лесами и долами, раскинувшимися пестрым покрывалом по крутым склонам величественного Кавкасиони.
В воздухе, застывшем от зноя, висели орлы и ястребы. Густое марево сказочно переливалось, нежным бликом синея у края неба, оттененное темной лазурью линии гор, расшитых клочьями тающих облаков. Причудливо ласкающей глаз вышивкой пестрели цветы и травы, покрывающие склоны холмов и гор, оседая в душе покоем и неосязаемым блаженством, пряным хмелем, заживляющим раны, и исцеляющим нектаром жизни. Жужжали пчелы, покинувшие свои дупла или ульи, и этот мелодичный звон сливался в едином дыхании благодатной природы. Рокочущая на дне ущелья река, словно капризное дитя, немолчно верещала о чем-то своем, не подвластном слову. Откуда-то издалека доносилось дружное токование, птицам прилежно вторили цикады. Голуби сладко ворковали, горлицы переносились от дерева к дереву, словно пущенные из пращи, и легкий шелест их крыльев разносился над просторами сомлевшей под июльским солнцем природы.
Царская свита выехала на небольшой луг.
Косари, по колено утопая в цветах и травах, дружно взмахивали косами, их пение звонким эхом отталкивалось от окружавших зеленый покос гор.
Всадники придержали коней, вслушиваясь в песню.
Кони жадно, чуть ли не обрывая узду, тянулись к сочной траве – от долгого подъема в гору они, понятное дело, проголодались.
Теймураз спешился и подошел к косарям, которые перестали петь и косить.
– Да исполнятся надежды ваши и желания, мои рачинцы!
– Многая лета государю Картли и Кахети! – отозвался пожилой рачинец, который, судя по всему, знал Теймураза в лицо.
– Откуда ты знаешь меня, добрый человек? – подстраиваясь под рачинский говор, спросил Теймураз.
– А оттуда, любезный и досточтимый государь, – со свойственной рачннцам неторопливостью и степенностью отвечал крестьянин, – что я с тех самых пор тебя помню, как ты, уважаемый… даже не знаю, как и объяснить-то тебе… В тех краях, где одно озеро имеется в горах… Так вот, ты нас оттуда добрым пинком выпроводил… И поделом… Никак не вспомню название того озера-то…
Крестьянин вспомнил Базалети.
– Так вот, любезный и досточтимый, – подхватил Теймураз и впервые за долгие месяцы улыбнулся, улыбнулся Раче-жемчужине, истерзанной и обескровленной врагом Грузии, – послушай теперь, что я скажу: не допуская второго Базалети, давайте вместе супостата истреблять и вместе побеждать на благо нашего общего дела, на благо родины нашей.
– Стамбульский сахар бы – да в твои уста, государь, – обнажил в улыбке по-молодому крепкие и белые зубы старик рачинец.
Теймураз скинул верхнее платье – каба, сиял шапку, засучил рукава, по-крестьянски поплевал на ладони, потер их друг о дружку и чуть ли не вырвал из рук косу у своего собеседника.
– Подай-ка сюда эту добрую труженицу!
Теймураз широко взмахнул косой, с характерным свистом рассекающей и воздух и траву.
Покорно, как заговоренные, ложились под ноги царю яркие цветы и созревшие травы, подчиняясь силе, смекалке, умению и вдохновению кахетинского правителя. Почти не останавливаясь, шел по лугу возвращенный к жизни ароматом скошенных трав и цветов царь Кахети, потерявший престол, и напевал про себя, бормотал повесть о далеких временах, когда страна единой была в годину бедствий.
Остановился Теймураз, тыльной стороной ладони смахнул выступивший на лбу пот и попросил каменный брусок поточить косу.
Тот же пожилой крестьянин протянул ему точило. Кахетинский царь привычно поплевал на камень и ловко стал править косу, упираясь в землю косовищем. Ободренные примером царя, его приближенные мигом разобрали косы, и над покосом понеслась негромкая, но дружная песнь мирного труда, столь редкая и желанная на земле трудолюбивых грузин.
Стояли рачинцы, славные мастера косьбы, и любовались, добродушно восторгаясь, как спорится дело в руках их царя.
Солнце уже стояло высоко над головами, когда царские подручные начали готовить еду.
Рачинцы-косари отвели царя к прозрачному роднику, ледяная струя которого, неугомонно журча, бежала по деревянному, наскоро обструганному желобу.
Теймураз разделся по пояс, обмылся студеной водой, потом, подставив обе пригоршни под струю, жадно напился, чуть ли не захлебываясь живительной влагой.
– Ух, благословен будь твой создатель, зубы ломит!
Крепко обтеревшись полотенцем, Теймураз оделся и собрался приступить к еде, как на узкой тропке, той самой, по которой недавно сюда спустилась царская свита, показалась небольшая группа всадников под предводительством тринадцатилетнего сына Датуны – Ираклия.
Ираклий остановил коня неподалеку от накрытой прямо на траве трапезной скатерти, ловко спрыгнул со своего взмыленного Лурджи – статный, рослый потомок кахетинских Багратиони, которого Исфаган давно уже облюбовал в качестве заложника.
Теймураз, окинув внука ласково-горделивым взглядом, вдруг заметил то, чего никогда не замечал прежде: мальчик как две капли воды был похож на своего покойного отца! Особенно похожи были глаза – умные, вдумчивые. Именно эти глаза и на этот раз помогли Теймуразу сладить с той душевной смутой, которая поднималась в нем всякий раз, когда он видел внука. Теперь же в этих глазах мерцала радость, очевидная даже для тех, кто давно уже свыкся с горестями семьи кахетинских Багратиони.
Мальчик догадывался, что дед тяжело переживает всякую встречу с ним, поэтому поспешил объяснить причину своего появления, чтобы рассеять в нем любые неприятные предположения и сомнения.
– Дедушка, московский царь направил к тебе послов под началом стольника Толчанова и дьяка Иевлева. Послы прибыли с богатыми дарами и дожидаются тебя. Царь Александр велел сообщить тебе об этом, – доложил по всем правилам придворного этикета желанный наследник престола и через минуту очутился в крепких дедовских объятиях.
Теймураз переглянулся с Георгием Чолокашвили, который заблестевшим от радости взором наблюдал за сдержанной, по-кахетински скупой на ласку встречей деда с внуком.
Повелитель Рачи не спеша утолил голод, поблагодарил косарей и повернул назад, в Кутаиси.
Похоже было, что тяжелая пора миновала, теперь можно бы и дух перевести, но сердце царя все так же стонало и кровоточило, ибо не было оно привычно к добру и радостям.
…Хорешан в приеме послов участия не принимала. С грузинской стороны при передаче грамот и даров присутствовали: сам Теймураз, царь Имерети – Александр и царица Дареджан, Георгий Чолокашвили и царевич Ираклий – наследник престола Картли и Кахети.
Впервые попавший на столь торжественную церемонию Ираклий не смел задавать деду вопросы, поэтому шепотом спросил у Георгия Чолокашвили:
– А почему их двое? Разве недостаточно одного посла?
– Дело в том, царевич, что столь долгий путь сопряжен с большими трудностями и опасностями. Послов подстерегает множество испытаний, если один погибнет, второй выполнит поручение. И, кроме того, у русского царя так заведено, один посол как бы проверяет то, что говорит и слышит второй, – таким образом, царь может быть уверен в точности переданных и полученных сведений.







