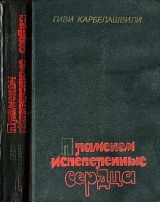
Текст книги "Пламенем испепеленные сердца"
Автор книги: Гиви Карбелашвили
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
– Источник этой мудрости – жестокость, – перебил его имеретинский царь.
– Пусть так, – устало кивнул головой Саакадзе, – но и уступчивый да милосердный не может быть хорошим правителем. Если у правителя при виде страданий раба наворачиваются на глаза слезы, и сердце сжимается от ужаса человеческого, и дух захватывает при виде крови, он никогда мудрых дел не совершит, ибо мудрость и беспощадность два родных брата, и мудрого дела без жертв не бывало, нет и не будет никогда. Без жертвы великому делу не бывать!
– Это верно, кто воздерживается от жертвы – на-, верняка воздерживается и от великого дела, не рискуя, он никогда не добьется большого успеха.
– Но не годен и повелитель, идущий на бесконечные жертвы… Вот отец братьев Ундиладзе, Алаверди-хан, с помощью которого Аббас стал шахом… Он считал, что Аббас ему вечно будет обязан, возгордился, вознесся. Аббас понял, что остановить его будет трудно, а потому убрал с дороги. Оба брата прекрасно знают, что их отец – жертва шахского коварства, и Аббасу известны их сокровенные мысли, но обе стороны лицемерят, не хотят напрасного и чрезмерного кровопролития, хотя сегодня или завтра что-то должно непременно случиться… Шах тоже прекрасно понимает, что он уже не тот, что был прежде, и время властно над всеми, но и Имам-Кули-хан тоже не молод.
Теймураз знает все это, я потому-то и хотел вначале поддержать его, но переоценил свое значение для него… Он в советчике не нуждается, слишком уж своеволен…
– Этим своеволием он христианскую веру обороняет в Картли и Кахети, а христианство оборонять – это и значит оборонять родину, оберегать язык и мысль родную, – подчеркнул имеретинский царь.
– Это я знаю… – глубоко вздохнул Саакадзе, судя по всему, он собирался держать длинную речь, а теперь если не запутался, то сбился хоть малость, ибо не сумел выделить главное из второстепенного: годы уже тяготили его, и голова устала, переутомилась, и дух был подкошен страданиями да муками вечными. – Это я знаю… Но я не рассчитал, что Теймураз из Базалети не уйдет в Кахети… Потому-то именно не хотел появляться на поле битвы… И вышел я лишь затем, чтоб своих людей спасти, увести их подобру-поздорову… Иначе конца бы не было кровопролитию, братоубийственной резне, позору нашему…
– Об этом раньше надо было думать, – вмешался Кайхосро Мухран-батони, до сих пор хранивший упорное молчание и, казалось, вовсе не собиравшийся вступать в разговор по поводу столь тяжелого события, благодаря которому он потерял все свое имущество.
– Не смог я всего предусмотреть, ошибся я, прав Теймураз, я полководец и в правители не гожусь, потому-то и хочу Грузию покинуть, уйти с дороги Теймураза… Когда Зураб Эристави крикнул, чтобы меня не отпускали живым, я своими ушами слышал, как Теймураз удержал его и его взбешенных людей. Саакадзе не трогайте, он еще пригодится родине, крикнул он им… Пусть бог пошлет ему силы, ибо разум у него есть, я крепко убедился в этом. И возможно, он прав в своих поисках внешней третьей силы. Да, он прав, а я ошибаюсь. Саакадзе наконец Подошел к главному, неторопливо приступил к важнейшему, выстраданному в долгих раздумьях, ибо трудно было немолодому человеку открыть для себя новую истину, которая подобно урагану, бушующему в ущелье Риони, повернула вспять его жизнь, растрепала, разворошила устоявшиеся мысли и представления его, святую его веру, которая нагрянула смертью без причащения, не спросясь, беспощадно поставила крест на все его прошлое, на все то, чему служил, во что он верил. – Теймураза не остановят никакие жертвы, но без смысла и пользы он никого на гибель не обречет, все у него вычислено и выверено, ибо у него одна-единая цель – спасение, а затем и объединение Грузии, ради нее он готов принести в жертву и сыновей, и мать, а если понадобится, не пожалеет и собственной жизни… Я восхищаюсь этим и молча преклоняю перед ним голову… Потому-то я и ухожу с его пути, что сегодня с Теймуразом никто не может соперничать в преданности родине и народу своему, и проницательностью такой никто из нас не обладает. И крепок телом и духом он, не в пример нам, и всех нас переживет.
Царь Георгий кашлянул, Александр переглянулся с Автандилом, Саакадзе же спокойно продолжал:
– У Теймураза мало преданных людей. Джандиери погиб, Зураб предаст его, но и он сам Зураба не пощадит… Вопрос в том – кто кого опередит… Я думаю, один Амилахори останется верен царю до конца… Не изменят ему и кахетинские князья. И на вас, отца и сына, тоже очень надеется он. Тебе, царевич, добра желает. Левана и Александра он потерял, Датуна подрос, его он готовит к помазанию на престол…. Но он и то хорошо понимает, что шах Аббас и его младшего сына в покое не оставит… Тот путь борьбы, на который ступил Теймураз, широк и верен: то там, то здесь внезапно нападает он на кизилбашей, беспощадно уничтожает их. Так-то! Выйти на открытый бой с кизилбашами, лицом к лицу, сегодня еще грузинам трудно, но настанет время и для такой, открытой борьбы… А пока Теймураз ведет себя правильно. Он рассеивает внимание врага, расщепляет его силы, нарушает единство его войска, не дает ему покоя на грузинской земле, вынуждает его проклинать судьбу. Правда, и самому ему несладко приходится, но сегодня другого выхода у него нет, и он это прекрасно знает.
Слуги бесшумно внесли шашлыки из оленины, оглядели кувшины и, убедившись, что гости не прикасались к вину, так же неслышно удалились из зала.
Царевич Александр взял на себя обязанности хозяина: первый вертел, с пылу с жару, передал отцу, затем угостил Георгия Саакадзе и Кайхосро Мухран-батони. Под конец же своей рукой снял мясо с вертела на тарелку своему зятю Автандилу Саакадзе.
Саакадзе приятно было наблюдать непринужденное отношение молодого царевича к его сыну. Однако он виду не подал, снял еще шипящий кусок мяса с вертела и крепкими зубами откусил аппетитно, ибо по-другому он есть не умел. Александр наполнил из кувшина турий рог.
Царь Георгий принял рог у него из рук.
– Пусть восторжествует в Грузии верность и единство, мой Георгий! Я всегда уважал тебя, и ты это знаешь, но нынче я узнал истинную цену тебе. Счастлива страна, имеющая таких преданных сынов. Ведь родину нашу ослабляет более всего то, что лучшие из ее сынов собственную выгоду ставят допрежь всего, и лишь во вторую очередь думают о пользе отечества. А ты тот человек, человек-гора, который родину поставил выше собственных интересов. Я тебе больше скажу: когда ты из Персии возвратился, я думал, что ты немедля искоренишь весь род Бараташвили, но ты проявил истинное великодушие, какое подобает верному сыну отчизны, а когда узнал, что Кайхосро Бараташвили после Марабдинской битвы перешел на сторону кизилбашей, ты немедля поспешил в Тбилиси, заставил его выманить супостатов из крепости Биртвиси, истребил всех до единого, но его самого пощадил, ибо дал слово сохранить ему жизнь… Пусть торжествуют и крепнут в отчизне нашей единство и верность! Ты ведь поддержишь мой тост, Мухран-батони? – обратился царь к бывшему владетелю Мухрани, сидевшему с непроницаемым лицом. – Я считаю свата моего Георгия Саакадзе олицетворением преданной любви к родине и желаю ему здравствовать во веки веков. Я не знаю, Георгий, что ты сейчас замышляешь и какой оборот примут твои дела, но знаю одно, твердо знаю и верю, что бы ни случилось, имя Саакадзе останется в веках как символ мужества и самоотверженной любви к родине. Твое здоровье, моурави!
Настал черед Кайхосро Мухран-батони.
– Не знаю, что сказать о верности и единстве, государь, но… Ясно одно – у этой верности должна быть основа, твердая почва…
– Какая такая еще другая тебе основа нужна, кроме любви и преданности родине?
– Родина родиной, государь, но, как известно, родины без ее главы не существует… А следовательно, верность и единство – прекрасные вещи, коли во главе страны стоит хороший правитель…
– Прошу прощения, владетельный князь, – не удержался царевич Александр, – но верности и любви к родине не требуется никаких условий…
– Не перебивай меня, юноша, – грубовато остановил его Мухран-батони. – Если родиной правит неумелый властитель, то преданность может обернуться из: меной…
«Пожалуй, он правильно поступал, когда сидел молча, – подумал царь Георгий, – в голове у него, однако, недобрые мысли роятся». Вслух же произнес с истинно царским величием:
– Мы подняли тост за преданность Георгия Саакадзе родине, сиятельный князь, – царь нарочно подчеркнул последние слова, ибо знал, что сего потомка картлийских Багратиони Георгий Саакадзе метил на престол, хотя и не от всего сердца, неохотно, не без сомнений больших и колебаний. Учел и предусмотрел царь также и то, что, разочаровавшись в притязаниях на корону, Мухран-батони, которому уже давно перевалило за шестьдесят, причиной своих неудач считал Георгия Саакадзе. – Моурави, возможно, и ошибался когда-то в людях, но никогда не ошибался в преданности отечеству.
Одним ударом царь Георгий убивал трех зайцев в дар Георгию Саакадзе: пресекал злопыхательскую болтовню гостя-самодура, поддерживал отказ Саакадзе от осуществления мечты Мухран-батони и заискивал перед моурави – подкрадывался к его сердцу на тот случай, если бы он возвысился при турецком дворе, чтоб против Имерети зла не держал. Картли же и Кахети царя Георгия сегодня уже мало волновали.
– Когда говорили о том, дай бог вам здоровья во веки веков, будто… – снова затянул старую песню Мухран-батони, ничего не понявший из речей царя, кроме того, что тот защитил Георгия Саакадзе по праву родства, а потому изысканный намек имеретинского царя прошел мимо его ушей, – будто, дай бог вам здоровья во веки веков… будто Саакадзе заставил шаха убить Луарсаба, сударь мой, я в это не верил…
– Как можно верить этой глупой и подлой выдумке! – возмутился царь. – Уж кто-кто, а я хорошо знаю, в чем было дело! Только он, Шадиман Бараташвили, внушил Луарсабу мысль принять приглашение шаха!
– Ну вот, я и не поверил, сударь мой, дай бог вам здоровья во веки веков, – топтался на месте Мухрани батони, то и дело повторяя надоевшие всем «сударь мой» и «дай бог вам здоровья во веки веков», не сходившие у него с уст после прибытия из Мухрани. – Однако.:. Да, о чем же я говорил?.. Да, твое здоровье, Георгий-моурави, живи нам на радость и надежду, – внезапно закруглил князь затянувшийся тост и одним духом осушил рог.
Царевич был краток.
Немногословен оказался и Автандил Саакадзе:
– Те дни, что были отняты у Пааты, пусть прибавятся к жизни твоего потомства и людей, преданных твоей родине.
Царю понравилась речь зятя, он привстал и поцеловал его в лоб.
Слово взял Георгий Саакадзе.
– Ошибка моя, государь, заключается в том, – обратился он к царю, – что, как ты верно изволил заметить, я не всегда правильно судил о людях, но чутьем все же угадывал их истинную душу и суть. Ты сам тому свидетель, воочию убедился в правоте моих колебаний… Хоть и с опозданием, но я все-таки понял, что мои колебания и сомнения оказались верными, поскольку Теймураз остался в Картли. Я бы многое отдал, чтобы вычеркнуть из прошлого Базалети, чтобы ее не было вовсе, и зря я не послушался совета, данного мне в Схвило. «Вернись в свои владения, – сказал мне тогда Теймураз, – и жди, когда тебя призовут родина и государь!» Теперь поздно каяться. Да пошлет мне господь силы столько, сколько нужно, чтоб полезным Грузии быть. Будь, Георгий Саакадзе, настолько долговечен, насколько вечна твоя преданность отчизне и бесконечна сама отчизна твоя. За тебя, сын мой Автандил, ибо твоя победа есть моя победа! За тебя, царь Георгий, с твоими и моими общими наследниками вместе, если мне суждено дожить до них! Да здравствует родина, моя единая и неделимая отчизна!
Застолье разгоралось на грузинский лад, само собой входило в силу.
Уже захмелели оба Георгия – царь и моурави, однако глядели по-прежнему сумрачно, невесело.
Царевич старался не отставать от отца. Мухран-батони, казалось, забыл о невзгодах – похваливал зедапонское вино.
Пожалуй, один Автандил держал ухо востро, пил не пьянея, и от ласкового взора отца не становилось ему легче. Мысль о Хварамзе не давала ему покоя, хотя и прочих забот было предостаточно, а прежде всего тревожился он об отце, лишенном любимого сына Пааты и родины своей. Из головы не шла та последняя ночь, когда Георгий прощался с родным Ностэ – пешком обошел все поля и сады, молчаливый, подавленный, опустошенный шагал по родным местам, будто прощался навсегда… Автандил хотел было встать из-за стола и навестить Хварамзе, но какая-то тайная сила не позволяла ему хотя бы на миг покинуть отца. Точно так же было в Ностэ, когда он всю ночь тенью следовал за ним. С тех пор он не расставался с отцом ни на одно мгновение, просыпаясь и засыпая думал о нем, о нем была главная его забота и печаль.
Наступившее ненадолго молчание по праву первым нарушил царь Георгий.
– Ты и в Осмалети[67]67
Осмалети – султанская Турция.
[Закрыть] быстро прославишься, великий моурави, – он прежним титулом величал Саакадзе, желая облегчить его думы. – Ныне им как воздух нужны настоящие полководцы. Грузин там много. Соберешь всех, создашь сильное войско. А там видно будет… Однако будь осторожен: султанский двор пестрый и коварный, как и всякий двор, особенно же вновь возвысившегося властителя.
Мухран-батони клевал носом…
Царевич Александр провел гостя в его опочивальню и, сразу же вернувшись, передал отцу какую-то грамоту, прошептав что-то при этом на ухо. Царь досадливо поморщился промашке сына, остановил его:
– Шептаться нам негоже, сын мой, великий моурави сватом нам приходится, и мы никогда не имели от него тайн, не собираемся ничего скрывать и впредь. Посему все одно: я или он прочитаем послание царя Теймураза. – С этими словами он передал грамоту Георгию Саакадзе. – Читай вслух, моурави!
Саакадзе принял свиток и передал Александру:
– Пусть царевич читает, у него глаза моложе, острые, всезрячие!
Царь счел ответ моурави резонным. Царевич развернул свиток; оборотясь к свету, взглянул на отца и приступил к чтению:
«Брат мой и доброжелатель, государь Георгий!
Посылаю тебе грамоту сию, твердо верю, что не попадет она в чужие руки, ибо заключает в себе важную для всех нас тайну и потому отправлена с надежным человеком…»
– Кто доставил послание? – спросил царь.
– Гио-бичи, названный брат Датуны.
– О нем позаботились?
– Сейчас он ужинает, потом его проводят на ночлег.
– Продолжай.
«До меня дошли слухи, что Георгий Саакадзе покинул свои владения и решил перейти к османам. Меня это известие весьма огорчило, но, видимо, это лучшее, что он, великий полководец, мог предпринять после Базалетской битвы, в которой повинны мы оба, и Саакадзе в первую очередь… Пусть бог отпустит ему этот грех…
Базалети было последнее слово в споре между мною и Георгием, последнее слово в споре о путях к спасению родины. Базалети подтвердило правильность моего выбора, и, хотя нам дорого обошелся этот разлад, надо признать, что жертва сия была неизбежна, ибо свершился окончательный выбор внешней третьей силы, выбор пути непроторенного, тернистого и трудного, но единственно верного для спасения родины, и хотя я еще не ведаю пока, что обрету на этом пути, как проторю нехоженую тропу, куда приду, но верю крепко, свято верю, что грядущее Грузии связано именно с этим путем и потомки спокойно нас рассудят, трезво, не спеша рассудят тех, кто не пожалел плоти и крови своей во имя спасения отчизны. Саакадзе ушел, чтобы мне не мешать, хотя я предпочел бы его поддержку. Бог свидетель, что я не замышлял против него зла. Чистая правда и то, что я высоко ценю его полководческий дар. Я не теряю надежды, что в конце концов мы все-таки вместе будем защищать отчизну нашу и служить ей душой и телом. Если послание сие застанет его у тебя, передай ему мои слова: я никогда не держал против него вражды в своем сердце, и в гибели Пааты я совершенно не повинен, ибо версия, будто я написал шахское послание о его убийстве, является той единственной ложью, которой я оскорбил Георгия. Да простит меня бог! Передай ему также, что и я отнюдь не счастливый отец и сын… Великую жертву принес я во имя отчизны, еще большая жертва предстоит мне по воле бога или по воле недруга моего…
Все это он знает не хуже меня, но я обязан сообщить ему те сведения, которые мне известны и которые хоть в чем-то могут пригодиться ему. У султана Мурада Четвертого, который с тысяча шестьсот двадцать третьего года прочно занимает турецкий престол, первым визирем Гафиз-Ахмед-паша, балкарский кумык по происхождению, который уже очень стар и не очень-то угоден султану. Поэтому первенствуют при султанском дворе двое: Халил-паша, армянин по происхождению, христианин в прошлом, с которым соперничает и тягается силою Хусрев-паша, сардар из Боснии, выросший в Стамбуле с малых лет. Эти двое борются за пост садразма – главного визиря, и один из них добьется его. Халил-паша является воспитателем нынешнего султана и его наставником, Хусрев-паша же его сверстник и товарищ по детским играм. Посему советую я Георгию Саакадзе быть в добрых отношениях со всеми тремя, ибо эти трое вершат все дела и обладают решающим голосом при дворе султана Мурада Четвертого. Пусть моурави узнает от тебя и то, что Хусрев-паша коварен, жесток и завистлив, а потому пусть он никаких важных дел без его ведома не затевает, а все выигранные сражения пусть сполна приписывает достоинствам этой тройки и мудрости султана, который отличается отнюдь не воинскими доблестями, а редкостной фальшью и лицемерием. Моурави надлежит, таким образом, оказывать почести каждому из троих, чтобы остальные не подозревали об этом и считали, что именно он является предметом почитания и поклонения Георгия Саакадзе. Пред всеми тремя, пред каждым турком, каждым грузином, в гостях и дома, во сне и наяву, словом и делом пусть неустанно восхваляет он мудрость и доброту султана, ибо наушничество есть хлеб и воздух для Стамбульского двора. Пусть Саакадзе никому не открывает своего сердца, следит за каждым жестом своим, улыбкой и взглядом, движением руки или пальца, ибо все это выражает сокровенные мысли, прочесть которые в султанате найдется много доброхотов. У Саакадзе вошло в привычку вздыхать и стонать в час испытаний… Пусть забудет об этом навсегда! Скажи ему, мой дорогой брат, и о том, чтобы все дела и битвы совершал бы он и впредь с тою же любовью к родине, которую проявлял во все времена труда и борьбы. Его задача – использовать любые возможности, чтобы мутить воду между султаном и шахом, однако делать это надо так разумно, чтобы никто ни в чем его никогда заподозрить не мог. Пусть здравствует долгие годы – во славу отчизны, пусть процветает он сам, его отпрыск, ваш зять и мой сын Автандил, ибо он – сверстник моего Александра и завтрашний день многострадальной отчизны нашей. Пусть благоденствуют на султанской земле живущие грузины на счастье и благо отчизны нашей. Бог да поможет тебе, царь, и Георгию Саакадзе. Аминь!
Писано ноября тринадцатого, года тысяча шестьсот двадцать шестого, в городе Гори.
Царь Картли и Кахети Теймураз».
Царевич кончил читать.
Царь Георгий молча смотрел на моурави.
Саакадзе опирался лбом на сжатые в кулак, положенные на стол одна на другую руки.
Глядя на поредевшие волосы своего гостя, царь невольно провел рукой по голове, удовлетворенно ощутив густоту буйных кудрей. Так уж устроен человек – обнаружив изъян у другого, он радуется, если лишен его сам, радуется и не по злобе, и не по вредности, а из наивной гордости за свои достоинства, радуется он, как дитя в любом возрасте.
В ущелье Риони неистовствовал осенний ветер, громом сотрясая все встречное. Он клонил долу деревья, гнул, сгибал, трепал, ломал поредевшие кроны, гонял стаи сухих желтых листьев, бесновался, не оставлял в покое ни одно движимое и недвижное, свистел протяжно, дико. И лишь с Гелати и Риони ничего поделать не мог – неколебимо стоял Гелати, а Риони не убыстрял и не замедлял величавого своего течения. Разбиваясь о купол Гелати, ураган терял былую силу и бесславно отступал, готовясь к новой атаке, и только гордую гриву Риони удавалось ему растрепать слегка, да и то лишь в тех местах, где волны замедляли свое стремительное течение вперед. Вечно неприступной твердыней Грузии недосягаемо, величаво стоял Гелати, неторопливый сказ о прошлом страны вел неиссякаемый источник жизни – Риони, спускавшийся с вершин Кавкасиони в цветущую долину Колхиды.
Ветер яростно бился о стены Кутаисского дворца, проносился по опустевшим балконам, обвивал, завихряясь, столбы и перила, врывался в окна, завывал в дымоходах. Свирепел от бессильной ярости, тщетно сотрясая кровлю, хотя был далеко не бессилен. Сломал где-то старый платан, с корнями выворотил кипарис, беспощадно свалил сосну, посаженную в день рождения царевича Александра. Помял все цветы в царском саду, по лепестку ощипал розы, донага обобрал яблони и грушевые деревья.
Молча сидели в Кутаисском дворце четверо, и ни один из них даже в мыслях не мог допустить того, что Георгия Саакадзе хорошо примут во дворце султана, что Гафиз-Ахмед-паша умрет во вторник, двенадцатого декабря тысяча шестьсот двадцать шестого года, садразмом станет Халил-паша, благодаря христианскому духу которого Георгий Саакадзе возвысится, прославится, станет героем, что апреля шестого, года тысяча шестьсот двадцать восьмого, в четверг, согласно мудрому предвидению Теймураза, Халил-паша падет и его место займет Хусрев-паша, зависть и злоба которого приведут к гибели Георгия Саакадзе – двадцать пятого сентября тысяча шестьсот двадцать девятого, в четверг… На рассвете того темного дня Георгию Саакадзе и сорока его приближенным, в том числе и его родному Автандилу, сыну моурави и зятю имеретинского царя, отрубят головы, и перестанут биться сердца верных сынов родины, и падут их тела на грузинскую землю, отторгнутую и присвоенную их повелителем султаном.
И затеряются могилы их без благословения, никем не оплаканные и не ухоженные.
…В ту же ночь, в Кутаисском дворце, сотрясаемом порывами осеннего ветра, никто из четверых ничего этого знать не мог, а потому все думали о мудрости Теймураза, восхищались благородством и прозорливостью его.
Уже второй раз пропели петухи, когда Георгий Саакадзе поднялся и проговорил спокойно:
– Не к добру этот ветер, примета дурная у меня.
Затем, пожелав царю Георгию с сыном доброй ночи, он обнял за плечи Автандила и вышел из большого зала свойственной ему твердой походкой.
В ущелье Риони безутешно мотался осенний ветер.
* * *
Наскоро собравшись, Кетеван отправилась в путь. Пять дней и ночей они скакали, не щадя лошадей. Дауд-хан с тридцатью своими людьми сопровождал ее. Царица взяла с собой всех своих немногочисленных слуг. В исфаганском доме никого не осталось.
Они часто меняли лошадей – брата бегларбега в Парсе встречали с большим почетом, однако ему было не до почестей: как верный сын следовал Дауд-хан за царицей, стремительно мчавшейся на юг Персии. Всего пять раз они останавливались на отдых, и то по настоятельной просьбе Кетеван, – она жалела только слуг, сама же не знала устали. Несчастье удесятеряло силы царицы. Даже мужчины не могли тягаться с нею, а женщины и вовсе валились с ног. Днем растрескавшаяся, выжженная, раскаленная земля источала зной, ночью же от удушливых испарений перехватывало дыхание…
Ко дворцу ширазского бегларбега они подъехали на рассвете.
Встретила их старшая жена Имам-Кули-хана Сакинэ – тоже уроженка Кахети, ребенком вывезенная из Грузии, предназначенная в невестки тогдашнему бегларбегу. Царица холодно отказалась от пищи и отдыха, пожелала немедленно увидеть своих внуков:
– Где они?
Ее повели наверх по мраморной лестнице, миновали огромный зал, а затем, пройдя узкий коридор, остановились перед небольшой дверью, скрытой в нише под низкой полукруглой аркой.
Сакинэ отворила дверь и пропустила царицу вперед.
Переступив порог, Кетеван вздрогнула, чувствуя, что колени у нее подкашиваются, сердце останавливается и она вот-вот рухнет на пол без памяти, но это была лишь минутная человеческая слабость. Царица взяла себя в руки и окинула взглядом тускло освещенную утренним светом келью: две тахты, низенький столик, несколько стульев с низкими спинками. На столе блюда с едой и склянки со снадобьями. На одном из стульев – чистые повязки. В углу – небольшой таз. Единственное окошечко кельи забрано решеткой. Воздух застоявшийся, тяжелый.
В правом углу Леван, одетый в пестрый халат из парчи, сидел на корточках и смотрел на вошедших вытаращенными, ничего не выражающими глазами.
На тахте у левой стены лежал под парчовым покрывалом Александр. Закрытые глаза усугубляли безжизненность его желтого, словно воск, лица.
Взгляд Кетеван беспомощно перебегал от одного внука к другому.
Наконец еще раз собравшись с духом и ощутив прилив сил, такой же внезапный, как нахлынувший приступ слабости, царица решительно направилась к тахте, на которой лежал Александр: должно быть, потому, что он был младшим и вдобавок лежал… Подойдя ближе, Кетеван протерла глаза, но как пристально она ни вглядывалась, узнать Александра было невозможно: бесследно исчез темный пушок над верхней губой, глаза ввалились, резко выделились на осунувшемся лице скулы, кожа на всем лице сморщилась и потемнела, словно у старого аробщика Гиголы.
Кетеван опустилась на колени, обхватив правой рукой кудрявую голову внука: единственное, что оставалось от прежнего Александра, – густые непокорные волосы.
– Горе бабушке вашей! – невольно вырвалось у Кетеван горестное восклицание. Она прижалась губами к влажному, покрытому испариной лбу внука. Александр открыл глаза и едва заметно улыбнулся. – Что, мальчик мой, замучили тебя нехристи! И бабушка ничем помочь не смогла, чтоб сама в огне горела из-за муки вашей!
– Бабушка! – чуть слышно прошептал юноша. – Мне очень плохо, все у меня болит, помоги мне.
– Помогу, родной, помогу непременно, чтоб мучители твои были во веки веков прокляты вместе с потомством своим!
– Нет, бабушка, ты мне не поможешь… Лучше присмотри за Леваном… Не оставляй его… Ему еще хуже, чем мне… Разум у него помутился… Заговаривается он… То кричит, то воет, то смеется или твердит что-то непонятное, словно в бреду адском.
Кетеван воздела руки к небу и тут заметила лекаря, стоявшего в стороне.
Перс потупился.
– Не робей, говори мне всю правду о моей беде, – по-персидски обратилась к нему Кетеван.
– Я делаю все, что в моих силах, – по-персидски же отвечал лекарь. – Бегларбег ни на минуту не позволяет мне отлучиться… Старший рассудка лишился… Младший, сами видите… Они уже, взрослые, потому-то так случилось… Маленькие же переносят легче…
– Пусть рука отсохнет у того, кто это задумал и повелел, пусть глаза ему выгрызут крысы, гореть ему вечно в адском пламени, шутом плясать бездельникам на потеху, из страны в страну бродить ученой обезьяной на привязи ему и его потомкам вовеки! Пусть земля горит у него под ногами, пусть его босиком на уголья раскаленные поставят и снизу огонь раздувают, пусть напоят его ядом и накормят живыми змеями. Умирающего от жажды – да напоят его отравой, пусть топчут его, выгнанного из дома и страны, ослы и лошади. Да не видеть светлого дня вашему окаянному шаху, исчадию ада, собачьему отродью!.. – Невольные свидетели этой тирады кинулись врассыпную, чтобы не слышать проклятий, которые обрушивала на их повелителя царица Кетеван. В келье остались Сакинэ и лекарь. В своем углу бессмысленно таращил глаза потерявший рассудок царевич. – Пусть горло ему перережут родные сыновья, пусть жены оскопят его собственными руками, пусть собаки разорвут на куски его труп, пусть он станет добычей волков, пусть отступятся все от жалкого скопца душой и телом…
– Бабушка! – застонал Александр, которому не по душе пришлось упоминание о скопце. – Не надо проклятий…
Кетеван вновь склонилась над ним, нежно провела правой рукой по лбу и волосам внука, откинула парчовое покрывало, трепетно коснулась губами груди. Александр ощутил на коже ее горячие слезы.
– Бабушка… Ты же никогда не плачешь… Что с тобой? Не бойся, я не умру… Оправлюсь, встану на ноги, уедем отсюда, я поселюсь в Алаверди, постригусь в монахи. Все равно я не был рожден для придворной суеты… В монастыре буду молиться за отца, за Левана, за Датуну… За материнской могилой ухаживать стану… Посажу розы, много роз… Ты говорила, что она любила розы… И ты будешь со мной жить… Ты ведь не оставишь меня, бабушка, не покинешь?
– Нет, дитя мое, мы всегда будем вместе. Бог никому не позволит нас разлучить. Ты невинным ангелом пришел в этот мир, таким и останешься навсегда. Ты будешь нашей надеждой и опорой, нашим заступником и покровителем, тобой очистятся душа и плоть наши, на тебя уповать будут Кахети и Картли, мое дитя, моя жизнь, надежда моя, радость и утешение мое! Отцу твоему я скажу…
– Отцу ничего не говори… Жалко его… Эта беда может сломить его. Ты ведь сама говорила, что душа у него нежная, как у девушки… Я тоже это замечал. Он не может долго гневаться, не помнит зла… Может, это и нехорошо, но это так… Передай ему: если сможет, пусть не щадит нашего мучителя… За что он обрек нас на муку? Что мы ему сделали?.. Видите ли, аллах того пожелал! – Александр ослаб, повернул к стене восковое лицо.
У царицы пересыхало во рту, губы дрожали, непослушными от волнения пальцами перебирала она волосы внука, ласкала его, трепетала над ним…
– Когда я поправлюсь, бабушка, поедем в Алаверди… Раньше мне трудно было ходить на могилу матери – я как будто боялся или стыдился чего-то… Теперь будет иначе… Я приду туда и прижмусь к могильной плите… Ты говорила, что мать была родом из Гурии… Я поеду в Гурию, приголублю каждого гурийца, пешком обойду родину матери моей… Потом вернусь на Алазани. Не обижайся, мне хочется повидать матушку, ба… – голос царевича пресекся, он глубоко вздохнул, вздрогнул всем телом… и затих.
Кетеван приникла щекой к его щеке, губами – к его губам, почувствовала, как холодеет его лицо, и обреченно, отчаянно взвыла: «Помогите!»
Помощи не было.
Этот первый вопль материнского отчаяния, исторгнутый из самого сердца кахетинской царицы, без ответа и отклика канул в глубинах дворца ширазского бегларбега Ундиладзе…
…Сидевший в своем углу Леван вдруг дико захохотал, выскочил на середину кельи, начал нелепо прыгать, скакать, раскидывая руки и гримасничая. Покрутившись волчком, он как подкошенный рухнул на каменные плиты. Тело его задергалось, корчась в судорогах, на губах выступила пена.
Потрясенная Кетеван, лишь взглянув на старшего внука, без чувств упала со скамьи.
Ее поспешно вынесли из кельи. С царевичами остался лекарь, неукоснительно соблюдая волю бегларбега: не оставлять их без присмотра.








