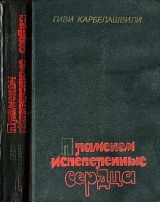
Текст книги "Пламенем испепеленные сердца"
Автор книги: Гиви Карбелашвили
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
* * *
Петух уже третий раз прокричал, когда Теймураз услышал осторожный стук в дверь. Спал-то он чутко и тотчас откликнулся, спросил, кто здесь.
– Это я, Потам, государь.
– Сейчас.
Царь быстро оделся.
– В чем дело, что случилось? – спросил Теймураз взволнованно, открыв дверь.
– В крепости Схвило зажгли огонь, государь.
Оба поспешно поднялись на дозорную башню. Долина Тирипона была освещена костром, разожженным в крепости Иотама Амилахори. Огонь, горевший в крепости Нарикала, был виден в Джвари, из Джвари сигнал поступал в Ксани, из Ксани – в Схвило, а оттуда передавали в Гори, что в Тбилиси была объявлена тревога, таков был порядок вещания о бедствии.
– Что могло случиться? – спросил Теймураз, ушедший в раздумье.
Амилахори не сразу ответил на вопрос, помолчал, а потом, взглянув искоса на стоявшего рядом Джандиери, твердо произнес:
– Надо немедленно ехать в Мцхета. Оттуда пошлем человека в Тбилиси. Остальное решим на месте.
В Крёпости забили тревогу. На рассвете войско вышло из крепостной ограды. В Гори остались сторожевые во главе с цихистави Цицишвили.
…Войско Теймураза остановилось у слияния Куры с Арагви. Царь пошел в Светицховели, отслужил небольшой молебен, а затем там же, в ограде храма, посовещался с главами церквей.
В полдень назначил совет дарбази. Тут же собрались картлийские князья со своими дружинами. Не было старшего Кайхосро и младшего брата Мухран-батони, а также Иасе Эристави. Зато Зураб Эристави лез из кожи, каждым словом и поступком своим старался доказать свою преданность Теймуразу.
Вечером вернулись первые гонцы, доложили, что в Тбилиси покой и мир. Посланные во дворец сообщили Теймуразу, что кто-то забрался в дозорную башню: злоумышленники разожгли костер и бесследно скрылись. Эмир и дворцовые люди не смогли их разыскать, а сторожевые вовремя не заметили костра, ибо неизвестные злоумышленники их предварительно напоили.
Разгневался Теймураз: сначала вовсе отменил дарбази, но потом перенес на следующий день. Велел Джандиери и Амилахори снова отправить лазутчиков во все концы. Зурабу приказал выставить побольше караульных вокруг лагеря.
Назавтра все выяснилось. Зураб Эристави доложил об истинном положении дел Теймуразу, находившемуся в келье Светицховели.
Срочно был созван дарбази.
Первым слово взял Зураб:
– Государь и князья вельможные! Речь пойдет о прискорбных деяниях Георгия Саакадзе. Ночью мои люди перехватили гонца, которого Саакадзе послал к братьям Мухран-батони. Гонца доставили ко мне, а я выдал себя за Кайхосро Мухран-батони. Он выложил мне всю правду. Смысл донесения заключался в следующем: «Теймураз угрожает мне смертью, грозит выслать из Грузии, – передавал Саакадзе своему единомышленнику. – Теймураз власть не удержит, я обратился за помощью к царю Георгию. Он прислал пятитысячное войско. Чтобы одолеть Теймураза, укрепившегося в Горийской крепости, мы обманули его и зажгли костер на Нарикале, чтобы выманить его из Горийской крепости и направить на Тбилиси. В ожидании шахского войска, Теймураз не войдет в Тбилиси, а остановится в Мцхета. Вот там-то мы и должны разгромить его и его союзников».
– Где гонец Саакадзе? – мрачно спросил Теймураз.
– Я зарубил его, государь.
Дарбази затих, все растерянно переглядывались, исподтишка посматривали на царя. Очи царя сверкнули гневом, лицо потемнело – вот-вот зарычит государь, как лев. Все предвкушали занятное зрелище – дидебулы всегда рады забаве, если только царский гнев не на их головы рушится.
Теймураз же, успевший взять себя в руки, назло охотникам забавы очень негромко, даже мягко, проговорил:
– Этого делать не следовало.
Зураб, сам ожидавший взрыва, сразу пришел в себя и смело отвечал:
– Не мог стерпеть я такого коварства, государь!
– Стерпеть коварство от своего – есть высшая мудрость, зять, – спокойно отчеканил Теймураз, проводя указательным пальцем правой руки по нахмуренному челу. Потом так же спокойным голосом произнес вопрос, обращенный ко всем вместе: – Кто стоит во главе войска?
– Леван Дадиани, – ответил Зураб Эристави.
– Где он сейчас?
– Вчера он взял Гори, Цицишвили, оказывается, сдал крепость без боя.
– И правильно сделал. Где войско Дадиани сейчас?
– Двигается по направлению к Мухрани.
Теймураз обвел взглядом дарбази и твердо произнес:
– Отведем войска к Душети, если понадобится, отойдем к Греми, пойдем через Тианети, чтобы миновать столкновение. Только братоубийственной резни не хватает грузинам! Мы будем до конца держаться друг друга… Кто не с нами, пусть громогласно объявит сейчас. Последнее свое слово я скажу в Душети. А сейчас Иотаму Амилахори надлежит выехать навстречу Дадиани… Повидай обоих – его и Саакадзе, скажи, чтобы остановились возле таможни в Игуэти и поворачивали назад, немедля покинув Картли… И то скажи им, что Теймураз не примет боя, не допустит, чтобы грузин убивал грузина, этого нам не простят ни дети, ни внуки, ни правнуки наши, за это потомки справедливо нас проклянут. Если Дадиани пожелает видеть меня, пусть явится в Душети, Саакадзе же передай… – Теймураз помедлил и очень тихо, но твердо продолжил: – Саакадзе передай, чтобы не забывал нашего разговора в Схвило. Пусть запомнит накрепко, что от его неразумной, даже чрезмерной отваги, пустого махания саблей и необдуманных действий Грузии пользы не будет. Грузию объединит лишь большая мудрость, терпение и время. И на роль третьей силы ни Саакадзе не годится, ни султан со всеми приспешниками-крохоборами…
Все присутствующие последовали за Теймуразом, кроме Иотама Амилахори, который из Мцхета незамедлительно поспешил в Игуэти для переговоров с Саакадзе и Дадиани.
Амилахори не пришлось долго ждать у таможенной башни – в ущелье реки Тамдлис-цкаро показались передовые отряды войска. На берегу Лехуры Йотам встретился с Леваном Дадиани, ехавшим впереди войска. Оба отдали коней слугам и пешком отошли в сторону, обняв друг друга по-братски.
Выслушав Иотама, Дадиани побледнел.
– Царь Георгий сказал мне, что шах как будто собирается напасть на Картли, – начал смущенный Дадиани. – Саакадзе же я еще не видел, на его скакуне Лурдже сидит Дауд-бег Гогоришвили, – кивнул он в сторону Бойна, который как ни в чем не бывало беседовал с братьями Мухран-батони, Иасе Эристави ксанским и Баратой Бараташвили. – Правда, ни один из них… ничего толком не сказал, против кого мы выступаем, но слово Теймураза – для меня закон, непреложный закон, я забираю свою тысячу воинов и немедленно возвращаюсь назад!
– Ты не хочешь встретиться с Теймуразом? – спросил Йотам Амилахори, обрадованный мудрым решением Дадиани.
– Нет! – твердо отвечал тот. – Мне совесть не позволяет ему в глаза глядеть. И потом, мой своевременный уход сейчас многое будет значить для всех остальных.
С этими словами Дадиани пожал руку царскому посланцу и повернул к своим. Сидя верхом, о чем-то недолго беседовал с Гогоришвили и прочими, потом поскакал в сопровождении приближенных вслед за своим войском, уже спустившимся к реке Лехура.
Амилахори подъехал к оставшимся князьям и после сухого приветствия начал спокойно:
– Царь Теймураз велел передать…
– Что велел передать Теймураз, нас не интересует, – грубо прервал его Дауд-бег Гогоришвили, – пойди и передай этому стихоплету, чтобы он покинул Картли и сидел у себя в Кахети. Это последнее слово Георгия Саакадзе. Зурабу Эристави же передай, что земли и пастбища, ворованные у горских племен, вскоре достанутся своим истинным хозяевам, и того не забудь сказать, что он в погоне за богатством брата родного ослепил, чего мы ему не простим. А Теймураз, ежели о грузинской крови заботится, чтобы она зря не проливалась, пусть убирается в Греми и там стихи свои пишет, Саакадзе же сам о Грузии позаботится. Вот наш ответ окончательный и единственный.
Беседа на том и завершилась.
Амилахори поспешил в Душети и царю доложил обо всем, не утаив ничего, даже ехидства по поводу стихов. Зураб, выслушав угрозы в свой адрес, скрипнул зубами, в ярости схватился за рукоятку кинжала.
– А куда сам Саакадзе запропастился? – взревел он.
Амилахори оставил вопрос без ответа.
Теймураз обратился к Джандиери:
– Они станут лагерем в Мухрани. Спустись вдоль Ксанского ущелья к Чадиджвари, передай Кайхосро, что царь хочет их всех повидать, всех тех, кто пришел с войском. Скажи, что я не хочу проливать кровь грузин и хочу всех собрать, поговорить. Не забудь сказать и то, что я ничего худого против них не замышлял и нынче не замышляю, приглашая их на беседу.
– Государь! – заорал Зураб как резаный. – С ними разговаривать можно лишь мечом и саблей! Больше нам не о чем с ними говорить. То, что гнилое, надо выкорчевать, лучше выкорчевать сразу!
– Не спеши, Зураб, – остановил его царь. – Наберись малость терпения и спокойствия. Злобой и мстительностью мы лишь врагов порадуем, а истинных врагов у нас без того хватает, – царь опять обернулся к Джандиери: – Езжай без оружия, грузин безоружного грузина не обречет на смерть – так у нас издавна заведено. Если увидишь Саакадзе, поговори с ним спокойно, как ты умеешь…
…На следующее утро Джандиери вернулся промокший до нитки. Войдя в царский шатер, попросил водки, вмиг осушил маленький рожок, а от закуски отказался, хотя был голоден.
– Ничего не получится, государь, – проговорил он стоя. – Мне кажется, в этом походе замешан султан, Саакадзе на него уповает, он же ему ничем не помогает и не поможет, разве только подстрекательством да посулами, как это у него заведено.
– Самого Саакадзе ты не видел? – спросил Теймураз озабоченно.
– Самого не видно. Зато Дауд-бег распоясался.
– А как остальные?
– Братья Мухран-батони и Иасе Эристави молчали, хотя они твердо стоят на стороне Саакадзе. В имеретинском и гурийском войске никого из примечательных людей нет, зато самцхийцы все там. Воины устали, хотят окончательной развязки – пусть уж, говорят, свершится, чему суждено свершиться, но свершится скорее.
– Свершится! – процедил Зураб сквозь зубы. Теймураз поглядел на него по-прежнему спокойно.
…Худое дело свершилось само по себе: обе стороны, воодушевленные якобы благими намерениями, на следующий день оказались друг перед другом. Когда войска имеретин и самцхийцев под предводительством Дауд-бега Гогоришвили перешли вброд Ксани и через Чадиджвари вышли на Базалетское поле, они оказались лицом к лицу с другим, грузинским же, войском. Грузины встали против грузин, брат против брата, забыли родство свое, отринули разум, не посчитались с заветом предков и с судом поколений.
Густой туман опустился над Базалетским озером и полем, сеял по-осеннему мелкий дождь. Базалетская долина вся раскисла и превратилась в топь.
Промокшие до нитки, легко одетые воины продрогли до Костей, а потому Зураб велел выкатить бочки с жипитаури[55]55
Жипитаури – самогонная водка, распространенная в горных районах Грузии.
[Закрыть], которую на рассвете и раздали воинам.
Убитый горем Теймураз разделил войско на три части. В центре поставил Зураба Эристави с его горцами-хевсурами, на правом фланге стоял Джандиери с кахетинцами, на левом – Потам Амилахори.
– В наступление идите сразу с трех сторон. Старайтесь не пользоваться саблями и ружьями. В крайнем случае – бейте прикладами. Убивать избегайте. Лучше напугать их и обратить в бегство. Я со своей дружиной буду возле шатра, кому туго придется – помогу. Саакадзе не убивать, лучше взять живым… Бог свидетель, я не хотел проливать кровь братьев, потому-то и отошел к Душети. Сами подошли сюда, преследовали по пятам… Да будет воля божья и свершится то, чего я совершать не хотел… Отступать мне негоже, хотя я и думал вначале уйти в Греми. Бой надо кончить сразу, ненужных потерь избегать с обеих сторон, ибо здесь нет врага, есть только по глупости одуренный противник.
Потом Теймураз отвел в сторону Зураба и шепнул:
– С твоими владениями граничат земли Кайхосро Мухран-батони, убей его – получишь его дворец и крепости. Он подстрекает Саакадзе, это он мутит воду…
Царь прекрасно знал алчность своего зятя и подданного, а потому и подстегнул его столь откровенно.
Заиграли трубы, забили барабаны… и началось позорное братоубийство, сыгравшее злую шутку в истории Грузии.
Поскольку Дауд-бег сидел на Лурдже – коне Саакадзе, Зураб в утреннем тумане принял его за самого моурави, а потому он с диким кликом остервенело помчался прямо на него.
Никто уже не помнил о милосердии, к которому взывал перед битвой царь. Все яростно и беспощадно кололи, рубили, резали. Намокшая под дождем земля превратилась в месиво, окрашенное кровью. Над Базалетской долиной стояли стоны раненых, крики, хрипы…
Озверевший Зураб со своими воинами обрушился на противника так, словно не грузины перед ним были, а ненавистные народу кизилбаши. Он рычал, направо и налево круша своим мечом, с остервенением прорубая путь к Дауд-бегу, которого он все еще принимал за Георгия Саакадзе. Дауд-бег тоже заметил Зураба, немедленно ринулся ему навстречу… И Зураб одним махом сабли отсек ему правую руку от самого плеча и со смаком вторым ударом сабли сбил его с седла. Тогда-то он и понял, что это был не Саакадзе, но, не растерявшись, решил не отказывать себе в удовольствии и басом загремел:
– Саакадзе подох, люди! Я убил Саакадзе!
Войско Теймураза тотчас подхватило эти слова и повторяло их вместо брани и проклятий.
Грозный вопль окончательно сломил имеретин и самцхийцев.
Уже повернулись спиной к противнику и братья Мухран-батони, когда на поле брани показался сам Саакадзе со своей дружиной. Но было уже поздно… Он тоже попытался двинуться прямо на Зураба Эристави. Глубоко врезавшиеся в стан противника кахетинцы не подпускали его, путь моурави преградил Эдиша Вачнадзе со своим отрядом. Завидев бегство братьев Мухран-батони, поспешил следом за ними и Иасе Эристави.
Разъяренный Саакадзе ударом меча свалил Эдишу Вачнадзе наземь, однако его брат обошел поглощенного поединком моурави сзади и ударил его своим мечом «багдадури». Тяжелый меч рассек кольчугу, хлынула кровь…
На помощь раненному в бедро Зурабу подоспел Теймураз. С криком, улюлюканьем стали гнать беглецов. Зураб Эристави своим громовым басом кричал воинам:
– Змея не выпускайте, змею перебейте хребет! – Сам он с трудом держался в седле, чувствовал, что теряет последние силы.
Теймураз строгим приказом остановил пустившихся вдогонку за Саакадзе горцев.
– Саакадзе пусть уходит! Он еще пригодится родине!
Царь не пожелал трогать мятежного моурави…
Бой закончился так же внезапно, как и начался.
Над Базалетской долиной опустилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь стонами раненых. На озеро и поле опустился такой густой туман, что в двух шагах ничего нельзя было разглядеть. Дождь усилился. Воины Теймураза бродили по раскисшему полю, подбирая раненых, которых сажали или укладывали на арбы и везли в Душетскую церковь.
Здесь уже не было своих и чужих, были только грузины, изувеченные грузинами. И еще подавленный Теймураз, ликующий Зураб и все остальные, присутствующие при сем… Небо проливало слезы над Базалетским полем, тщетно пытаясь смыть следы позорного побоища.
Озеро едва заметно рябило, будто волновалось за судьбу сбившихся с пути истины братьев.
Ропот волн приглушал стоны раненых.
Сгущался туман над Базалети, и сгущалась горечь в сердцах.
С глубоких ран лекари смывали кровь, прикладывали целебную мазь, подорожник, перевязывали чем попало. Пленных царь велел отпустить домой, дать хлеба на дорогу, не обижать, не грабить, а только передать наказ царя: позор тем, кто поддержал братоубийственную войну…
Мрачно принимали имеретины и самцхийцы по-братски протянутый им хлеб и жипитаури, которую щедро наливали люди Зураба Эристави возле царского шатра. Раненый Зураб попытался было сказать царю, что не хлеб им раздавать надо, а всех на костре сжечь. Однако Теймураз отрезал жестко: лежи тихо; если разорения боишься, то можешь не беспокоиться – расходы я тебе вдвойне возмещу из царской казны.
Давида Джандиери, тяжело раненного еще при Марабде, теперь еще тяжелее поразили копьем в спину – копье вонзилось в легкое, и у доблестного воина кровь шла изо рта и из раны. Он дышал с трудом, восковая бледность покрывала его рыжеватое мужественное лицо. Давид лежал в царском шатре на белой бурке, не подпуская к себе лекарей. После Алавердоба[56]56
Алавердоба – древний христианский праздник в Кахети, во время которого кахетинцы под началом Джандиери устроили восстание против иноземных захватчиков.
[Закрыть] оставшийся единственным глаз его был подернут мутной пеленой. Увидев царя, склонившегося над ним, Давид слабо улыбнулся; открыв рот и оскалив свои крепкие белые зубы, он едва слышно произнес:
– Государь, позаботься о детях… и о моих… и о твоих. Не теряй из виду отряд Беруашвили. – Потом он дал знак царю наклониться еще ниже и прошептал ему на ухо: – Племянник Саакадзе Важика, которого, по словам Зураба, послали в Исфаган, был здесь, в Базалети. Он должен лежать на берегу озера раненый, на краю дубняка. Вели найти его и убедишься, что… Зураб солгал… Не Саакадзе, нет, а он сам послал гонцов к шаху: и тот гонец, которого он будто бы перехватил, а выведав все, убил, был послан от Саакадзе не к Мухран-батони, а к нему самому. Следи за Зурабом, остерегайся его. Береги мать и детей и моих не забывай…
Теймураз, встав на колени перед ложем верного слуги, по-братски поцеловал его в лоб, а затем своим платком бережно утер выступившую на губах кровь.
– В Марабде я уцелел от врагов-кизилбашей, – чуть громче заговорил Джандиери, – а здесь умираю от руки братьев своих.
– Не спеши, Давид, – царь скорее себя утешал, чем убеждал Джандиери. – Доверься лекарям, пусть осмотрят, очистят рану твою.
Джандиери горько улыбнулся.
– Разорванным легким лекарь не поможет, только зря будут терзать меня… – кровь снова хлынула горлом, Теймуразу подали чистый платок, он осторожно положил его на грудь умирающему.
И случилось то, чего не должно было случиться: его грудь в последний раз вздыбилась Голгофой, свалилась его богатырская рука и закрылся единственный глаз – Джандиери перестал дышать.
Царь бережно поднял упавшую с ложа руку, отер кровь, стекавшую с подбородка, затем нежно приложился к его холодеющему челу и вышел из шатра, не желая показать кому-либо налитые слезами глаза свои.
Были горечь, боль, страдание человеческое, называемое божьим гневом, обрушивающимся на Грузию время от времени, пора страданий, когда брат поднимался на брата и проливал родную кровь, умирали сыны Грузии от руки своих собратьев и земляков. И не было большей беды, большего позора и большего несчастья, чем это братоубийство!
…Теймураз велел завернуть покойного в свою белую бурку, сам с помощью Амилахори положил его на арбу рядом с трупом Эдиши Вачнадзе и велел через Тианети везти в Алаверди. В последний раз склонился над верным другом царь, откинув с лица усопшего белую бурку, и нежно прикоснулся к его единственному глазу. Теймураз уже не стыдился своих слез. «Да и кто их заметит, решат, что это капли дождя стекают по лицу», – подумал Теймураз, и его, могучие плечи сотряслись от подавляемого рыдания.
«Прости меня, Давид, если когда-либо я сомневался в тебе! Я не знаю, какая меня самого ждет судьба, но Грузия не забудет твоего благородного сердца, проницательного ума и беззаветной отваги. Знай одно, как последнюю мысль мою, высказанную только для тебя, – я завещаю, чтобы и меня тоже похоронили в Алаверди, ибо там будешь ты – моя опора и надежда. Жди меня там, Давид, чтобы мы больше никогда не расставались».
Подавленные горем ингилойцы тронулись в путь.
Теймураз долго шел за траурным караваном, увозившим воинов, отдавших жизнь на благо отчизны, но павших от руки своих же собратьев.
Наутро Амилахори доложил царю, что Важика Саакадзе найден и перенесен в душетскую церковь. Царь сам поспешил в церковь, ставшую в эти дни подлинной обителью мук и страданий верных ему и стране сынов.
Важика Саакадзе лежал в еще не просохшей одежде, хотя подобрали его ночью и уже успели перевязать раны. Теймураз попросил священника перенести тяжело раненного Важику к себе. Сам же обошел всех раненых, похвалил монахинь из монастырей Шуамта и Мгвиме за их лекарское мастерство, пообещал щедрые пожертвования их монастырям. Потом посоветовал людям Зураба Эристави кормить раненых хашламой[57]57
Хашлама – куски вареной говядины или баранины.
[Закрыть] и поить красным вином, привезенным из Кахети.
За алтарем царь остановился возле юноши, который лежал почти без сознания, тяжело дышал. Царь осторожно провел рукой по его густым кудрявым волосам, спросил у сестры-монахини, что с раненым.
– Да он еще дитя, – шепотом отвечала монахиня, сама еще совсем юная, – ему сегодня правую ногу отняли. Жар у него, боюсь, что не выживет. Все время в беспамятстве, в себя не приходит.
Царь почему-то вспомнил Датуну, ничего больше не сказал, молча вышел из церкви и направился к дому священника в сопровождении Иотама Амилахори.
Важика Саакадзе, тщательно умытый и переодетый, лежал на тахте. Он уже пришел в себя и при виде царя даже попытался подняться.
– Лежи, лежи, сынок, не двигайся – сказал Теймураз, садясь у изголовья раненого. – Ты чей будешь?
– Я племянник Георгия Саакадзе, – довольно бойко для раненого отвечал юноша, постаравшийся показать царю свою волю и силу.
– А как ты оказался в Базалети?
– Приехал из Ностэ.
– И давно ты в Ностэ находишься?
– А с тех пор, как из Имерети вернулся, после помолвки Автандила и Хварамзе.
– Значит, с июня?
– Да.
– И после того никуда не уезжал?
– Никуда.
– А в Тбилиси был?
– В Тбилиси я вообще ни разу не был.
– Куда отсюда собираешься ехать?
– Коли поднимусь, домой поеду, в Ностэ.
– Конечно, поднимешься. И коня тебе дадут и седло.
– А оружие? – спросил юноша слабеющим голосом. Чувствовалось, что силы его на исходе.
– И оружие дадут, только оружие это никогда больше против своих не оборачивай, даже если тебе дядя твой – великий полководец – прикажет.
Теймураз встал, провел указательным пальцем правой руки по наморщенному лбу, вышел из дома священника и направился к своему шатру.
Царь понял, что Зураб оклеветал Георгия Саакадзе, выдумав, будто он послал к шаху племянника. Он хотел восстановить Теймураза против моурави. Теперь надо было выяснить, был ли вообще послан гонец в Исфаган и кто его послал. Не сам ли Зураб?
Да, трудно было царствовать в стране, в которой пышным цветом цвели среди знати коварство, зависть и измена, наносившие неизмеримый урон и народу, и стране, и царю…
* * *
Шахский двор холодно принял царицу Кетеван и ее свиту. Исфаганский дворец, в котором жил сам шах со своим семейством, всегда был наглухо закрыт для чужеземцев, закрытым он оказался и для кахетинской царицы. Придворный визирь поселил Кетеван с ее свитой в малом домике, расположенном по другую сторону главной площади. Ни еды, ни питья для грузин не жалели, но о встрече с шахом пока никто из придворных даже не заикался.
Царевичи целые Дни проводили на учениях в кизилбашском войске, возвращались лишь поздно вечером. В том же домике жили слуги царицы, им по хозяйству помогали два евнуха из шахского дворца, которые, видимо, выполняли и другие особые поручения, служили оком и ухом шахского двора. На просьбу царицы о встрече с дочерью Еленой, переданную через визиря, шах ответил молчанием. Визирь явился на другой день, справился о здоровье царицы, на безмолвный вопрос Кетеван ответил лишь дерзким взглядом. Он явно ждал от царицы просьб и расспросов, ждал, но не дождался. Упряма была царица, она мудро молчала, ибо знала, что получит ответ, унижающий ее достоинство. Визирь помешкал еще немного и убрался восвояси, так ничего и не добившись от нее, а Кетеван и без слов поняла ответ.
…В ту ночь в Исфагане выпал первый снег.
Крупные белые хлопья падали на город. Дым поднимался лишь над шахским дворцом и еще над несколькими домами, стоявшими на площади. Убогие глиняные хижины и ветхие лачужки в тесном переплетении улочек и переулков с молчаливым покорством, глубоко укоренившимся на всем огромном Востоке, встречали холодную зиму.
Вокруг царила тишина, которую всегда и везде приносит с собой первый снегопад. Снежной пеленой покрывались величавые купола мечети. Город-лагерь утопал в вечернем сумраке. В редких домах жалобно мерцали тусклые огоньки. Прохожих не было ни на площади, ни в узких улочках, в переулках – тем более. Непогода загнала всех в дома. Даже стража забилась в свои будки и старалась не вылезать на мороз.
Кетеван сидела у стола и читала вслух свой неразлучный «Карабадини»[58]58
«Карабадини» – старинный лечебник, пользовавшийся в Грузии большой популярностью.
[Закрыть]. Лела, свернувшись на тахте калачиком, слушала царицу, а сама не сводила глаз с дверей – Леван и Александр до сих пор не вернулись. Снег, валивший с неба, тяжестью оседал на сердце даже тех, кто оставался под крышей. Принесенные Георгием дрова в камине то потрескивали весело, то шипели затяжно, нудно.
Глухо заскрипела калитка.
Лела вскочила с тахты, сунула ноги в коши[59]59
Коши – домашние туфли с загнутыми вверх продолговатыми носами.
[Закрыть].
Царица оторвалась от книги.
Кто-то постучал.
Дверь отворилась, и в комнату вошел евнух, весь запорошенный снегом и накрытый куском легкой циновки. Сделав несколько шажков, он низко поклонился царице и приветствовал ее по-грузински:
– Добрый вечер, государыня!
Кетеван пристально взглянула в глаза евнуху и по-грузински же ответила на приветствие.
Евнух снял накидку, прикрывавшую его голову и плечи, и искоса поглядел на Лелу. Потом смело приблизился к царице, улыбнулся и проговорил тонким словно женским голоском:
– Я хочу сказать тебе два слова наедине, государыня!
– От этой девушки у меня нет секретов.
– У тебя, может, и нет, но я только тебе могу Доверить то, что хочу сказать.
– Кто ты такой и чего тебе надо?
– Об этом я тоже скажу, когда мы останемся одни.
Лела молча вышла. Евнух, убедившись, что в комнате больше никого нет, начал вполголоса:
– Меня прислала твоя дочь Елена. После полуночи я приду за тобой, жди меня у калитки. Я проведу тебя тайком во дворец, так велела Елена.
– А кто ты сам?
– В моих жилах тоже течет кровь Багратиони, только жил этих мне не оставили. Грузины надежнее, когда они скопцы, так сказал шах, и всех мальчиков, родившихся от жен-грузинок, оскопляют.
– Господи, не оставь нас в годину испытаний!
– Бог богом, а ты будь готова, – проговорил евнух и исчез так же внезапно, как и появился.
Царица стояла на том же месте словно молнией пораженная, когда в комнату вошли Леван и Александр, Они поужинали и сразу легли спать, замерзшие и усталые; повелением шаха каждый день их муштровали в его войске.
Лела жила в комнате Левана по праву его жены, хотя они и не были венчаны. У царицы мелькнула было мысль попросить миссионеров-католиков их обвенчать, но потом Кетеван передумала: все-таки негоже чужим обрядом венчать наследника престола… И другие соображения тоже приняла во внимание царица.
Вот и теперь, оставшись наедине сама с собой, она думала о том, как освятить союз Левана и Лелы. Она не находила способа это сделать и беспокоилась. Не то ее тревожило, что когда-нибудь кто-нибудь им это мог припомнить. Нет, ее это мало заботило. Она ни от кого не требовала монашеского аскетизма, особенно от внуков своих, и без того приговоренных к томлению на чужбине. Она лишь хотела соблюсти обычаи дедовские, христианские. Впрочем, благодаря мудрости своей она и зов природы считала гласом божьим.
Не придумав, как и раньше, ничего подходящего, царица снова перенеслась мыслями к посланнику дочери. Вспомнив евнуха, царица еще пуще закручинилась. Беспокоило ее и то обстоятельство, что она не столько хотела видеть дочь, сколько стремилась удовлетворить задетое самолюбие. Жажды видеть дочь она не ощущала, а потому и само отсутствие естественного материнского чувства тоже не давало ей покоя. Она усердно пыталась найти причину этого неожиданного отчуждения и вдруг поняла, ясно ощутила, в чем была причина этого своеобразного отречения от дочери: ее плоть и кровь, ее родная дочь, с тех пор как перешла в собственность шаха, стала для нее чужой, посторонней.
В назначенное время царица накинула бурку и легким шажком вышла к калитке. Евнух ждал ее, дыханием согревая руки и всем телом дрожа от холода.
– Зима здесь редко бывает холодной, но если уж грянут холода, то берегись!
«Грузинский он знает хорошо. Интересно, чей же это сын?» – мелькнула мысль у Кетеван, и она молча последовала за почти бегущим скопцом. «Как видно, этот несчастный смирился с судьбой. Но каким лютым зверем надо быть, чтобы совершить такое! Нет, даже зверь щадит беспомощных детенышей. Зверя нельзя сравнивать с этим чудовищем, было бы несправедливо в отношении… зверя. Что за жизнь у этого бедолаги? Он не женщина и не мужчина, лишен детей, а значит лишен и радости, ибо дети – это благородные заботы и неиссякаемые радости, без которых человек не живет, а существует. С приближением старости и смерти чувство привязанности к детям постепенно слабеет, становится вялым, потому что сама жизнь теряет свою внутреннюю силу воздействия. А этот бедняга так на земле этой и должен прожить, не поняв вкуса ни радости, ни горя. И всему виной не зверь, нет, а человек, его злоба и коварство! Боже всемогущий, покарай человека разъяренного, в волка проклятого превратившегося, человеческий облик потерявшего!»
Свежевыпавший снег пышным, ковром покрывал дворцовую площадь. Ноги мягко утопали в пушистой белизне первого снега, поскрипывающего нежно, чуть-чуть, не так, как слежавшийся.
Ночь была темная, безлунная, хотя сияние снега рассеивало плотную мглу.
Евнух почти бежал, Кетеван, скрытая буркой, едва поспевала за ним своим легким, но быстрым шагом.
Они пересекли площадь и, обойдя дворец, подошли к нему со стороны дворцового сада. Сторожевой, как видно, был предупрежден, потому что пропустил их, ни слова не говоря. «Взятка и ад освещает», – подумала Кетеван, следуя за юркой фигурой, скользящей по тускло освещенным коридорам; потом они поднялись по лестнице на второй этаж и, пройдя через запутанный лабиринт переходов, остановились перед какой-то дверью.
Евнух, покружив в коридоре и убедившись, что за ними никто не следит, осторожно открыл дверь и впустил царицу в каморку, слабо освещенную чадящей свечой.
– Это мой зал. Жди здесь, государыня. Я сейчас ее приведу, – пояснил он свистящим шепотом и исчез как тень.
В келье было холодно, но царица все же сбросила бурку, предусмотрительно пристроив ее в углу. Время тянулось медленно, как арба, подымающаяся в гору. Наконец в коридоре раздался едва слышный шорох, не ускользнувший от чуткого слуха царицы. Дверь отворилась, и в келью вошла Елена. Первое, что бросилось в глаза Кетеван, были шелковые шаровары дочери.
– Мать моя, родная! – Елена, как дитя, кинулась на шею матери. Кетеван, забыв о давешних сомнениях, о холодке отчуждения, терзавшем душу, крепко обняла родную дочь, и колючий комок упрямо встал в горле.
– Мамочка, родимая… – лепетала Елена, роняя горючие слезы.
Кетеван бережно вытерла ее глаза концом головной накидки мандили, взяла в ладони своих иссохших рук сияющее, красивое лицо дочери и поцелуями осушила ее заплаканные щеки, обхватила дрожащие от рыданий плечи и нежно прижала к груди.







