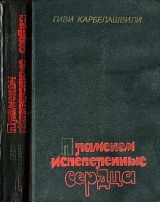
Текст книги "Пламенем испепеленные сердца"
Автор книги: Гиви Карбелашвили
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
– Лела?
Лела слегка смутилась. Собрав последние силы, встала, отошла в сторону.
– Не бойся, дитя мое, – сказала женщина, которая никак по возрасту не годилась Леле в матери. Это ласковое обращение было скорее знаком расположения и ее сердечного отношения к ней. – Я дочь царицы цариц Кетеван, Елена, тетушка Левана, Александра и Датуны… Жена шаха… Меня послал к тебе Аббас…
– Что с Леваном? – горячо спросила Лела.
– Ради Левана я и пришла сюда. Шах знает, что ты жена Левана, причем венчанная жена… Он узнал это от меня, ибо моя мать просила, чтобы я именно так ему сказала.
– Где Леван? – повторила Лела, будто не слышала слов Елены. Она держалась независимо и твердо, словно не было бессонных ночей, голода и страданий.
– Я сейчас все скажу, не спеши, – поторопилась Елена уступкой расположить ее к себе, ибо поняла, что с этой девушкой найти общий язык не так-то просто. – Леван и Александр исчезли… Как видно, их спрятал шах. Мы с матерью ищем их повсюду, но пока безуспешно. Я спросила шахиншаха, он мне не ответил. Сегодня он сам позвал меня и послал к тебе: если, говорит, она примет истинную веру, я возьму ее в жены, а Левана и Александра верну царице.
– Я жена царевича и скоро буду матерью наследника престола… Скоро, – гордо произнесла девушка из Кизики.
Елена испуганно оглянулась на дверь и еле слышно прошептала:
– Смотри, держи язык за зубами, никому не говори, что ты ждешь ребенка, никто не должен об этом знать. Так будет лучше для тебя, для ребенка и для Левана. Согласись принять их веру, этим ты никакого предательства не совершишь. Отсюда ты все равно не выйдешь – и не пытайся. Родишь ребенка, мы вместе вырастим его достойным сыном родины. От еды не отказывайся, если о себе не думаешь, подумай хоть о ребенке. Беременность твоя пока незаметна, шах будет считать младенца своим… Остальное – время покажет, – коротко и быстро наставляла ее Елена. – Я еще приду к тебе… скоро… А сейчас мне надо идти. Здесь мне долго задерживаться нельзя. Поступай, как я сказала! – решительно заключила она как истинная дочь Багратиони, накинула на плечи шерстяную шаль, поцеловала пришедшую в себя Лелу и исчезла так же внезапно, как и появилась.
Лела долго стояла в глубокой задумчивости, потом наклонилась, поставила еду на тахту, нехотя отщипнула кусочек… Аппетит, известно, приходит во время еды, и она быстро съела все до последней крошки, запивая еду шербетом. Закончив трапезу, легла на тахту и сразу же погрузилась в глубокий сон.
Разбудило ее бряцание ключей. Она вскочила. Дверь отворилась, и с фонарем в руках вошел тот самый евнух, который приносил ей еду.
«Это, должно быть, верный раб шаха», – мелькнуло в голове у Лелы.
– Вставай, пошли!
– Куда?
– Во дворец шахиншаха Али-Кафу. Елена приказала привести тебя.
Лела последовала за ним.
Они шли по заснеженному саду, ноги Лелы в шерстяных носках и чувяках слегка промокли, хотя шли недолго. Миновав длинный, тускло освещенный коридор, поднялись по узкой витой лестнице, повернули направо и очутились в жарко натопленной комнате, отделанной белым мрамором. Евнух передал Лелу Елене и еще нескольким женщинам. Сам вышел в коридор с двумя сторожевыми.
Женщины быстро раздели Лелу и усадили ее в небольшую мраморную ванну, вымыли волосы яичным желтком, ополоснули уксусом, все тело тщательно натерли шерстяной рукавицей, обдали теплой розовой водой.
– Прекрасное тело у тебя, дитя мое, и пища пошла тебе впрок: лицо порозовело немного, – заметила Елена, когда Лелу уже заворачивали в банную простыню.
– Лицо у меня всегда розовое, – буркнула под нос Лела.
– Ну, смотри, будь умницей, шахиншах не терпит капризов, но и сразу не уступай, дай ему проявить настойчивость.. – Елена наклонилась и зашептала ей в ухо, – все хорошо, живота совсем не видно. Помни, что судьба Левана и Александра в твоих руках.
Прислужницы заплели длинные густые волосы Лелы в две косы, опрыскали ее благовониями, накинули парчовый халат на голое тело, сунули ее босые ноги в нарядные коши и передали слегка ошеломленную Лелу в руки дожидавшегося у дверей евнуха.
Еще раньше, когда ее вели через сад, и позднее, во время купания и туалета, в голове у Лелы вертелась одна-единственная мысль – сделать все, чтобы спасти Левана, смириться с судьбой во имя будущего ребенка. Ни о чем другом она думать не могла. «Если сестра Теймураза Елена живет здесь, в гареме, то обо мне и говорить нечего. Все равно с Леваном бы меня разлучили. Кому сказала бы и кто бы поверил, что хан не прикасался ко мне! И потом разве Багратиони приняли бы меня, простую кизикскую безродную девицу, в свой круг? Леван для меня – та самая недосягаемая звезда, которая издали ослепляет своим сиянием, а вблизи опаляет и сжигает. Значит, богом велено томиться мне в гареме. Из двух стариков – старого хана и старого шаха – я обязана отдать предпочтение шаху, ибо шах чуточку выше хана, будь он проклят во веки веков!»
... Они остановились возле дверей, которые охраняли двое сторожевых, вооруженные щитами и копьями.
Евнух без спроса и без стука юркнул под низкую арку дверей, оставив Лелу за порогом. Вскоре дверь отворилась, и тот же евнух знаком велел ей войти.
Не очень-то большой зал поражал роскошью убранства, В золотых подсвечниках горели свечи, причудливые блики пламени падали на богато расписанные стены. Пол был устлан огромным персидским ковром. На широкой мягкой и низкой тахте, разубранной шелком и парчой, в парчовом же халате и шальварах возлежал шах Аббас, нежась в полудремоте. Правой рукой он подпирал голову, в левой держал кальян. Кончики крашенных хной усов шаха были искусно закручены, на волосатой груди его снежной порошей выделялась седая щетина. Близко посаженные глаза под густыми раскрыльями бровей были полузакрыты, раздвоенный подбородок и чуть горбатый орлиный нос явно выдавали его упрямый характер и крутую волю.
«И вовсе он не так уж грозен, как о нем говорят. Сегодня же заставлю его выпустить Левана на волю», – подумала Лела, внимательно разглядывая великого тирана Востока.
В шахских покоях было тепло. Во всех четырех углах уютно потрескивали камины.
Евнух аккуратно подложил дрова во все камины, в одном из них поправил огонь, а затем, не спеша, направился к Леле и протянул руку, чтобы снять с нее халат. Лела отпрянула, но сразу поняла, что сопротивляться не имеет смысла… Она подчинилась, и евнух, ловко стащив с нее халат, унес его с собой, удаляясь прочь.
Когда дверь за ним затворилась, в зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь легким потрескиванием пламени в каминах – дрова были сухие.
Было жарко. Аббас не отрывался от кальяна. Обнаженная Лела стояла, опустив голову, в двух шагах от тахты, на которой с ленивой истомой возлежал шах.
Спал Исфаган, но не спал дворец Али-Кафу.
«Должно быть, и царица Кетеван не спит… И Левану, наверное, не до сна… Где он его держит, узнать бы! Да увидеть еще хотя бы раз! Как мало ласкала я его в ту ночь! Но мне есть хотя бы что вспомнить, а бедняжка Елена небось и не видела никого, кроме этого проклятого старика! И чего разлегся, как дохлый пес, и даже не глядит в мою сторону. Взять бы что потяжелее да раскроить его поганую башку! Нет, нельзя… Да и нет ничего подходящего под рукой… Если только кальян у него вырвать… Нет-нет! Он тогда Левану мстить будет, на нем это выместит. Но до каких пор я должна стоять перед ним, словно собачонка?!»
Шах Аббас был занят кальяном, в четырех каминах плясало пламя, в покоях было жарко, душно…
На трехногом столе перед тахтой красовался огромный серебряный поднос с фруктами. Горделиво возвышались два длинногорлых кувшина с шербетом. На серебряном блюде истекали соком ломтики арбуза и дыни. По другую сторону тахты, на небольшом столе, паром отдавали блюда с изысканнейшими яствами восточной кухни. При виде еды Лела почувствовала тошноту, а потому поспешила снова опустить голову, чтобы не смотреть на пищу.
Шах Аббас посасывал свой кальян, в камине потрескивал огонь, в покоях было жарко, невозможно было дышать, сердце замирало.
Лела боролась с подступавшей к горлу тошнотой.
Шах сначала поглядел на нее искоса, по-кошачьи сощурившись. Потом глаза его расширились, заблестели. Он отложил кальян и, приподнявшись на тахте, сунул ноги в расшитые золотом коши, бросил на Лелу взгляд, на этот раз уже звериный, от которого у нее мороз пробежал по коже.
– Поди ко мне! – проговорил он по-грузински едва слышно, почти шепотом.
Лела не двинулась с места. Какая-то сила удерживала ее – ведь до этого она едва сама не подошла к шаху, измученная ожиданием неизбежного.
– Поди ко мне! – чуть громче повторил шах, и в голосе его появилось что-то похожее на ласку, вперемешку с железным повелением.
Ноги сами по себе задвигались и подвели ее к тахте. Шах ловко обнял ее за талию и усадил рядом. Однако не успела она опомниться, как он сильным движением левой руки мягко уложил ее на тахту, затем привстал, аккуратно поправил подушки, постель и подтянул ее чуть выше.
Лела слегка дрожала, по телу ее пробегал озноб, кожа покрылась пупырышками. Нет, то был не озноб страсти и не озноб холода… Она страдала от дурноты, от слабости, ей было тяжко и тошно. Душу ее клеймили каленым железом, плоть рвали тоже калеными клещами, усердно топтали ногами честь и достоинство гордой кизикийки. Она задыхалась от злости, бессилия и горечи.
В комнате стояла жара… духота… злоба.
«Леван, мой Леван! Где ты, помоги мне, убей меня, изничтожь! Я жажду одной лишь смерти, но смерти такой, которая бы не принесла тебе даже капельки вреда!»
– Что вразумило тебя и привело ко мне столь кроткой?
– Ненависть! – невольно вырвалось у Лелы.
– И что ты собираешься делать с этой ненавистью? – оживился шах.
– Убить тебя!
– Убить меня или твоего Левана?
– Леван больше не мой, ибо и я больше не принадлежу ему.
– Отчего же не твой? Вот я велю оскопить его, а потом живите вместе до конца дней своих.
Лела содрогнулась, слегка приподнялась, ее вспыхнувший взгляд мгновенно остановился на кальяне.
Аббас понял, что у нее мелькнуло в голове, – отставил кальян чуть подальше, потом наклонился, поцеловал ее в левую грудь бесконечно долгим и нежным поцелуем…
Лела без сил откинулась на парчовые подушки…
Шах снова выпрямился.
Лела преодолела женскую слабость, сознание ее сразу прояснилось.
– Оскопленный Леван будет более преданным, более домашним, более смиренным, более ласковым. И тревожить тебя вовсе не будет, лишь только о твоем удовольствии заботиться станет. Коли понадобится – сам тебе куро[63]63
Куро – любовник.
[Закрыть] приведет, в постель к тебе уложит, обоим вам угодить постарается…
– Скопцы мне не нужны, повелитель мира! И о Леване я вовсе не думаю. Если можешь, делай свое дело, а не можешь – отпусти добром.
Аббас засмеялся. Горький это был смех.
Лела приподнялась и сплюнула на ковер.
Аббас нахмурился, скрюченным указательным пальцем правой руки провел по лбу и вдруг, весь задрожав, как бешеный, набросился на Лелу.
Лела заупрямилась, сама не отдавая себе отчета. Тогда он ударил ее в грудь кулаком с такой силой, что у нее перехватило дыхание. «Если бы он ударил в живот, убил бы ребенка», – мелькнуло у нее в голове, едва она пришла в себя, и со всей силой, на которую была способна, снизу два раза подряд ударила шаха правым коленом…
Шахиншах, повелитель Вселенной, как подкошенный рухнул на женщину. Лела отбросила его отяжелевшее тело, и, поскольку она не рассчитала свои силы, шах свалился с тахты на пол. Лела вскочила как обезумевшая, схватила кальян и только хотела опустить его на голову шаха… как ее руку схватили вбежавшие на шум телохранители. Обнаженная кизикийская амазонка, сраженная пудовым кулаком, без чувств упала на исфаганский ковер… рядом с повелителем Исфагана… в Исфаганском дворце.
... С того дня Лелу больше никто не видел, и никто о ней ничего не слышал. Правда, один из евнухов перед смертью исповедался в пекарне дворца Али-Кафу.
«Воды Зандеруда, – сказал он, – поглотили многих, сброшенных на его дно с камнем на шее…»
И еще одно: после той ночи шахиншах больше никогда не заглядывал в свой гарем. И жен постепенно раздаривал своим преданным приближенным. И бывал при этом милостив необычайно, не заботясь более о приобретении новых жен.
* * *
Шло время. В Исфагане весна ласкала землю. Сад Чехель-Соттун пробуждался к новой величественной жизни, наспех покрываясь нежно-изумрудной листвой.
Из сада до шахской площади достигало соловьиное пение и доносился аромат распустившихся цветов.
Весеннее солнце льнуло своими горячими лучами к сверкающему всеми цветами радуги куполу новой мечети Масджад-э-джомэ, горделиво возвышавшейся на столичной площади. Старые мечети смущенно потупились перед ее величием, хотя стараниями зодчих каждая из них, подобно не похожим друг на друга красавицам, могла свободно похвастаться собственной изящной резьбой и прихотливым узором. Минареты Чехель-Дохтарана и Серебана все еще не хотели сдаваться и тщетно пытались соперничать красотой и величием с новой мечетью.
Караван-сараи, переполненные пестрым и разноязыким торговым людом, днем беспрерывно гудели, словно пчелиные ульи, побеспокоенные человеческой рукой.
По ночам молодая луна нежным мерцанием обласкивала притихшие кварталы города. Разлившийся Заиндеруд усердно омывал два противоположных берега стольного города, соединенных друг с другом мостом Алаверди-хана.
Шелест молодой листвы чарующей песней сливался с весенним рокотом полноводной реки.
В городе время от времени можно было услышать стук молотков неугомонных чеканщиков и мастеровых. Постоянная суета восточного ремесленника ощущалась лишь в глухих переулках и улочках, вытянутых в пестрые ряды кварталов, плотно обступающих главную площадь. В центре, в непосредственной близости от шахской площади, раздавался глухой шум, производимый каменотесами, да и тот сразу тонул в цветущих садах.
Прохладная ночь опустилась на Исфаган.
Царица Кетеван и эту ночь проводила без сна в своем затворничестве. Из некогда многочисленной свиты теперь при ней остались лишь прислужницы и два старика аробщика. Люди, которых она посылала на поиски царевичей, обратно не возвращались, исчезали бесследно в этих волшебных дебрях города-сада. Поздно поняла отчаявшаяся царица, что понапрасну рассеяла свою свиту, а когда поняла, то ее утомленная горестями душа уже не в состоянии была переживать что-либо – она больше не нуждалась ни в свите, ни в тех прислужницах, которые по очереди читали ей вслух «Вепхвисткаосани» – «Витязь в тигровой шкуре».
Вот и сейчас старательно выговаривала Тамро мудрые слова великого Руставели, но царица их не слышала. Сознание ее мутилось, мысли то и дело пресекались, путались.
Бессонница вконец ослабила ее. Бессонница и отказ от пищи. И еще одиночество.
Визирь больше не появлялся. Связь с дворцом Али-Кафу прервалась.
Не приходил и тот евнух, которого она видела на четвертый день после роковой встречи с шахом. С тех пор он больше не показывался, и царица не получала никаких вестей от дочери.
Тамро догадывалась, сердцем чувствовала, что царица не слушает ее, но упорно продолжала читать, ибо ничем иным она не могла отвлечь свою повелительницу.
В дверь постучали. Царица вздрогнула.
С того дня, как пропали Леван и Александр, в дверь никто не стучал. Посторонние Кетеван не посещали, а свои давно входили без стука, ибо постепенно привыкли к тому, что царица все равно на стук не отзывалась.
Оттого и вздрогнула отвыкшая от посетителей царица и вопросительно взглянула на Тамро, но приказания, однако, никакого не отдала. И знака не подала.
Тамро быстро поднялась с низкой трехногой скамьи, не спрашивая, кто там, отворила дверь и в испуге попятилась: на пороге стоял человек богатырского роста, могучего сложения, в богатой персидской одежде. Его красивое мужественное лицо выражало доброту, в больших светлых глазах таилась грусть.
– Можно? – почтительно спросил гость на правильном грузинском языке и, не дожидаясь ответа, переступил порог, приветствуя царицу с соблюдением всех тонкостей восточного ритуала.
Кетеван встала, приблизилась к незнакомцу. Тот опустился на колени.
– Кто ты и зачем пришел сюда? – спросила дрогнувшим от волнения голосом.
– Беседа наша будет долгой, государыня, потому-то я хотел бы остаться наедине с тобой.
Тамро вышла, плотно затворив за собой дверь. Царица подвинула гостю скамью, а сама опустилась на тахту. Тот сел, положив саблю на колени и отставив ногу. Потом, кашлянув, тремя пальцами правой руки провел по усам и медленно заговорил:
– Меня зовут Дауд-хан, я сын Алаверди-хана из; рода Ундиладзе.
Не сводившая с гостя пристального взгляда царица вдруг опомнилась будто и сразу прервала его:
– Ты ведь был там… в тот день… когда мы дожидались шаха… когда я…
– Да… я был среди тех, кого вызвал шах… Go Мной был и мой брат Имам-Кули-хан бегларбег Парса, правитель южной Персии – наместник шаха в Ширазе…
– Что известно тебе о Леване и Александре? i – не удержалась, торопливо спросила Кетеван.
Дауд-хан провел рукой по усам и спокойно, как бы сдерживая царицу, ответил:
– Я все скажу тебе… Только не спеши… И не волнуйся. Я пришел к тебе как посланец брата и твой зять.
Кетеван вздрогнула.
– Мой зять?
– Да! Сейчас объясню. Наш отец, Алаверди-хан, да благословит его аллах, был родом из Кахети, сверстник царя Александра, Ундиладзе были крепостными крестьянами князей Джорджадзе. Что значит по-грузински «ундили»[64]64
Ундили – незрелый, неспелый; в переносном значении – неумелый, неудачливый.
[Закрыть] – ты хорошо знаешь. После битвы при Лори мой отец совсем еще юнцом попал в плен. Цену за него запросили большую, так как был он богатырски крепок и смекалист… Попал он в конце концов в кизилбашское войско, в бою показал себя храбрым воином, поддержал шаха Аббаса, когда тот боролся за престол, и своим усердием и мудростью добился, что его назначили сардаром вновь созданной шахской гвардии. О роде нашем – об отце, конечно, – писали много, персидские книжники и летописцы утверждали, будто мы князья, но это ложь. Мы самые обыкновенные крестьяне, но шах Аббас велел называть нас грузинскими князьями – не хотелось ронять свою честь возвышением бывших крепостных при своем дворе. Знает он что к чему, не остановится ни перед кем и ни перед чем… И то, что про нас поговаривали, будто мы армяне по происхождению, тоже неправда. Мать у нас действительно армянка, похищенная отцом из Сигнахи, обоих сыновей она по-грузински воспитала, ибо другого языка не знала, даже персидскому научиться не смогла. – Дауд-хан поглядел на книгу, оставленную на столе служанкой, и добавил: – И «Вепхвисткаосани» наша мать наизусть знает, и нас выучить заставила, аллах да продлит ее дни на радость сынам, внукам и правнукам.
Когда шах замыслил свой первый поход на Кахети, отец сначала умолял его не делать этого, потом, не добившись его вразумления, заупрямился, против шахской воли пошел. Шах разгневался, но поделать ничего не мог – слишком много заслуг было у отца и перед шахом, и перед всей Персией. Самый большой мост в Исфагане отец мой построил. Много мечетей и караван-сараев возвел на свои средства. И торговля при нем расцвела, каналов он прорыл великое множество и дорог немало выстроил. Исфаган, можно сказать, наполовину им построен, если не более.
Так вот, накануне нападения на Кахети… – Дауд-хан будто запнулся, настороженно огляделся и, еще больше понизив голос, почти шепотом продолжал: – Шах Аббас велел убить нашего отца. Мы, его сыновья, это знаем, но держим язык за зубами – другого выхода у нас нет. Он нас не обделяет своими милостями и вниманием, не дает повода для обиды и причину смерти отца объяснил нам обоим так: будто бы страдал он неизлечимым недугом. Но мы-?? хорошо знаем, что это был за недуг! – Дауд-хан вмиг пригасил вспыхнувшее было в его глазах пламя мщения.
В сердце Кетеван шевельнулась слабая надежда. Однако, не желая проявлять нетерпение, уже подмеченное гостем, она молча внимала ему.
– Ныне я бегларбег Гянджи и Карабаха, а брат мой занимает место отца и пользуется большим доверием шаха. Он спокойнее, чем я, относится к памяти отца… Мне тягостно находиться возле шаха, что наверняка чувствует и он сам, потому-то и держит меня в отдалении, хотя и я не даю ему повода для сомнений в моей преданности. Таков непреложный закон нашей жизни…
В тот день, когда тебя, государыня, призвали во дворец вместе с царевичами, приглашены были также и мы с братом. Я ехал издалека, поэтому брат и присутствующие там другие сардары ждали меня два дня и две ночи. Никто из них не знал, по какой причине мы понадобились повелителю. Лишь когда ты вошла к шаху, дворцовый визирь сообщил нам шахскую волю: мы должны были схватить царевичей и увезти в имение брата моего в Шираз… Других он оставил в покое, поручение возложил именно на нас, чтобы испытать на прочность и преданность нас, братьев Ундиладзе. Если бы мы отказались, другие присутствующие там сардары схватили бы нас. Брат мой это сразу смекнул и, как только заметил, что я хочу воспротивиться повелению повелителя, глазами дал мне знак. Таков еще один непреложный закон нашей жизни: при шахском дворе лучше разговаривать глазами, молча, без слов, чем вслух, языком…
– Что вы сделали с детьми? – вновь уступила царица Кетеван бабушке Кетеван.
– Я все скажу… Ты, царица, еще находилась у шаха, когда мы увезли царевичей в Шираз. Меня с полпути вернули назад, и на третий день по велению шахиншаха я предстал перед ним. Он похвалил нас за верную службу и мне в награду… дал в жены твою дочь Елену.
Кетеван с надеждой взглянула на Дауд-хана.
– Куда ты отправил Елену? – спросила она надтреснутым от сдерживаемого волнения голосом.
– Я тогда же отправил ее в Гянджу, ничего не сказав ей о царевичах. Сам поехал в Шираз и узнал от брата, что, выпроводив меня, шах послал ему повеление… Мне трудно говорить об этом, но не сказать тоже не могу, прости, государыня… Меня прислал к тебе брат… Оба царевича оскоплены… Сейчас они в Ширазе, во дворце у брата… хотят тебя видеть…
Сидящая на тахте царица рухнула без чувств, ударившись лбом о каменный пол, из носа хлынула кровь. Дауд-хан тотчас поднял ее, уложил на тахту и, хлопнув своими огромными ручищами, вызвал служанок.
Поднялся переполох, все захлопотали возле царицы. Дауд-хан отвел в сторону старого аробщика Гиголу:
– Когда царица придет в себя, скажи, что завтра, как стемнеет, я приведу лошадей и отвезу ее туда, куда влечет ее сердце. Пусть никому ничего не говорит, имени моего не называет. Мой визит должен остаться тайной.
От царицы Кетеван Дауд-хан отправился во дворец Али-Кафу, передал визирю письмо Имам-Кули-хана для вручения повелителю:
«Повелитель Вселенной… Спешу успокоить твое сердце, подобное солнцу, и душу, подобную ослепительному сиянию луны. На следующий же день по прибытии в Шираз мы обратили обоих юношей на путь преданного служения тебе, согласно воле твоей и аллаха, а потому, что юноши были уже взрослые, потому-то тяжело перенесли угодное тебе и аллаху дело. Хотя наш лучший лекарь приложил все свои старания и был весьма осторожен, но несмотря на это жизнь обоих царевичей в опасности, поэтому-то, предупреждая твое желание, я отрядил брата моего, верного раба твоего Дауд-хана, к царице Кетеван, ибо ее внуки в любой день и в любую ночь могут быть призваны к аллаху, так пусть она своими глазами увидит плоды непокорства сына, пусть вразумит Теймураза, дабы ослепились глаза его, взирающие на Север, и дабы внимал он одному лишь повелителю Вселенной, а кроме этого пусть и сама царица наберется ума-разума и примет истинную веру твою и нашу, ибо они неделимы, и станет верной рабой аллаха и Магомета, ежели хочет она добра для Кахети и Картли, для всего народа грузинского путем обращения их всех в истинную веру, а потому, и именно только потому, согласно соизволению и желанию твоему, Дауд-хан привезет царицу в Шираз и покажет ей внуков, ежели нет на то твоего согласия, то Дауд-хан немедленно покинет столицу и отправится в Гянджу служить тебе и аллаху.
Твой раб и слуга аллаха Имам-Кули-кан».
Шаху не понравилось письмо. Он вовсе не повелевал показывать оскопленных царевичей царице Кетеван, этого он не хотел, и Имам-Кули-хан явно своевольничал. Но письмо дышало преданностью, повеление его было выполнено, и потому он промолчал: лишь кивнул визирю и отпустил его, сам же предался привычным в последнее время размышлениям, частенько заменявшим ему прежние действия.
«Чего он добивается? И чем Кетеван может помочь внукам или ему самому? Может, в глазах Теймураза обелить себя таким образом хочет? Но как Теймураз ему поверит, когда он сам оскопил его двух сыновей? Нет, братья Ундиладзе, я вас скоро выведу на чистую воду! Пожертвовав этими двумя щенками, вы мне своей преданности не докажете! В знак преданности я потребую других доказательств. Сквозь огонь аллаха велю вас провести. Я вас живьем предам огню. Тебя особенно, последыш! Ишь, глазами сверкает, глаза у тебя истинно грузинские. Я эти глаза тебе выжгу и как обезьяну На цепи водить буду по всей Персии и твоей Грузии. Ладно, ладно, вези царицу в Шираз, покажи ей щенков, пусть набираются Багратиони уму-разуму, так даже и лучше, но и то не забывай, Имам-Кули-хан, как я однажды об отце твоем сказал, как будто бы в шутку: „Вся Персия мне подчиняется, а я сам Алаверди-хану подчиняюсь“. Именно то „подчинение“ и послужило причиной того,???? ваш отец с жизнью преждевременно простился. И тебя я недавно предупреждал: „Ты хоть на одну драхму меньше меня трать, чтоб народ видел разницу между шахом и ханом“. Не понял, Ундиладзе, что я тебе сказал? Ты расписываешь Чехель-Соттун мне в угоду, ты каналов проводишь больше моего, дороги прокладываешь, караван-сараи строишь, подражая своему отцу, на пирах больше меня самого показываешь золотые и серебряные азарпеши, подносы, чаши, блюда, кичишься коврами, оружием, драгоценностями. Тебя восхваляют авторы „Джангнамэ Кишми“ и „Парун-намэ“, тебя воспевал мой лучший поэт Кадри! Я уничтожу тебя, Имам-Кули-хан, уничтожу вместе со всем родом твоим за талант и сметку! Разве ты не знаешь, что именно даровитость надо таить и скрывать от повелителя своего!.. Ты сейчас хочешь добро личное, собственное совершить – царице внуков ее показать. Что ж, я тебя за это проучу! Я тебя заставлю своими руками и царицу твою замучить, чтобы ты перестал смотреть в сторону Грузии, как щенок писклявый! Одним необдуманным шагом можно перечеркнуть тысячу доказательств преданности, болван! Сначала ты сам, самовольно, собственное решение принял, а потом у меня письмом своим разрешения просил? Знал, что в такой мелочи я не откажу тебе, но зарвался – захотел дорогу мне перебежать, как щенок того матерого волка! Так не забудь: ты еще позавидуешь той награде, которую этот матерый волк от меня получил за волчью преданность свою! Не только царицу, а самого родного твоего брата я заставлю тебя своими руками пытать и истязать!»
…Шах Аббас ласково, милостиво принял Дауд-хана, спросил о Елене, подарил халат, брата велел благодарить за мудрую преданность и великую смекалку, которую он проявил, пригласив царицу Кетеван в Шираз.
Такой был обычай у владыки Востока, повелителя Вселенной, шахиншаха: одно он думал, другое говорил, третье делал, четвертое подразумевал, пятое замышлял…
Таков был обычай сильных мира сего.
В Исфагане благоухала весна.
* * *
В ущелье Риони[65]65
Риони – самая большая река в Западной Грузни.
[Закрыть] неистовствовал осенний ветер, громом сотрясая все встречное. Он клонил долу деревья, гнул, сгибал, трепал, ломал поредевшие кроны, гонял стаи сухих желтых листьев, бесновался, не оставлял в покое ни одно движимое и недвижное, свистел протяжно, дико. И лишь с Гелати[66]66
Гелати – архитектурный комплекс XII века в Западной Грузии, вблизи Кутаиси.
[Закрыть] и Риони ничего поделать не мог – неколебимо стоял Гелати, а Риони не убыстряли не замедлял величавого своего течения. Разбиваясь о купол Гелати, ураган терял былую силу и бесславно отступал, готовясь к новой атаке, и только гордую гриву Риони удавалось ему растрепать слегка, да и то лишь в тех местах, где волны замедляли свое стремительное течение вперед. Вечно неприступной твердыней Грузии недосягаемо, величаво стоял Гелати, неторопливый сказ о прошлом страны вел неиссякаемый источник жизни – Риони, спускавшийся с вершин Кавкасиони в цветущую долину Колхиды.
Ветер яростно бился о стены Кутаисского дворца, проносился по опустевшим балконам, обвивал, завихряясь, столбы и перила, врывался в окна, завывал в дымоходах, свирепел от бессильной ярости, тщетно сотрясая кровлю, хотя был далеко не бессилен. Сломал где-то старый платан, с корнями выворотил кипарис, беспощадно свалил сосну, посаженную в день рождения царевича Александра. Помял все цветы в царском саду, по лепестку ощипал розы, донага обобрал яблони и грушевые деревья.
В большом зале дворца за столом сидели пятеро: царь Георгий, царевич Александр, Кайхосро Мухран-батони, Георгий и Автандил Саакадзе. Стол, покрытый синим переливающимся атласом, ломился от яств. Имеретинский двор не ограничивал себя ни в чем.
Хозяева – отец с сыном – сидели по одну сторону стола, гости расположились напротив.
Беседа текла медленно, тяжеловесно, спокойно.
– Первую ошибку, моурави, ты допустил, когда замыслил Базалети… Вторую – когда воплотил этот замысел… Третью – когда…
– Сбежал?..
– Хотя бы так… – холодно отрезал царь.
Моурави вяло кашлянул, но получилось звучно, провел пальцами по усам, искоса взглянул сначала на своего Автандила, затем в упор устремил взор прямо в глаза царю имеров, который, продолжал все так же сурово:
– Во-первых, ты, Георгий-батоно, не должен был затевать это дело, а коли уж затеял – надлежало тебе стоять на своем до конца. Не мне тебя поучать, конечно… но ныне все обернулось на пользу Теймуразу, и я оказался пред ним посрамленным… И твой замысел, вроде и благой, не осуществился… Ты думал, что Теймураз отступит, не примет боя… Я же в это с самого начала не верил. Багратиони, да еще кахетинские, на попятную никогда не пойдут… особенно же сам Теймураз не уступит никому и ни в чем.
Царь Георгий помолчал, легонько постучал по столу длинными красивыми пальцами.
Саакадзе, который сидел понурясь, как побежденный пред грозным судом, – ибо не судят только победителей, и то не всегда, но наверняка не щадят потерпевших поражение, – вдруг высоко поднял голову, взглянул сначала на Кайхосро Мухран-батони, а потом перевел взгляд на имеретинского царя.
– После встречи в Схвило Теймураз неизмеримо вырос в моих глазах… Я твердо понял, уверовал, что он больше царь, чем поэт. Убедился я и в том, что в самые трудные, в тяжелейшие времена истории родины пришлось царствовать ему. Если бы он вступил на престол немного раньше или позже, когда Персией не правил бы шах Аббас, он много пользы сумел бы принести отечеству. Но дело в том, что персидский двор никогда не был таким могущественным, как сейчас, а правителя такого дальновидного и мудрого, хотя и кровавого тирана, никогда у них не было…







