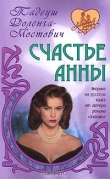Текст книги "Отец Кристины-Альберты"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Новые идеи!
Саргон был новым, Пол Лэмбоун был новым, Дивайзис был новым – до войны таких людей не существовало. Они выросли из своих прежних «я» и столь же отличались от довоенных людей, как люди XIX века отличались от людей XVIII века. А самой новой была Кристина-Альберта, отодвинувшая в небытие свою синеглазую предшественницу. В мыслях и разговорах она была такой прямой и свободной, что Бобби чудилось, будто его сознание семенит в кринолине и шляпке. Он совершил с ней две прогулки – в Брид и в Рай, и она ему страшно нравилась. Ему еще не было ясно, влюблен он в нее или нет. Кто бы в нее ни влюбился, обрекал себя на цепь еще не разведанных, никем не опробованных трудностей. Ничего общего с тем несбывшимся обычным романом с несуществующей синеглазой девушкой.
Ей он, казалось, нравился – особенно его волосы. Она дважды об этом упомянула и один раз их взлохматила.
Ситуация предлагала странную загадку, каким образом она, Саргон и он сам оказались гостями Пола Лэмбоуна с Дивайзисом на переднем плане. Именно свобода Пола Лэмбоуна от всяких предписаний позволила ему предоставить убежище Саргону и собрать такое странное общество под своим кровом. Но Бобби инстинктивно чуял какие-то скрытые связи и недостающие звенья. Дизайзис, конечно, был достаточно законным гостем как близкий друг Лэмбоуна. Но их интерес к Саргону казался Бобби более сильным, чем следовало бы. Он недоумевал и осторожно анализировал всяческие возможности. Без сомнения, за этим крылось безотчетное побуждение вроде его собственного, но не совсем такое – саргонизм.
Начал Бобби с враждебности к Дивайзису, непрошено вторгнувшемуся в систему отношений, достаточно интересных и без его вмешательства. Он радовался, что должен уехать в Лондон на пятницу и без особого удовольствия думал о возвращении в субботу. Затем он обнаружил, что его чувство перешло в своеобразное уважение, к которому примешивалась опасливость, почти страх.
Дивайзис замечал вас, не в пример Лэмбоуну. Смотрел на вас, приобщался к вам. Это была привычка – приобщаться к людям. Он умел интересоваться активнее и увлечение, чем Лэмбоун, в куда большей мере забывая о себе. Лэмбоун замечал все ровно настолько, чтобы высказывать остроумные наблюдения, Дивайзис касался самой сути. Бобби связывала внутренняя неуклюжесть – как и большинство людей, полагал он, но в Дивайзисе ее практически не было. Человек науки, человек с научным мышлением. Бобби доводилось встречаться с одним-двумя учеными, и они были поглощены чем-то, отгораживавшим их от обыденных вещей; поглощавший их интерес отгораживал их и от самих себя – одного в основном занимали напряжения в стекле, другого – яйца иглокожих. Возникало ощущение, что вы все время видите только их затылки, и оставалось лишь улыбаться такой их всепоглощенности. Но Дивайзиса занимали побуждения и мысли других людей. Он не отводил от вас взгляда, он заглядывал вам внутрь. Бобби мало-помалу осознавал это. Взгляду Дивайзиса не хватало деликатности и такта.
В субботу он приехал главным образом для того, чтобы заняться Саргоном. Он поднимался к нему и подолгу с ним разговаривал. Он «лечил» Саргона. Он поднимался к Саргону не для того, чтобы поговорить с ним, как мужчина с мужчиной – как говорил он с ним, Бобби. Он поднимался, чтобы, так сказать, заниматься с Саргоном психологическим джиу-джитсу, чтобы поразмять его, придать иной ход его мыслям. Дивайзис был внушителен сам по себе, но куда более внушительным, как знамение. Он, как ни посмотреть, выглядел предшественником, крайне энергичным предшественником (они все были предшественниками!) нового типа человеческих взаимоотношений. Отношений без тактичных умолчаний, без мощного накопления эмоций из-за страстей, от которых уклонились, из-за всего, что осталось несказанным. Так чудилось Бобби, который понятия не имел, от сколького эти люди уклоняются и сколько подавляют. Ему казалось, что мысли и слова Кристины-Альберты предстают в полной наготе, точно толпы в какой-нибудь жуткой утопии Уэллса. И он вспоминал об огромной неощутимой сети «взаимопонимания», которую они с Тесси сплели между собой.
– Новые люди! – прошептал он и посмотрел прямо в лицо новому дому Пола Лэмбоуна. Для него они были ошеломляюще новыми, удивительнейшим открытием. Война, понял он, истощила его, оставила слишком усталым, чтобы он был способен замечать новое. Он принадлежал к неисчислимому множеству тех, кто вышел из войны, ожидая возвращения в очевидное, банальное, старомодное тысячелетнее царство, и излил свое разочарование в утверждениях, что не произошло ничего, кроме опустошений и обнищания. Вначале они были слишком переутомлены, чтобы заметить что-нибудь еще. Но вот теперь Бобби по-настоящему понял, что Европейский мир двигался вперед все быстрее и быстрее после того, как в 1914 году рухнул вооруженный нейтралитет, и появились новые типы людей, новый образ мышления, новые идеи, новые реакции, новые морали, новые образы жизни. Он обнаружил, что находится в волне нового века – нового века, который наступает так быстро, что не было времени убрать понятия и институты прошлого века. Их не опрокинули, не отменили, не преодолели – их попросту игнорировали. Вот почему оказалось возможным прожить около года, не замечая, как кардинально все меняется.
«Новые люди». Относится ли это к Саргону? Точно комната Саргона – два окна между выступами. И Саргон тоже вырвался из установленного порядка взаимоотношений в нечто новое? В чем заключалось истинное значение нелепого человечка с его дурацкой картой мира и еще более дурацкой звездной картой, который хотел быть Владыкой Земли?
4
Когда Бобби пришел обсудить это с Саргоном, ему показалось, что Дивайзис разъял человечка на части и преподнес ему разрозненные его кусочки. В понедельник Дивайзис уехал в Лондон и забрал туда Кристину-Альберту в своем прокатном автомобиле, однако Лэмбоун попросил Бобби остаться на день-другой, чтобы развлекать больного. Сам он, насколько понял Бобби, намеревался остаться в Удиморе по крайней мере на неделю, чтобы поработать. Бобби проводил Кристину-Альберту, раздумывал о ней около часа, затем остаток утра посвятил Тетушке Сюзанне, а день – Саргону. И Саргон, которому стало заметно лучше, сидел, опираясь на две подушки и обсуждал свою разъятость.
– Ничуть не устал, – сказал Саргон. – Я теперь принимаю тонизирующее средство. Каждые два часа. – Несколько секунд он что-то взвешивал, а потом спросил: – Но кто такой этот мистер Пол Лэмбоун? Очень радушно с его стороны пригласить нас. Очень. (Кха-кха)… Он ваш друг?
– Он известный писатель, друг Кристины-Альберты.
– У нее столько друзей! Как у всей нынешней молодежи. А что такое этот доктор Дивайзис?
– Специалист по нервным расстройствам, и с ним проконсультировались… проконсультировались о том, как забрать вас из этого… места.
– Специалист по нервным расстройствам. Он замечательный собеседник. Весьма умный и (кха-кха) чуткий. У меня странное ощущение, что где-то, когда-то, каким-то образом я с ним уже встречался. В этой жизни… или в какой-нибудь другой. Все это крайне смутно, а у него, как будто, нет сходных воспоминаний. Да. Возможно, какое-то совпадение.
Бобби не придал совпадению никакого значения.
Саргон на несколько секунд закрыл глаза.
– Мы беседовали о том, что мне пришлось пережить последнее время.
– Вполне понятно, – сказал Бобби, чтобы помочь ему.
– С моей личностью произошла значительная путаница. Теперь такое случается много чаще чем прежде. Большую часть моей жизни я считал себя человеком, которого звали Альберт-Эдвард Примби, ограниченным человеком, весьма ограниченным. Затем меня озарило. Я начал понимать, что на самом деле никто не может быть таким вот Альбертом-Эдвардом Примби. И я начал искать себя. У меня была причина… объяснять было бы слишком долго… что я Саргон Первый, великий шумер, основатель первой Империи в мире. Потом… потом случилось несчастье. Вам кое-что об этом известно. Я попытался взять скипетр… как-то к вечеру… в Холборне… опрометчиво. Крайне тяжелые последствия. Меня отправили в это место. Да. Я был совсем разбит. Унижения. Тяготы. Настоящая… нечистота. Меня взяло сомнение: что, если я все-таки всего лишь этот маленький Примби. Заяц в человеческом облике. Моя вера поколебалась. Признаюсь, она поколебалась.
На несколько секундой погрузился в тягостные размышления.
Затем успокаивающе погладил Бобби по запястью.
– Я действительно Саргон, – сказал он. – Беседа с вашим другом Дивайзисом заметно прояснила мои мысли. Я действительно Саргон, но в ином смысле, чем мне казалось. Примби был, как я и предполагал, случайной личиной. Но… – Маленькое личико сморщилось от интеллектуальных усилий. – Я не Саргон, исключающий всех других. Вы… вероятно, вы еще не пробудились, но вы тоже Саргон. В наших жилах его кровь. Мы сонаследники. Понять это нетрудно. Саргон, требования царского сана. Естественно, много жен. Политическая… биологическая необходимость. Многочисленные отпрыски. Ну, и они… преимущества положения… много детей. Следующее поколение – еще больше. Как гигантский расширяющийся луч интеллектуальной и нравственной силы. Это можно доказать… доказать математически. Доктор Дивайзис и я… мы рассчитали это на листке бумаги. Мы все происходим от Саргона, как мы все происходим от Цезаря… ну, как почти все англичане и американцы происходят от Вильгельма Завоевателя. Мало кто осознает это. Немножко арифметики… и все ясно. Задолго до христианской эры кровь Саргона распределилась между всем человечеством. А его традиции – тем более. Мы все наследуем. И не только от него, но от всех великих монархов, благородных завоевателей. От всех смелых и красивых женщин. От всех государственных мужей, изобретателей, творцов. Если не прямо от них, то от их отцов и матерей. Все лучшее вино прошлого – в моих жилах. А я думал, что я всего лишь Альберт-Эдвард Примби! И в Вудфорд-Уэллсе я чуть не каждый день совершал глупую прогулку с шестипенсовиком в кармане на расходы, потому что мне совершенно нечего было делать! Двадцать лет. Невозможно поверить.
Синие глаза взглянули на Бобби в поисках подтверждения, и он кивнул.
– И я гулял по Эппингскому лесу в костюме, который мне не нравился… костюм для гольфа, довольно утрированный, с мешковатыми брюками, которые выбрала для меня жена… Они словно с каждым годом становились все мешковатее… Гулял и ничего не знал о том, что я наследник всех веков, что Земля до самого центра и до неба – моя. И ваша. Наша! У меня не было ни малейшего ощущения долга по отношению к ней, во мне еще не пробудилось самоуважение. Я был не только Саргоном, но всеми мужчинами и женщинами, которые когда-либо что-то значили на Земле. Я был Вечным Слугой Господа. Но я не думал об этом, а боялся лошадей и незнакомых собак, и часто, когда навстречу мне шли люди, я думал, будто они рассматривают меня и разговаривают обо мне, и я не знал, что мне делать с руками и ногами, не знал, куда их девать.
Он умолк, чтобы улыбнуться этому воспоминанию.
– Было очень интересно разговаривать с вашим доктором Дивайзисом о нелепости, слепой узости и мелкости, в которой я жил так долго. Мы говорили о Великом Человеке, каким я был на самом деле, о Великих Людях, какими мы были на самом деле. Все Слившиеся Великие Люди. Вы и я – одинаково. Потому что в прошлом вы, и я, и он были одним, и в будущем можем вновь воссоединиться. Мы просто разделились, чтобы овладевать сущим. Вот как рука разделяется на пальцы. Мы говорили о том времени, когда живущий в нас дух построил первую хижину, спустил на воду первую лодку, объездил первую лошадь. Мы не могли связать эти великие моменты с конкретными действиями, но мы вспоминали их… в общем. Мы вспомнили жгучее солнце, когда кучка людей впервые пересекла пустыню, и когда человек впервые ступил на ледник. Он был… скользкий. Затем я вспомнил, как следил за моими людьми, когда они насыпали валы вокруг моего первого города. Мы гнались за разбойниками, угонявшими первые стада. Потом мы с доктором Дивайзисом стояли в воображении на подобии квартердека и смотрели, как наши люди налегают на огромные весла ладьи, которая доставила нас в Исландию и в Винланд. Мы видели это оба. Мы спланировали Великую Китайскую Стену; я считал наши латинские паруса на нашем великом канале. Видите ли, я воздвиг миллионы великолепных храмов и создал миллионы чудесных скульптур, картин, драгоценных украшений. Я забыл это, но так было. И я любил миллионами любовий – да-да, – чтобы быть сейчас здесь. Как и мы все. Мы обсуждали это, ваш доктор Дивайзис и я. Мне не грезилась и миллионная доля того, чем я являюсь. Когда я думал, что я Саргон, целиком и только, я все еще не осознавал мое великое наследие и мою великую судьбу. Даже и теперь я только-только начинаю видеть это… Нелепо думать, что я после всех свершений и приключений готов был прогуливаться по Вудфорд-Уэллсу в дурацком твидовом костюме и брюках-гольф, чрезвычайно неудобных и тяжелых – знаете, они меня противно щекотали в жаркие дни. Но так было. Было. Я не понимал… И я шел, пока не оставалось сил терпеть, а тогда я останавливался и почесывал себя под коленками… Конечно, когда я называл себя Саргоном, Царем Царей я, как назвал это доктор Дивайзис… символизировал. Разумеется, каждый человек на самом деле Саргон, Царь Царей, и каждый должен овладеть всем миром, и спасти его, и управлять им, как должен я.
Он завершил свои объяснения. Он разложил свои разъятые части перед Бобби точно в том виде, в каком Доктор Дивайзис вернул их ему.
5
– Но что именно вы собираетесь делать? – спросил Бобби.
– Я думал над этим.
И некоторое время он продолжал думать.
– Все так изменяется, – сказал он, – когда понимаешь, что ты – не единственный Саргон. Я думал быть великим царем, великим вождем, думал, что весь мир просто последует за мной. Сомневаюсь, чтобы я когда-либо безоговорочно верил, будто подобная задача мне действительно по силам, но я не понимал, как иначе могу я быть Саргоном и царем. Но теперь вижу. Я делал что мог, но даже направляясь в Букингемский дворец, я осознавал насколько не для меня эта задача. Я говорил доктору Дивайзису… я сказал ему: раз он – Саргон и Царь, так же, как и я, и раз почти кто угодно может стать Саргоном и царем, то уже речи нет о дворцах и тронах, о том, чтобы тебя провозгласили царем и короновали, – все это устарело не меньше кремневых орудий. Просто нужно быть царственной личностью и со всеми другими царственными личностями в мире трудиться, чтобы мир этот стал достоин нашего высокого происхождения. Кто угодно может пробудиться и стать царственной личностью. Мы можем быть подлинными царями, оставаясь инкогнито. Можно заниматься прачечной, как я, когда я был просто Примби, и думать только о прибылях, и потребностях, и тщеславных потугах, и страхах маленького человека при прачечной – и как тоскливо было это! Или можно быть царем, потомком десяти тысяч царей, сонаследником всех человеческих деяний, владыкой еще не рожденных поколений, которому выпало жить в изгнании при прачечной.
Он помолчал.
– Я почти со всем согласен, – сказал Бобби. – Это… это очень привлекательно.
– Вплоть до этого момента все проще простого. Но тут начинаются трудности. Мало сказать, что ты царь. Надо быть царем. Надо действовать. Нельзя быть царем и не поступать по-царски. Но касательно этого доктор Дивайзис и я… мы утратили ясность. О стольком надо подумать. В чем моя царская задача? В этом слабом теле… и что я? Мне неясно. Но самый факт, что мне неясно, ясно указывает, с чего мне следует начать. Я должен обрести полную ясность. Должен приобрести знания, узнать все о моем царстве. Это логично. Я должен узнать больше о моем великом наследстве – нашем великом наследстве, его истории, его возможностях и о путях людей, которые управляют им так скверно. Мне надо разобраться в коммерции, промышленности, экономике и деньгах; а когда я увижу все это ясно, мне надо будет напрячь силы, голосовать, трудиться. И узнать, какими дарованиями я обладаю и как лучше употребить их на пользу нашего царства. Каждый царь должен прославить свое царствование своим дарованием. Вот к какому выводу мы пришли. Пока я еще не знаю, каково мое дарование. Доктор Дивайзис говорит, что его задача – разбираться в человеческих побуждениях и человеческих взаимоотношениях; его дарование, его естественные склонности лежат в области психологии. Его задача открыта ему – его царственная задача. Но я пока знаю себя много хуже. Я должен начать снизу и узнавать ответы на более общие вопросы. Мне надо набраться сведений о вселенной и об истории всемирной империи Саргона, и обо всем том, чем я пренебрегал в моих фантазиях и малости. Я должен снова поступить в школу. Научиться думать глубже. Усталости я не боюсь. Но мне не терпится начать. Когда я думаю обо всем, что мне предстоит, – о чтении, розысках, посещениях музеев и тому подобных учреждений, мне хочется сейчас же приступить к делу. Я прожил такую нелюбознательную и безответственную жизнь, что не нахожу, как отчитаться за потраченные мной годы. Я их профантазировал. Но я рад, что пробудился к моему царствованию, пока еще не поздно.
Я же еще совсем молод. Мне лишь чуть за сорок – пустяки! Половину занимали детство и отрочество, а большую часть остального – бездеятельность. Я ведь могу прожить еще сорок лет. Большая часть жизни у меня еще впереди. И эти годы могут стать лучшими, плодотворнейшими. Три-четыре года я могу потратить только на образование, на постижение устройства мира. Начну с политики, выясню, почему люди так угодливы и мелочны. И постепенно пойму, как поделиться с другими великим освобождением, открывшимся мне. Начну участвовать в политике. Человек, чурающийся политики, похож на крысу в трюме корабля, а не на того, кто этот корабль ведет. И участвуя в ней, я узнаю, в чем смысл моей жизни, в чем лично моя задача. Пока, мне кажется, решать преждевременно, но меня притягивает загадка сумасшествия и сумасшедших домов. Не понимаю, почему вообще существует сумасшествие. Меня это озадачивает и угнетает, и доктор Дивайзис согласен со мной, что, когда что-то озадачивает и угнетает сознание, необходимо по мере возможности постигнуть все накопленные об этом предмете знания и идеи, то есть научно. И предмет перестает тебя угнетать, он заинтересовывает тебя, занимает. Когда я был в… в этом месте, я беседовал с некоторыми из тамошних бедняг. Мне было их так жаль! Я обещал помочь им, когда обрету свое царство. И теперь я начинаю видеть, что такое мое царство и как я могу вступить во владение им. Быть может, со временем я соберу сведения о сумасшедших домах, и сделаю их всеобщим достоянием, и улучшу условия в них, чтобы там не просто держали людей взаперти, но помогали им и вылечивали.
Кажется, это была идея доктора Дивайзиса – или мы пришли к ней вместе, – что в сумасшествии есть подлинная и важная цель. Это своего рода упрощение, удаление тормозов и контролирования – своего рода естественный эксперимент. Тайны сознания обнажаются. Но если беднягам приходится терпеть такое, чтобы другие могли черпать знания, с ними должны обходиться достойно; их нужно оберегать, использовать в полной мере, а не оставлять на милость таких животных, каких поставили над нами… Не могу рассказать вам. Пока не могу. Да, они были животные… А в минуты прояснения сознания – у них у всех бывают такие минуты, у этих помешанных, их следует утешить, объяснить им все.
Синие глаза на странном круглом личике с пробивающимися усами уставились на Бобби.
– Когда я в первый раз увидел вас, – сказал Саргон, – я совершенно не понимал, как на самом деле обстоят дела между нами. Я все еще был порабощен тщеславием. Я думал, будто я великий пророк, учитель, царь, и весь мир должен мне повиноваться. Я думал, вы станете моим первым, лучшим и самым близким мне учеником. Но теперь я знаю больше о себе и о других людях. Они здесь не для того, чтобы стать моими последователями и учениками, но моими собратьями-царями. Мы должны работать вместе со всеми, кто пробудился, во имя нашего царства и великого прогресса человечества.
Он продолжал говорить больше себе, чем Бобби.
– Мне всегда хотелось получать знания, но теперь у меня будет воля для этого. Теперь я буду иным. Просто не верится, что еще совсем недавно я не знал, чем занять свое время. А теперь мне не терпится взяться за дело, и сколько бы времени мне ни осталось, я знаю, оно будет использовано сполна. Меня поражает, что в моем царстве люди летают уже более десяти лет, а я ни разу не поднялся на аэроплане. Мне необходимо обозреть мир с аэроплана. А может быть, мне придется поехать в Индию, Китай и тому подобные таинственные и удивительные страны – ведь и они часть моего наследства. Мне нужно узнать их. И джунгли, и дикую глушь, которую мы должны покорить. Я должен их увидеть. Животные подчинены нам, и мы должны заботиться о них или милосердно уничтожать, как того потребуют интересы нашего царства. Страшно быть владыкой даже зверя. Все звери, домашние и дикие, в нашей власти. И наука. Вся замечательная работа, которой заняты люди в лабораториях, и их чудесные открытия тоже требуют наших забот. Если я не понимаю, то могу помешать. Как слеп я был к великолепию моей жизни! Когда я думаю обо всем этом, мне невыносимо оставаться в постели, так мне не терпится взяться за дело. Но полагаю, я должен быть терпелив с этими бедными хрипящими легкими.
– Терпелив, – повторил он.
Он взглянул на свои наручные часы, но они остановились.
– Вы не скажете, который час? В семь мне надо еще раз принять это прекрасное тонизирующее средство. Оно творит со мной чудеса. Нет, не беспокоитесь, сиделка проследит… Оно вдыхает в меня новую жизнь.
6
Но Саргон не прожил сорока лет, и тридцати не прожил, и двадцати. Он прожил всего семь недель без одного дня после этого разговора. После возвращения Бобби в Лондон он оставался в постели еще два дня. А тогда уехал и Лэмбоун, и он стал глух к голосу здравого смысла. По мере того, как к нему возвращались силы, он изводил свою сиделку все новыми и новыми требованиями принести ему книги, которые не мог ни назвать, ни описать, а кроме того, тома «Британской энциклопедии». А когда она заявила, что семи томов этого монументального издания должно хватить на день любому больному, он встал, надел свой халатик из грубой материи и спустился по лестнице в библиотеку, решительно кха-кхакая. После это он вставал с постели три дня кряду. В наиболее книжном углу нижней комнаты был разведен огонь, а сам угол отгорожен ширмами, чтобы ему было теплее. Но тонизирующее средство подхлестывало его – возможно, оно оказалось слишком уж стимулирующим.
Сиделка, видимо, была бесхарактерным унылым существом и опасалась делать что-либо без указаний. Она звонила Дивайзису в Лондон, но не сумела объяснить ему всю опасность неосторожностей Саргона. Венцом всего явился отказ лечь в постель в семь. Вместо этого он выскользнул из дома, правда, в пальто и шарфе, но в домашних туфлях, на террасу, где ветер леденил его голые лодыжки и голени. Его привлек то вспыхивающий, то исчезающий луч маяка на берегу, который медленно скользил по призрачным холмам под мерцающим сиянием звезд – эта процессия лучей, и беглое великолепие Сириуса, и неизменное величие блистающего Ориона. Был ясный ноябрьский вечер, морозный воздух пощипывал щеки. Сиделка услышала его кашель и кинулась за ним. Он смотрел на Сириус в полевой бинокль Лэмбоуна, ей пришлось тащить его в дом силой. Она вспылила, и чуть не произошла вульгарная драка.
На следующий день он не смог встать с кровати, и все-таки он ворочался и открывал пылающую жаром грудь в слабых попытках читать.
– Я же ничего не знаю, – жаловался он.
Затем ему снова полегчало, после чего он, видимо, подошел ночью к открытому окну полюбоваться звездами. За этим последовал рецидив, около недели он боролся с болезнью, после чего начался бред, сменившийся глубокой слабостью, и затем однажды ночью пришла смерть. Он умер совсем один.
Бобби никакие ожидал его смерти, и узнал о ней от Кристины-Альберты с большим изумлением. Ему ничего не говорили ни о том, что Саргону стало хуже, ни о его упрямом поведении. И он с некоторой завистью представлял себе, как Саргон день ото дня становится крепче и удовлетворяет прекрасную, тоже крепнущую любознательность. Он предвкушал еще один разговор и новую фазу этой необыкновенной запоздалой подростковости. У него было ощущение, будто увлекательная история оборвалась на середине, так как заключительные главы были безжалостно и бессмысленно вырваны.
Это настроение обманутого сочувственного ожидания сохранялось и во время кремирования Саргона в Голдерс-Грин. Бобби отправился на эту своеобразную церемонию. Они с Билли опоздали – гроб с маленьким покойником уже стоял наготове, чтобы соскользнуть в печь, а заупокойная англиканская служба уже началась. Кристина-Альберта в трауре, который носила на похоронах матери, сидела впереди как главная скорбящая с Полом Лэмбоуном и Дивайзисом справа и слева от нее. Позади нее с лицами, выражавшими готовность поддержать ее, сидели Гарольд и Фей Крамы; как ни поразительно, оба были в глубоком трауре и следили за службой по двум молитвенникам. Очень неприятный тип с длинной рябой овечьей физиономией и крохотными глазками, в черном, но явно будничном костюме, обернулся и воззрился на Бобби, когда он вошел. Типа сопровождала очень крупная блондинка, словно бы проспавшая ночь в своем трауре под кроватью. Родственники покойного? Да, от них так и веяло родственниками. Молодая женщина позади них и две безмятежные старушки, видимо, просто отдавали дань склонности к похоронам. Ими провожающие Саргона в последний путь и завершались.
Кристина-Альберта выглядела непривычно маленькой, почти заслоненной двумя своими непонятными друзьями. День снаружи был пасмурный, и здесь все окутывала зябкая сырость, в которой немногие фигуры словно сиротливо терялись. Когда Бобби вошел, играл прекрасный орган, но ему показалось, что он еще никогда не слышал такого разбитого органа. Служба с каждой минутой казалась все более банальной, теологичной и неискренней. Какой же подержанный мокрый макинтош – эта англиканская церковь, подумал Бобби, чтобы накидывать на ищущую душу! Но что может любая религия в мире сделать перед лицом обычной смерти? С точки зрения теологии, следовало радоваться, когда умирает хороший человек, но ни у одной из них не достало дерзости преступить эту черту. Никому не дано уйти от неизбежного растерянного вопроса: а есть ли в этом гробу нечто, которое слышит или хоть капельку ценит это торжественно-мрачное лицедейство?
Мысли Бобби сосредоточились на том, что лежало в гробу. Маленькое восковое лицо, наверное, обрело непривычное благообразие; круглые, до невероятия наивные синие глаза закрыты и чуть провалились. Где те мысли и надежды, о которых Бобби слушал лишь несколько недель назад? Саргон говорил о полете на аэроплане, о поездке в Индию и Китай, о благородных трудах на благо мира. Он сказал, что у него впереди еще половина его жизни. Он, казалось, распускался, словно цветок в первое солнечное утро запоздавшей весны. И все это было самообманом. Захлопнувшаяся за ним дверь смерти уже тогда начинала закрываться.
Но ведь эти надежды были жизнью! Именно в них было что-то от жизни, которая живет и не может умереть. И она там? Нет. В гробу лишь фотографический отпечаток, сброшенная одежда, обрезок ногтя. Теперь даже в мозгу Бобби было больше Саргона, чем в этом гробу. Но Саргон – где он? Где эти грезы и желания?
Бобби расслышал голос священника, птицей проносящийся над путаницей его мыслей: «Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет; И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное, или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и какому семени свое тело…»
«Странный, замысловатый, находчивый тип, этот Павел», – думал Бобби. К чему он, собственно, тут клонит? Странный тип! И скверные манеры.
«Безрассудный!» Можно ли так? Довольно-таки натянутая аналогия с семенем, сеющемся «в тлении». В конце-то концов, семя – самое чистое, самое живое, что только есть в растительном мире, и сажать его надо в чистую землю. Растущие побеги, возможно, унавоживают, но не ящики, в которые сажают семена. И дальше такое странное подчеркивание «изменения» – непреемственности новой жизни. То, что взойдет, будет совсем другим, чем посеянное. Бобби никогда прежде не замечал этого, не замечал, как прямолинейно апостол настаивал на том, что никакое тело, никакое земное тело, никакая личность никогда не вернется.
« Естьтела небесные и тела земные: но иная слава небесных, иная, земных; Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе».
Что за этим кроется? Верен ли перевод? С чем Павел столкнулся в Коринфе? В конце-то концов, почему Церковь, вместо того чтобы говорить о твоих живых потребностях, эксгумирует этот левантийский довод? А аналогия с семенем? Может быть, она все-таки удачна? То, что прорастает из семени, должно в свою очередь умереть. Оно не более бессмертно, чем растение, которое было до него. И священник слишком частит, чтобы уследить за ним. Лучше потом дома взять Писание и прочесть все самому.
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти – грех; а сила греха – закон».
Нет. Никак не уследить. Чушь какая-то. Видимо, упускаешь суть. Словно слушаешь кого-то, кто стоит далеко, так что слова еле доносятся, зато он красноречиво жестикулирует и играет голосом.
Внезапно возникла неловкая пауза. Все сохраняли неподвижность, точно окаменев.
«Человек, рожденный женою, краткодневен… Как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень…»
Невидимые руки привели гроб в движение, и он заскользил к дверям, которые раскрылись, чтобы принять его. Бобби казалось, что он слышит рев печи, для которой предназначался этот гроб. В его воображении пламя в печи взметнулось и заревело – звук, подобный реву урагана, стихийный, смятенный звук…
Жизнь – тоненькая пленка на одной планетке, но пламя ревет вот так, и ураганы налетают, закручивая смерчи, и уносятся к самым дальним звездам в неизмеримых глубинах космоса. Этот могучий, хаотичный рев – истинный голос безжизненной материи, а не мертвой, ибо то, что никогда не жило, мертвым быть не может – да, безжизненной материи вне, ниже и по ту сторону жизни.
Все в часовне словно замерли, склонились, затихли и съежились до самых крохотных размеров перед этим бездушным, пожирающим грохотом в душе Бобби.