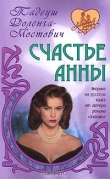Текст книги "Отец Кристины-Альберты"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Она попыталась крикнуть слова утешения и поддержки трагической фигурке, прежде чем сон оборвется – теперь она уже твердо знала, что все это ей снится. Ну, конечно, он невыносимо страдает. Почему она не написала ему, не телеграфировала? Уж наверное, письмо или телеграмму ему передали бы! На нее нахлынуло глубочайшее отвращение к себе, к своей никчемности, бессердечию, и ее поразил глубокий ужас перед болью и жестокостью, и она проснулась в неизбывном отчаянии посреди черной ночи на своей жесткой маленькой кровати в своей душной маленькой спальне в Лонсдейлском подворье.
10
Но она все еще словно видела перед собой своего папочку – покинутого, сломленного, ввергнутого в страшную опасность. Этот жуткий в своей четкости образ не исчезал. Утром она встала, полная тревоги и угнетенная.
– Я ничего для него не делаю, – сказала она. – Откладываю со дня на день, а ведь для него каждый день полон отчаяния.
– Да кнечно, в прютенетак скерно, – сказал Фей. – Кнечно, тыпергбиш палку.
– Но жить среди сумасшедших, считаться сумасшедшим!
– Им кестрыграют. Фоксхилский прютслатся кестром. Развлеченя, то да се, – сказала Фей.
Кристина-Альберта сдержалась и не употребила неприличного выражения.
– Ты из-за этого заблешь, – сказала Фей. – В Лоне тебе сдеть нзчем. Лучше езжай в Шорм. Дом пропдает зря. Пока пгда держится.
Действительно, в этом году октябрьская погода держалась на удивление – один тихий золотой день сменялся другим, и приятель предложил Крамам воспользоваться его бунгало на берегу в Шореме, где он жил летом. Им хотелось поехать, пока погода не испортилась, однако поехать значило оставить Кристину-Альберту в студии совсем одну, а этого они не хотели. Но поехать в Шорем они решили. Кристина-Альберта теперь, когда нашла Дивайзиса, не могла даже подумать о том, чтобы уехать за пределы телефонной связи с ним. Лондон, доказывала она, самое для нее место. В Каммердаун-Хилл она может добраться за час, может следить за всем. Крамы могут ехать, если хотят, но она обязана остаться.
Фей отказывалась понять. И приставала.
Около одиннадцати Кристина-Альберта пошла на почту и из телефонной будки позвонила Дивайзису.
– Нельзя как-нибудь все ускорить? – спросила она. – Я нервничаю из-за папочки. Просто подумать не могу, как он томится там день за днем. Он мне снится.
– Тревогой делу не поможешь. Мы… у меня для вас неприятная новость. Так что возьмите себя в руки.
Он умолк. Кристина, при всей свой любви к Дивайзису, еле удержалась, чтобы не закричать на него.
– Да? Что случилось.
– День посещений был вчера. К нему приходил один посетитель. Вероятно, тот милый родственничек, которого вы описали… как бишь его? Уиглс? А, мистер Уиджери. Но теперь неделю никто из внешнего мира не может увидеть вашего папочку. До следующего вторника.
– О, черт! – сказала Кристина-Альберта.
– Вот именно. Я сделаю все, что смогу, чтобы получить особое разрешение. Я добрался до самого директора. Но он держался странно. То есть был весьма любезен и благожелателен, но он крутит. Не говорит ни «да», ни «нет». Непонятно! Днем я свободен, но завтра занят. Я собирался прямо поехать к нему, к директору, хочу я сказать, чтобы побеседовать с ним после обеда. «Лучше через день-другой», – говорит он. Будем надеяться, что он не скрывает ничего неприятного. Затем обещал позвонить мне позднее и сразу положил трубку. Так что будьте наготове. Какой номер вашего телефона?
– У меня его нет. Вам придется телеграфировать.
– Или я поймаю такси и заеду за вами. Простите, что я заставляю вас ждать, Кристина-Альберта.
– Ничего, если это поможет добраться до папочки.
– Договорились!
В трубке щелкнуло.
Телеграмма пришла через два часа – два часа, которые были заполнены бесконечным спором с Фей о Шореме. Кристина-Альберта прочла: «Ваш отец не появился он убежал утром на рассвете в шлепанцах и халате и о нем ничего не известно если он не приходил встречаемся на вокзале Виктории в два-семь на Камердаун-Хилл позвоните 0247 если он там».
11
Но мистер Примби никуда не пришел. Он исчез.
Кристина-Альберта, изумленная и ошеломленная этим новым исчезновением, поехала с Дивайзисом в Каммердаун-Хилл. Директор был ошеломлен куда меньше их. Саргона хватились в час завтрака, и все указывало, что он просто ушел из приюта. Подобное случалось и раньше. Санитары позволили себе вздремнуть на дежурстве и получат выговор. Ну, а удивляться… директор не собирался удивляться. Сумасшедшие часто уходят и не могут найти дорогу назад или убегают, но власти не поднимают особого шума, если они не опасны. И насколько возможно, стараются, чтобы это не попадало в газеты.
– Это ведь не Портленд, – сказал директор. – Обычно они возвращаются. Даю ему день. Возможно, он уже идет назад. Или прячется где-нибудь в миле отсюда. Я опасаюсь только простуды. Пневмония – наиболее обычная смерть сумасшедших. Но для этого времени года совсем тепло. Такого октября сто лет не выпадало.
Ему гораздо больше хотелось поговорить с Дивайзисом о реформе приютов, убедить его, что он – весьма прогрессивный и способный директор, чем обсуждать конкретно мистера Примби.
– Мы делаем что можем, – сказал он. – Но мы связаны крайней экономией, которую вынуждены соблюдать. Санитары самые плохие, но и тех не хватает. Общественное равнодушие к душевнобольным чудовищно. Все, включая близких родственников, стараются попросту забыть о них.
– Но как Примби сумел выбраться? – спросил Дивайзис. – Ведь территория окружена стеной со всех сторон, не так ли?
– Как и во всем, что касается закона о сумасшествии, лицевая сторона выглядит лучше изнанки, – сказал директор. – Но практически мы своего рода стеной окружены. Когда-то тут был помещичий дом с огороженным парком. А одно время – в восемнадцатом веке – тут помещалась школа для мальчиков.
Он показал им из окна над крышами служб пределы сада и фермы за ними, спускающихся к ручью и отделенных от дороги стеной, а также старыми дубами и терновником.
– Лично я, – сказал директор, – признаю необходимость кардинальнейших реформ в самое ближайшее время.
– Хотелось бы знать, не может ли пролить свет на это кузен Уиджери, – сказал Дивайзис.
– Уиджери?
– Вчерашний посетитель.
– Разве? – сказал директор и подошел к своему столу словно за какой-то бумагой. – Насколько помнится, фамилия была другая. Что-то вроде Гудчайлд. Но, возможно, я спутал.
– Мистер Сэм Уиджери, – сказала Кристина-Альберта, – ни в коем случае не захотел бы, чтобы папочка выбрался отсюда. Вероятно, он приезжал удостовериться, что его не собираются выпустить. Или просто чтобы позлорадствовать. Дядя Сэм не очень милый человек. Возможно, он хотел убедиться, что в стене нигде нет проломов.
Директор забыл свои сомнения о фамилии, перестал искать бумагу и обернулся к ним, осененный новой мыслью.
– А вы не думаете, что тут действует вражда? Вы не думаете, что он отправился свести счеты с мистером Уиджери? Где живет этот мистер Уиджери?
Но и Дивайзис, и Кристина-Альберта не думали, что мистер Примби мог вернуться в Вудфорд-Уэллс.
– Куда вероятнее, что он отправился в Кентербери, или в Виндзор, а то и прямо в Рим, – сказала Кристина-Альберта.
– Или в Месопотамию… или в Британский музей, – сказал Дивайзис.
– Да куда угодно, – сказала Кристина-Альберта с нотой отчаяния.
Они вернулись в Лондон в полной растерянности. Кристина-Альберта хотела отправиться в полицейский участок Каммердауна, настаивать на поисках в окрестных деревнях, но Дивайзис объяснил, что это может принести больше вреда, чем пользы. До этого момента Кристина-Альберта ничего не знала о единственной доброй слабости в английских законах о сумасшествии – о последствиях четырнадцати дней на свободе. Если сумасшедший сбегает из приюта и остается на свободе указанный срок, он (или она) становится вновь здоровым в глазах закона и не подлежит возвращению в приют без нового осмотра и нового медицинского заключения. Если вся округа начнет разыскивать Примби, это может завершиться его насильственным возвращением в приют. И что бы ни произошло, тайна ни в коем случае не должна попадать в газеты.
– Но пока мы ничего не делаем, он может лежать мертвым в какой-нибудь яме в стороне от дороги, – сказала Кристина-Альберта.
– Если он мертв, то ему все равно, если его отыщут не сразу, – сказал Дивайзис.
Да, оставалось только ждать в Лонсдейлском подворье на случай, если он вернется туда. Крамы отбыли в Шорем, и Кристина-Альберта осталась в студии одна, но после первого бесконечного дня Пол Лэмбоун вспомнил про агентство под названием «Всеобщие тетушки», и оттуда прислали подходящую даму, чтобы ей не приходилось бдеть там круглые сутки.
Прошел день, второй, третий. Саргон не подавал признаков жизни – ни нового созыва учеников, ни визитов к королю. Он испарился. Образ маленького изуродованного тела в яме сменился в лихорадящем воображении Кристины-Альберты его муками в глухой одиночке. Но рассудок гонит тяжелые фантазии, которые ни к чему не ведут, и воображение Кристины-Альберты вскоре перестало заниматься ее папочкой до поступления новой пищи. «Так или иначе, он найдется», – повторяла она неуверенно и принялась усердно читать вечерние газеты. Ее снедал страх, как бы он не нашелся под слишком уж сенсационными заголовками. Подобно ранним христианам она начала готовиться ко Второму Пришествию. Загадка исчезновения папочки превратилась в умственную привычку, превратилась, так сказать в рамку, в арку просцениума, обрамляющую заботы дня. Под ее сенью она вернулась к неотложной, необычайной проблеме самой себя и своих отношений с Дивайзисом.
12
Было очевидно, что их взаимное открытие волнует его почти также, как ее. Возможные деяния Саргона, которые, когда они вышли бы на свет, могли оказаться самыми фантастическими, для него, как и для нее, сохраняли первостепенную важность, но мысль об этой нежданной кровной связи полностью заслоняла даже их. Обоих обуревала взаимная потребность встретиться, обнаружить, какая магия симпатии и понимания может таиться в их родстве.
Вечером после водворения в студии Всеобщей Тетушки Дивайзис пригласил Кристину-Альберту пообедать с ним в приятном итальянском ресторанчике в уголке Слоун-сквер, а потом вернулся с ней в студию, и они проговорили почти до часа ночи. Стеснительно, но с заботливой настойчивостью он старался узнать ее намерения, ее цели в жизни, ее занятия, понять, что можно сделать, чтобы ее способности полнее раскрылись. Он очевидно был склонен взять на себя всю родительскую ответственность, какая была в его возможностях, при сохранении полного декорума и так, чтобы не поранить самоуважение исчезнувшего Саргона. Она его привлекала и нравилась ему. Ее чувства к нему были более бурными, сильными и неопределенными. Она не особенно хотела его помощи или поддержки. Мысль о какой бы то ни было зависимости от него скорее отталкивала ее, чем прельщала, но она хотела завоевать его, понравиться ему, оправдать его ожидания, быть лучше, чем он думал, и по-особому интересной. Она хотела, чтобы он питал к ней симпатию… нет, чтобы она была ему дорога. Она хотела этого с тревогой и трепетом.
Ей нравилась доверительная непринужденность, с какой он обходился с официантами, таксистами и им подобными. Казалось, он точно знал, как поступят люди, а они, казалось, точно знали, как поступит он, и все обходилось без нервного напряжения, без «кха-кха». Эти общие атрибуты привычной состоятельности были так мало ей знакомы, что представлялись его особым достоинством; и они создавали впечатление, будто он владеет ситуацией и безмятежно направляет разговор, тогда как на самом деле им владело почти такое же любопытство и душевное волнение, какие испытывала она сама, и он тоже действовал наугад. Глаза, которые встречались с ее глазами, пока она говорила, были внимательными, дружескими, заинтересованными, ласковыми, и они покоряли ее сердце.
За обедом он вначале говорил о музыке. Его воспитание музыки не включало, и теперь он открыл ее для себя. Один друг водит его на концерты, и он обзавелся пианолой, «чтобы сначала проводить домашнюю подготовку». Но воспитание Кристины-Альберты музыки тоже не включало, и она еще не открыла ее для себя. Так что эта тема вскоре иссякла. Он испробовал картины, но опять-таки особого интереса у нее не вызвал. Они помолчали.
Он поглядел на нее и улыбнулся.
– Мне бы хотелось задавать вам всяческие вопросы, Кристина-Альберта, если бы у меня хватало смелости, – сказал он.
Она покраснела – так глупо!
– Спрашивайте о чем хотите, – сказала она.
– Колоссальные вопросы, – сказал он. – Например, в общем, на что вы настроены?
Она сразу поняла, но не была готова ответить и уклонилась.
– Настроена! – повторила она, выигрывая время. – Полагаю, искать моего пропавшего папочку.
– Нет, но вообще? Что вы делаете со своей жизнью? К чему стремитесь?
– Сама не знаю, – сказала она наконец. – Как, полагаю, и многие из моего поколения. Особенно девушки. Вы старше меня. Я ведь только начинаю. Не хочу быть нахальной, но ведь вам легче сказать, на что настроены вы? Почему бы… – Ее чуть испуганная серьезность исчезла в задорной улыбке, которая пришлась Дивайзису очень по вкусу, – почему бы первый ход не сделать вам?
Он взвесил ее слова.
– Вполне по-честному, – сказал он. – Я вам отвечу. Возьмите еще маслину. Я рад, что вам нравятся маслины. Я их тоже люблю. Меня уже очень давно никто не призывал к отчету. Так в чем моя игра? Честный вопрос. – Но, видимо, не из легких. – Полагаю, начать следует с моей философии, – сказал он. – Долгая история. Но идею подал я.
Кристина-Альберта возрадовалась тому, как успешно увернулась от допроса. Вместо того чтобы демонстрировать себя, она может наблюдать за ним. И она наблюдала из-за вазы с цветами, так что официанту пришлось дотронуться до ее локтя, когда он подавал ей фазана.
– Так с чего начать? – И он начал. Она слышала о прагматизме? Да. Вероятно, в этой области она была более начитана, чем он. Ну, так он, видимо, своего рода прагматик. Большинство современно мыслящих людей, по его убеждению, прагматики, так, как он это понимает.
Прагматики? Как он это понимает? Он встретил ее взгляд и объяснил. Понимает он это так: мы – никто из нас – не видим реальность ясно; быть может, в лучшем случае кому-то удается приблизиться к реальности. То, что мы воспринимаем – это лишь та часть реальности, которая достигает нас через наши весьма убогие способности к ее интерпретации.
– Отличный фазан, – прервал он себя. – Ради него мы должны заключить три минуты перемирия. Я говорю не слишком бестолково? Боюсь, что…
– Нет, я понимаю, – сказала Кристина-Альберта.
– Быть может, я начал слишком уж издалека.
– Фазан…
– Вернемся к моему кредо, – сказал он вскоре. – Но помните, Кристина-Альберта, потом настанет ваш черед.
– Оно будет не таким четким, как ваше, – сказала она. – И я украду кое-что из вашего. Но продолжайте… рассказывать мне.
– Ну, держитесь, Кристина-Альберта. Чувствую, что я буду одновременно и расплывчатым, и сжатым. И я не уверен, что вы знаете, а чего нет. Если я скажу, что в отношении природы вселенной, ее начала и конца, я агностик, это вам о чем-нибудь говорит?
– Именно то, что думаю я, – сказала Кристина-Альберта.
– Итак… – Он начал заново и запутался в отступлениях. Затем появилось мороженое «Мельба» как отвлечение и возможность для нового начала. Он развернул передней видение мира, как он представляется психологу – которое ей показалось своеобразным, но привлекательным. Он пользовался языком мыслей и понятий. Она привыкла к языку, выражающему все через труд и материальную необходимость. Жизнь, сказал он, это непрерывность, все в жизни взаимосвязано. Он попытался проиллюстрировать это. Сознательная жизнь большинства низший животных была крайне индивидуальной – ящерица, например, была просто самой собой, просто сочетанием своих инстинктов и потребностей; она не получает знаний и традиций и ничего не передает себе подобным. Но высших животных учат, пока они юны; они приобретают знания, и учат других, и общаются между собой. И люди – гораздо больше всех остальных животных. Они создали пиктографию, речь, устные традиции, научные записи. И теперь существует общее сознание расы, огромный и все возрастающий конгломерат знаний и истолкований.
– Люди вроде нас – это просто его срезы. Мы индивидуально приобщаемся к нему, реагируем на него, чуть-чуть изменяем и исчезаем. Мы лишь преходящие фазы этого растущего сознания, которое, насколько нам дано судить, может быть бессмертным. Вам это кажется абракадаброй – или просто чушью?
– Нет, – сказала она. – По-моему, я улавливаю суть. – Она взглянула на его сосредоточенное лицо. Нет, он вовсе не снисходил до ее уровня, а просто старался открыть ей себя, как умел. Он говорил с ней, как с равной. Как с равной!
То была его общая философия. А теперь он переходит к вопросу о себе самом, сказал он. Над чашечками с кофе и пепельницей на обмахнутой скатерти он стал очень серьезным. Поясняюще жестикулировал. Был старательно ясным. Себя он видит в двух фазах или, пожалуй, на двух уровнях бытия. Примерно двух. Разумеется, между ними существуют связи и промежуточные стадии, но, формулируя идею, их можно отбросить. Во-первых, он – древний, подчиняющийся инстинктам индивид – боязливый, жадный, похотливый, завистливый, нахрапистый. Это первичное эго. Он должен заботиться об этом первичном эго, потому что оно несет все остальное его составляющее – как всадник следит, чтобы его лошади задали овса. Глубже лежат общественные инстинкты и склонности, порожденные семейной жизнью. Это второе эго, общественное эго. Человек, изрек он, это существо, которое становилось все более и более сознательно общественным за последние двести – триста тысяч лет. Он удлинял свою жизнь, удерживал своих детей при себе все дольше и больше, расширил свою общность от семейных орд до кланов, и племен, и наций. Глубоко заложенная непрерывность жизни становилась все более очевидной и находила все более и более конкретное выражение в этом преобразовании человека в общественное существо. Воспитывать кого-то в истинном смысле слова – значит пробуждать в нем все большее и большее осознание этой непрерывности. И важность эго лихорадочных страстей тогда уменьшается. Истинное воспитание и образование – это самоподчинение более великой жизни, общественному эго. Естественные инстинкты и ограниченность первичного эго находятся в противоречии с этим более широким скрытым потоком, образование – хорошееобразование – накладывают на них узду.
– И я, – сказал Дивайзис, – как и мы все, существо, раздираемое внутренним противоречием: более быстрые, яростные смертные инстинкты борются с более глубоким, спокойным, менее ярко озаренным, но в конечном счете более сильным устремлением к бессмертным целям. И я… как бы это выразить?.. лично я, насколько могу, поддерживаю более глубокое. Мои склонности, характер и стечение обстоятельств привели меня к психологии как профессии. Я тружусь, чтобы внести свою лепту в накопленные знания о человеческом сознании, в его понимание. Я работаю во имя просвещения. Моя конкретная работа – изучать и исцелять больные, смятенные сознания. Я пытаюсь приводить их в порядок, распутывать, просвещать. Но главное – я стараюсь учиться у них. Я ищу физические или душевные причины их расстройства. Я пытаюсь излагать как могу яснее и доступнее все, что я наблюдаю и узнаю. Это моя работа. Это моя цель. Она определяет направление моей жизни. Ей я стараюсь подчинить все связанное с моим индивидуальным существованием. Но удается это мне не всегда. Индивидуальная обезьяна во мне иногда вырывается наружу и гримасничает на крыше. А иногда ее общество очень приятно, дает передышку от переутомления. Тщеславие и радости плоти приносят свою пользу. Но пока оставим обезьяну. Я не хочу быть блистательной личностью, я хочу быть жизненно-важной частью. В этом мое кредо. Я хочу быть колесиком в механизме, которое называют специалистом-психологом. Вот на что я настроен, Кристина-Альберта, выражаясь в общем. Вот что я, по-моему, такое.
– Да, – сказала Кристина-Альберта в глубоком размышлении. – Конечно, я не способна дать такой отчет. У вас есть своя система. Полная.
– И законченная, – сказал Дивайзис. – Свою историю вы должны рассказать по-своему. В вашем возрасте… все ваши убеждения должны быть в подвешенном состоянии.
– Не знаю, есть ли у меня история, чтобы рассказывать.
– Во всяком случае, попытайтесь. Так будет по-честному.
– Да.
Наступило короткое молчание.
– Просто замечательно вот так разговаривать с вами, – сказала Кристина-Альберта. – Просто замечательно, что с кем-то можно разговаривать так.
– Я чувствую, что вам и мне… необходимо понять друг друга.
На мгновение она встретила его серьезный взгляд. Ее захлестнула волна чувств. Она не могла говорить, и только протянула руку к его руке, и на мгновение их руки соприкоснулись.
13
Изложить свой символ веры Кристине-Альберте пришлось уже в студии, после того как они вернулись туда и отпустили Всеобщую Тетушку. Но даже и тогда приступили они к этому не сразу. Дивайзис прохаживался по студии, рассматривая рисунки Гарольда. И определил по ним характер Гарольда с удивительной верностью, решила Кристина-Альберта. Его заинтересовала Фей.
– А миссис Крам какая? – спросил он. – Покажите мне что-нибудь ее личное. Что-нибудь, в чем бы она выражалась.
Кристине-Альберте было очень приятно думать, что он с нею так робок. Ей это казалось признанием их равенства. Он ее уважал, а ей так хотелось, чтобы он ее уважал!
Наконец он бросил якорь в ярко-размалеванном кресле у газового камина; и Кристина-Альберта, попорхав по комнате, встала перед камином, широко расставив стройные ноги и заложив руки за спину, в позе, которая глубоко шокировала бы ее предков женского пола на много поколений в глубь веков. Но Дивайзис шокирован не был. Ему становилось все интереснее и интереснее наблюдать за ней, он откинулся в кресле и смотрел на нее с живым восхищением. В подавляющем большинстве мы привыкаем к нашим дочерям мало-помалу, и когда они вырастают, легко выдерживаем тяжесть заключенного в них чуда, как Милон – тяжесть быка, которого взвалил на плечи впервые еще маленьким теленком. Не так уж часто мужчина внезапно обретает неизвестную дочь двадцати одного года.
Она сказала, что в метафизике особенно не разбирается; она материалистка.
– Никаких молитв у колен мамочки? Религия мамочки и папочки? Школьные молитвы и наставления? Церковь или молельня?
– По-моему, все это смывалось и выцветало сразу же.
– И никакого страха перед адом? Все мое поколение прошло через страх перед адом.
– Ни малейшего, – ответствовал Новый Век.
– Но… тоска по Богу по ночам?
Кристина-Альберта помолчала.
– Да, бывает, – сказала она затем. – Бывает, что и нахлынет. Не знаю, насколько это важно, да и важно ли вообще.
– Это, – медленно сказал Дивайзис, – связано с желанием быть чем-то бОльшим, чем просто жалким червем… с отвращением к низости… и тому подобным.
– Да. Вы знаете об этом больше?
Как ни странно, он не ответил.
– А как вы видите себя по отношению ко всему человечеству… и животным… и звездам? Какое чувство долга живет в вас? По какой вы думаете идти дороге?
– Хм, – сказала Кристина-Альберта. Она считает себя коммунисткой, сказал она, хотя в партии не состоит. Но знакома с теми, кто в ней состоит. Она произнесла несколько лозунгов: «материалистическое понятие об истории» и так далее. Он сказал, что не понимает, и задал несколько вопросов, которые вызвали у нее раздражение. Она мыслила совсем по-другому. Сперва она не осознала, насколько различна их фразеология. Это становилось все очевиднее, пока они говорили. Казалось, он не находил достаточно похвал для идеи коммунизма, разве не была она совершенно сходной с его собственной идеей быть частью чего-то большего в жизни? Однако для практики коммунизма он не находил сказать ничего, кроме самого скверного. Марксистский коммунизм, сказал он, не несет в себе ничего конструктивного. Всего лишь отдушина. В нем нет идеи, нет плана. Кристина-Альберта была вынуждена защищаться.
– Восторженное отношение к идеальному коммунистическому государству далеко не так важно, как вопрос о конкретной коммунистической тактике в разлагающемся обществе, – продекламировала она почти официальным тоном. Так говорили ее молодые друзья, состоящие в партии. Но в разговоре с ним это выглядело не столь эффективным. Он цеплялся к каждой ее фразе. Он хотел узнать, что именно она подразумевает под разложением общества, и было ли когда-нибудь общество, не разлагавшееся активно и одновременно столь же активно развивавшееся? И что такое хорошая тактика вне обшей стратегии? И может ли вообще существовать стратегия без ясной цели окончания войны? Она возражала с большим жаром, чем убедительностью, и в их тоне появилась ожесточенность.
Он нажимал на различия в их мнениях. Для него коммунизм означал новый дух, дух научного преобразования мира по общей научной схеме, а партийный коммунизм по самой своей сути опирался только на сегодня. Он был перенасыщен чувствами и идеями нынешних социальных классов, естественным недовольством обездоленных. В нем был сердитый догматизм отчаявшихся людей, неуверенных в своей силе. Ему не хватало страсти творческого самозабвения. Многие коммунисты, сказал он, просто капиталисты наизнанку, эгоисты без капитала; они жаждут мести и экспроприации, а когда добьются своего, то останутся лишь с развалинами общества и необходимостью начинать все сначала. Они подозрительны и нетерпимы, потому что в них нет внутренней уверенности. Они не доверяют своим лучшим друзья, которые могли бы стать их истинными вождями, ученым вроде Кейнса и Содди.
– Кейнс – коммунист! – язвительно воскликнула Кристина-Альберта. – Да он же не признает первейший научный факт классовой войны.
– Это не такой уж и факт, и, во всяком случае, не Первейший Научный Факт, – ответил он. – Кейнс медленно создает понятие научно-организованной системы товарного обмена. Большинство ваших приятелей в России как будто неспособны даже понять, насколько такая вещь необходима!
– Но они понимают!
– И как они это показали?
– Да что вы знаете о русских большевиках?
– А что о них знаете вы? Просто смотрите на ярлычки на людях. Ничего подлинного без красного ярлычка, а с ним – все подлинное.
Она сказала, что он видит все с «буржуазной» точки зрения, а он весело посмеялся ее понятиям о социальных классах. В Англии нет буржуазии, – сказал он. Она пустила в ход кое-какие стандартные сарказмы и эпатажные аксиомы своих коммунистических друзей, но с необычным для нее отсутствием убежденности. Ему легко критиковать, сказала она, ведь он живет на проценты с вложенного во что-то капитала.
– Так было бы легче! – Он улыбнулся. – Но я живу на свои гонорары.
– У вас есть капитал!
– Небольшой. Но я живу не на него.
На время спор угас. Она решила, что все-таки сражалась неплохо, учитывая ее возраст и положение. Жар раздражения остыл, и они перешли к более конкретному интересовавшему их вопросу – вопросу о том, как она намерена распорядиться своей жизнью.
14
– Мы прогрессируем, Кристина-Альберта, – сказал Дивайзис, – но все еще в силе правило, что жизнь женщины очень во многом детерминируется характером и занятиями… ведущего актера в спектакле. Вы уже бывали влюблены?
Ей хотелось рассказать ему о себя всю правду, но есть вещи, рассказывать о которых невозможно. Она замялась и густо покраснела.
– В наши дни… – сказала она и осеклась. – У меня есть воображение. Я пожила в Лондоне. Может быть, мне почудились.
На мгновение его взгляд стал пронзительным, оставаясь ласковым.
– Я была влюблена… в определенном смысле, – призналась она.
Он кивнул, и она испугалась: он, казалось, понял все.
– Я не хочу ставить мою жизнь в зависимость от мужчины, – пояснила она.
– Да, умные девушки этого никогда не хотят. Не больше, чем умные молодые люди хотят тратить свою жизнь на поклонение какой-нибудь богине.
– В любом случае я не представляю себя в роли рожающей детей домашней прислуги, – сказала она.
– Даже в браке. Да, я сомневаюсь, что это в вашем характере. Но если вы намерены отвергнуть этот легкий жизненный путь – а он легкий, чтобы ни говорили люди, – если вы намерены стать такой же самостоятельной, как мужчины, вам нужно заняться мужской работой, Кристина-Альберта. И уж тогда никаких душечек Фанни!
– Я?! – спросила Кристина-Альберта.
– Нет, не думаю. И в таком случае, мне кажется, вам необходимо пополнить свое образование. Вы умны, но бессистемны.
– Моего образования хватит, чтобы найти работу. И учиться дальше.
– Учиться! – сказал он. – Это займет все ваше время. Я предпочел бы, чтобы вы не отказывались остаться студенткой еще два-три года. А о материальной стороне не тревожьтесь. Мы с вами принадлежим к одному клану – состоящему практически из двух членов, – и я его глава. Я о вас позабочусь, как о сыне. Ну, а теперь, какая это будет работа? Юриспруденция? Медицина? Общее образование для журналистики или деловой сферы? Теперь для женщин открываются двери, и с каждым днем все новые.
На это Кристина-Альберта могла ответить подробнее. Кое о чем из перечисленного она думала. Ей хочется узнать о жизни и о мире в целом. Не могла бы она получить год для физики, биологии и геологии в основном, и еще антропологии? Это возможно? А тогда, если она подойдет для медицинской работы, еще год на психиатрию или политику и здравоохранение?
– Я понимаю, что это довольно много, – сказала она.
– Много! Целая энциклопедия за один год.
– Но я хочу знать все это.
– Естественно.
– А можно мне заниматься подольше?
– Вам придется заниматься подольше.
– Но не слишком ли это честолюбивое желание?
– Не слишком, будь вы в брюках. А мы согласились в такой мере сделать вас бесполой. Почему бы вам и не быть честолюбивой?
– Вы думаете, я могла бы потом вести работу… научную работу, как вы?
– Почему бы и нет?
– Девушка?
– Вы из того же теста, что и я, Кристина-Альберта.
– Выдумаете… когда-нибудь… я даже смогу работать… работать с вами?
– Родственные умы могут пойти одним путем, – сказал он, полностью признавая их родство. – Почему бы и нет?
Она глядела на него с темным волнением в глазах, и он на мгновение понял все, чем мог бы стать для нее. Она была смелой, и чудесной, и честолюбивой; из ничего в его жизнь вошло чудо. И она хотела, чтобы их отношения перешли, как они и могут перейти, в нечто очень глубокое и неизмеримо важное для них обоих.
И он заговорил о контрасте между студентами и студентками, и мужчинами и женщинами как работниками.