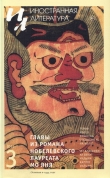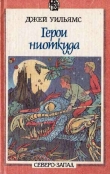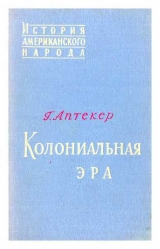
Текст книги "Колониальная эра"
Автор книги: Герберт Аптекер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Утвердив это как исходный принцип своей защиты, несмотря на то что суд много раз прерывал его и выносил противоположные решения, Гамильтон перешел к своей аргументации. Нет лучшего способа изложить эту аргументацию – кроме, конечно, пространного цитирования, невозможного из-за ограниченности места, – чем предоставить слово самому Гамильтону в тех пунктах, где он развивает свои важнейшие тезисы:
«Высокопарные речи, произносимые в честь правителей, их достоинств и вообще в поддержку власти, – все это не сможет заткнуть рты людям, когда они чувствуют себя угнетенными, – я имею в виду, конечно, при свободной системе правления.
Как в религии существует ересь, так существует она и в праве, и оба эти понятия претерпели весьма сильные изменения; мы отлично знаем, что меньше чем два столетия назад человек был бы сожжен как еретик за суждения в вопросах религии, о которых открыто говорят и пишут в наши дни. Люди того времени, видимо, не были непогрешимыми, и мы вольны не только расходиться с ними в религиозных взглядах, но и осуждать их действия и взгляды… В Нью-Йорке человек может свободно обращаться со своим богом, но должен проявлять особую осторожность, говоря о своем губернаторе.
Кому, даже наименее сведущему в истории права, неведомы те благовидные предлоги, которые часто выдвигались власть имущими с целью установления деспотического правления и уничтожения свобод вольного народа… Долг всех добрых граждан перед своей родиной – охранять ее от пагубного влияния злонамеренных людей, наделенных властью, и особенно против их ставленников и зависимых клевретов, обычно обладающих меньшим достатком и потому более алчных и жестоких.
Люди, притесняющие и угнетающие своим управлением народ, вынуждают его роптать и жаловаться, а потом используют эти жалобы как основание для новых угнетений и притеснений».
Как совершенно ясно видно из этих слов, Гамильтон понимал, что дело, в рассмотрении которого он участвует, носит чисто политический характер; он знал политические настроения народных масс Нью-Йорка. Именно поэтому он и избрал от начала до конца политический, а не формально-юридический способ ведения дела. В том же тоне он и закончил свою речь, обращенную к присяжным, и при этом сам опасно приблизился к «клевете» на достопочтенного губернатора.
«Вопрос, стоящий перед судом и вами, джентльмены-присяжные, не мелкий и не частный. Дело, которое вы рассматриваете, касается не бедного печатника, даже не одного лишь Нью-Йорка. Нет! Оно может повлечь за собой такие последствия, которые затронут каждого свободного человека в Америке, живущего под властью английского правительства. Это исключительно важное дело. Это дело о свободе… о разоблачении и противодействии деспотической власти (в наших частях мира по крайней мере) путем провозглашения истины словом и письмом».
Правительство продолжало настаивать на том, что доводы м‑ра Гамильтона не имеют никакого отношения к рассматриваемому делу, и потребовало от коллегии присяжных вынести единственный вердикт, на который она имеет право, – в свете признания обвиняемого, что он действительно печатал те отрывки, о которых шла речь, – а именно вердикт о виновности. Поступив таким образом, коллегия присяжных «поддержит закон и порядок, достоинство короны и спокойствие благостного правления его величества в нашем собственном Нью-Йорке».
Присяжные удалились и вскоре, возвратившись, объявили, что они вынесли свой вердикт. Судебный секретарь обернулся к старшине [председателю] коллегии присяжных Томасу Ханту и спросил: «Повинен ли Джон Питер Зенгер в печатании и публиковании клеветнических заявлений в вышеупомянутой информации?» Старшина тут же ответил: «Не виновен», вслед за чем, рассказывается в одном письменном свидетельстве того времени, «по залу, до отказа заполненному народом, прокатилось троекратное ура».
Когда Гамильтон на следующий день уезжал в Филадельфию, пушки всех торговых кораблей, стоявших в гавани, произвели салют, а в сентябре 1735 года муниципальный совет Нью-Йорка пожаловал ему звание вольного гражданина города. Что же касается самого Зенгера, то в 1737 году он был назначен официальным печатником колонии Нью-Йорк.
За ходом процесса следили с пристальным интересом не только во всех английских колониях, но и в Англии, и во всей Европе. В 1736 году Зенгер издал судебный отчет, и эта книга пользовалась очень широким спросом. Впоследствии вышло еще четыре издания судебных протоколов в Англии, одно – в Бостоне и одно – в Ланкастере (Пенсильвания). Изданный Зенгером отчет был вновь перепечатан в 1770 году, что явилось одним из проявлений революционного подъема того времени; как мы уже видели, в 1770‑х годах были переизданы также и сочинения Джона Уайза.
Эндрю Гамильтон, конечно, совершенно правильно оценивал историческое значение оправдательного вердикта. Он утвердил прецедент для принципа, что при судебном преследовании за клевету коллегия присяжных обязана судить не только о фактах, но и о законе, то есть что истина является убедительным опровержением обвинения в клевете. Многозначительная связь этого принципа с той борьбой, которая велась за свободу слова и печати и в целом за демократические порядки против тирании, совершенно очевидна.
Хотя дело Зенгера и послужило прецедентом, само по себе оно, конечно, еще не утвердило такого истолкования закона. Напротив, потребовалось еще несколько поколений, прежде чем перемена оказалась принятой. Только в 1784 году выдающийся английский юрист Томас Эрскин успешно использовал аргументацию Гамильтона в одном деле о клевете; в форму же закона принцип был облечен парламентом лишь в 1792 году, а в Соединенных Штатах, на большей их части, еще позднее.
V. Ересь, свобода и массы
Примечательным фактом, заслуживающим особого внимания, является то, что еретические и раскольнические – как в религиозном, так и в политическом плане – движения, составляющие столь значительную часть колониальной истории, – Роджер Уильямс, Анна Хатчинсон, Джон Уайз, «ведьмы», квакеры, сторонники «нового просвещения», бунтовщики вроде Зенгера, – все они находили массовую общественную поддержку и многочисленных приверженцев и сочувствующих, несмотря на связанные с этим тяжелые кары2.
В этой связи заметим, что профессор Росситер совершенно неправ, когда, хотя и в согласии с взглядом, выраженным в большинстве исторических исследований, посвященных данной теме, он заявляет (во введении к своему труду «Пора посева семян республики»), что «проповедники, купцы, плантаторы и юристы – вот кто олицетворял собой дух колониальной Америки». Перечисленные элементы действительно составляли в целом образованные слои этого общества, но и массы рабов, слуг, рабочих, ремесленников, кустарей и йоменов также являлись духовной силой колоний, их умы были полны идей, и притом таких, которые часто разнились от идей тех, кто стоял «выше» их. Идеи масс находили выражение обычно в формах деятельности, отличных от книгопечатания, но от этого они не становились менее реальными. Больше того, как свидетельствует жизненный путь таких личностей, как Уильямс, Хатчинсон, Уайз, Зенгер, они находили выражение также в поддержке, если не в пробуждении (как это бывало порой), прогрессивных идей, возвещенных представителями революционной интеллигенции данного периода.
Глава 10. НОВАЯ НАЦИЯ В НОВОМ СВЕТЕ
Колониальный период достиг своего апогея в национальной революции. Совершенно очевидно, что необходимой предпосылкой такой революции являлось существование нации; в данном случае новой нацией, утверждавшей свое право на самоопределение, была американская нация.
По сей день, однако, имеется ряд выдающихся мыслителей, в том числе и американских, которые придерживаются мнения, что Соединенные Штаты не являются нацией. Например, Джон Герман Рэндол в своей статье «Дух американской философии», опубликованной в коллективном сборнике «Источники американского духа» (1948 год), настаивает на том, что Соединенные Штаты «являются континентом, а не нацией» и что поэтому «истинную сущность нашей истории» составляют региональные и групповые противоречия и конфликты, а вовсе не какая-то национальная ткань, в которой можно проследить отдельные образующие ее нити и различить узор.
На мой взгляд, те, кто придерживается подобного мнения, заблуждаются; они смешивают сложное, специфическое и многообразное с коренными противоречиями (хотя нельзя отрицать, что групповые противоречия играли весьма значительную роль в истории США). Дело не только в том, что Соединенные Штаты представляют собой нацию в середине XX столетия; основа американской национальности была заложена тринадцатью колониями уже к середине XVIII столетия, а по прошествии двадцати последующих лет своего созревания они смогли уже объединиться и утвердить свое право на национальное существование на поле брани.
I. Корни нации
Процесс складывания американской нации покоился на двух столетиях общего и неповторимого опыта. Эта нация явилась плодом двух столетий совместной жизни и деятельности, покорения природы, тесного общения на американской почве и резкой обособленности от Европы, существования в условиях новой фауны, флоры и климата, борьбы с индейцами, колониального статуса и крепнущего противодействия этому статусу, непрестанного покорения диких мест, – что в свою очередь еще более отдаляло многих американцев (таково было их особое и общее наименование уже к концу XVII столетия) от Европы и в еще большей мере приковывало их внимание к проблемам и условиям, специфическим для них самих.
Процесс отчуждения от Европы носил диалектический характер. Дело не ограничивалось тем, что американцы испытывали чувство единства между собой, проистекавшее из их удаленности от Европы; играл роль и тот факт, что англичане в свою очередь считали Америку чуть ли не другой планетой. Такие люди, как Босуэлл и Джонсон, признавались друг другу в конце 1760‑х годов, что они ровным счетом ничего не знали об Америке, а Джонсон выдал свое невежество, заявив что Америка – это обитель «варварства». Даже англичане, профессионально занятые Америкой, и те обнаруживали ужасающее невежество в том, что касалось Нового света. К примеру, Торговая палата – главный административный орган по делам колоний – вследствие своих ошибочных представлений сама вносила в разные времена немалую путаницу в издаваемые ею распоряжения; так, например, она полагала, что Перт-Амбой находится не в Нью-Джерси, а в Вест-Индии, что Виргиния представляет собой остров или что конфедерация индейских племен, известная под названием «Шести народов», обитала в Вест-Индии. Больше того – в Англии вообще считали обычно, что тринадцать колоний составляют часть Вест-Индии, и один учебник географии1, выпущенный Оксфордским университетским издательством (и, как гласил его подзаголовок, «предназначенный для употребления юными студентами в университетах»), содержал главу, так и озаглавленную – «Об Америке, или Вест-Индии».
Не удивительно, что колонии постоянно испытывали нужду в представителях, имевших более или менее постоянную резиденцию в Англии, так что к 1760‑м годам такой представитель, как Бенджамин Франклин, приобрел все отличительные черты посла, представляющего одну страну в другой.
Осознание наличия коренного расхождения интересов между самими колонистами и английскими правителями, владычествовавшими над колониями, очень рано привело к подозрениям, предостережениям и страхам, что с развитием колоний колонисты вырвутся на свободу и утвердят свою независимость. Джеймс Гаррингтон в своем весьма влиятельном произведении «Республике Осеана» («Commonwealth of Oceana»), опубликованном в 1656 году, писал, что американские колонии – «пока еще младенцы, неспособные жить без того, чтобы сосать грудь городов своей матери-метрополии, но я не сомневаюсь, что по достижении совершеннолетия они сами оторвут себя от этой груди».
Та же мысль и даже тот же образ многократно возникают и в позднейшей английской литературе. Так, один памфлет, датированный 1707 годом (автором его был выдающийся ботаник Неемия Грю), предостерегал, что «когда население колоний станет многочисленным, а развитие в них ремесел и наук сделает их сильными», то они, «забыв о своем родстве с метрополией, [могут] объединиться в союз и помышлять только о том, какими средствами им поддержать свое честолюбивое стремление стоять на собственных ногах». Та же мысль содержится и в одном из пользовавшихся большой популярностью «Писем Катона» 1722 года: «Ни один звереныш не сосет сосков своей матери дольше, чем он может извлекать из них молоко… Так и ни одна страна не станет хранить покорность другой только оттого, что их бабушки были знакомы между собой».
Сэмюэль Джонсон писал в 1756 году на страницах «Литерари мэгезин» о «страхе, что американские колонии покончат со своей зависимостью от Англии», хотя дальше он выдал свое невежество, развеяв этот страх как «химерический и суетный».
Оливер Голдсмит в «Гражданине мира» (1762 год) предостерегал, что колонии становятся настолько многолюдными и настолько могущественными, что сохранение их подчинения Англии маловероятно, ибо: «Колонии должны всегда быть строго соразмерны своей метрополии; когда же они становятся многолюдными, они становятся и могущественными, а становясь могущественными, они становятся также независимыми; таким-то образом подчинению приходит конец». Сходным образом один француз, посетивший колонии в 1765 году, уже в ту пору писал о них как о чем-то едином и выражал уверенность, что «эта страна не может долго оставаться подчиненной ни Великобритании, ни какой-либо другой отдаленной державе». Это он считал совершенно очевидным, ибо «размеры страны столь велики, каждодневный прирост ее населения столь значителен (и она обладает всем необходимым для собственной защиты и даже больше, чем для защиты), что нет ни одной нации, которая казалась бы более предназначенной для независимости».
В подобном духе писал два года спустя Бенджамин Франклин, проживавший тогда в Англии, обращаясь к лорду Кеймсу. В письме этом ясно различимо также острое национальное чувство, получившее выражение и в гневном обличении английского высокомерия по отношению к колониям и в нескрываемой гордости, с какой Франклин говорил об отличительных чертах своей родной страны.
«В Англии, видимо, каждый считает себя носителем ее суверенитета над Америкой [писал Франклин] – никак не меньше; кажется, что он хотел бы втиснуться на трон и сесть там рядом с королем, когда он толкует о наших подданных в колониях… Но Америка, эта громадная территория, щедро наделенная природой всеми преимуществами климата, почв, великих судоходных рек, озер и т. д., непременно станет великой и могучей страной с многочисленным населением; и гораздо раньше, чем обычно предполагают, она сможет скинуть с себя любые оковы, а возможно, и заключить в оковы тех, кто сейчас ее в них держит».
Больше того, еще в 1755 году 20‑летний Джон Адамс писал одному своему другу, что, вероятно, «главный центр империи» переместится-таки в Америку. «Это представляется мне весьма правдоподобным», – заявил он, – стоит лишь нам избавиться от французской угрозы, ибо очевидно, что «наш народ… в следующем столетии превзойдет по численности самое Англию. А если дело обернется таким образом, – продолжал он, – то, поскольку в наших руках, я вправе утверждать, находятся все материалы, необходимые для оснащения флота нации, нам легко будет добиться владычества на море; а тогда уже объединенные силы всей Европы не смогут нас покорить». И юный Адамс писал далее в своем замечательном письме: «Единственный способ помешать нам подняться в свою защиту, так это разъединить нас. Divide et impera[26]26
Разделяй и властвуй (лат.). – Прим. перев.
[Закрыть]. Держать нас в обособленных колониях…»
И надо сказать, что именно такое наставление давали наиболее проницательные деятели английской колониальной администрации. Так, Томас Паунэлл, который в 1750 году занимал пост секретаря губернатора Нью-Йорка и сам был губернатором Массачусетса, а затем Южной Каролины, утверждал в своем основном труде «Управление колониями» (1764 год), что «для сохранения империи необходимо держать их [колонии] разобщенными и независимыми друг от друга».
II. Попытки объединения
И в то же самое время ряд административных проблем толкал Англию на путь попыток объединения аппарата колониального управления. Усилия эти предпринимались с целью урезать местную автономию, склонную поощрять сепаратизм и мягкое применение законов; в то же время они представляли собой откровенную попытку сделать свое господство над колониями и более действенным и экономически более выгодным. Первые шаги в этом направлении восходят еще к XVII столетию – здесь следует назвать попытку объединения, предпринятую в правление Андроса, – и тянутся по крайней мере до конгресса в Олбани 1754 года, где, однако, налицо уже явные признаки большей инициативы со стороны самих колоний.
Дело в том, что в данном вопросе был переплетен целый комплекс мотивов и чувств. Колонии склонны были отвергать любую попытку объединения, которая казалась подсказанной английскими интересами, из страха, что усиление централизации будет означать и усиление тирании. В то же время ряд общих интересов связывал колонистов воедино, на почве чего многократно выдвигались предложения организационного единства (выдающимся примером этого рода являются взгляды Бенджамина Франклина), но тут уже англичане, несмотря на то что они, казалось, выступали в пользу централизации и даже настаивали на ней, обычно занимали враждебную позицию. Во всех случаях решает сущность, а не форма.
На протяжении всей колониальной истории, несмотря на ревностное стремление колоний к самостоятельности, существовала также постоянная тенденция к единству и сотрудничеству, являющаяся одновременно и проявлением и источником процесса роста нации. Особенно справедливо это, как мы уже отмечали, в отношении массовых революционных и повстанческих движений колониального периода. Факт этот настолько поразителен, что Чарлз М. Эндрюс во введении к своей бесценной коллекции – «Рассказы о восстаниях» – заметил: «Нельзя изучать восстания как нечто целое, не подметив взаимной зависимости одной колонии от другой». Так, в беспорядках, происходивших на территории Северной Каролины (в Олбемарле) принимали участи жители Новой Англии; в рядах участников движения Бэкона мы видим колонистов из Северной Каролины; волнения в Виргинии и Мэриленде во всех своих проявлениях характеризовались совместной активностью населения обеих колоний; восстание Лейслера вызвало переписку и взаимное общение его сторонников с жителями Массачусетса, Мэриленда и Коннектикута; и именно бостонские приверженцы Лейслера добились от парламента снятия с него обвинения в государственной измене.
С ростом колоний развилось крепнущее чувство не только самостоятельности, но и независимости. Появились дороги, связывавшие вместе колонии, а к 1739 году отличные почтовые тракты шли от Портсмута (Нью-Гэмпшир) до Чарлстона (Южная Каролина). Было очень много случаев взаимных посещений и даже взаимных браков жителей различных колоний; имели место также многочисленные случаи переезда из одной колонии в другую, так что вовсе не считалось чем-то необычным, когда члены той или иной семьи в течение одного лишь десятилетия проживали в двух или даже трех колониях и все-таки чувствовали себя жителями чего-то, являвшегося действительно единым – являвшегося американским.
Начиная с Гарвардского университета, основанного в 1636 году, и колледжа Вильгельма и Марии, открытого в 1693 году, во всех колониях возникли университетские колледжи, построенные по образцу английских; однако в силу условий, специфических для колоний, «уже к середине XVIII столетия, – пишет Ричард Гофштадтер, – сложилась американская система университетского образования, отличная не только от английских образцов, с которыми американцы были лучше всего знакомы, но и от всех иных существовавших где-либо в мире»2.
К этому времени в колониях действовал уже ряд других университетских колледжей, помимо двух первых ласточек; среди них надо назвать Иейльский (1701 год), Принстонский (1746 год), колледж короля (1754 год, позднее Колумбийский), Филадельфийский (1755 год, позднее Пенсильванский университет), Браунский (1764 год), колледж королевы (1766 год, позднее Ратгерзский) и Дартмутский (1769 год). В каждое из этих заведений стекались студенты не только из непосредственной округи, но и из соседних и даже отдаленных колоний, так что растущие слои американской интеллигенции с первых шагов своей учебы опирались не только на местный опыт.
Был основан ряд профессиональных и культурных организаций, вроде Американского философского общества и Американского медицинского общества. Оба они объединяли активных членов, рассеянных от Джорджии до Новой Англии, которые переписывались между собой и посещали друг друга3.