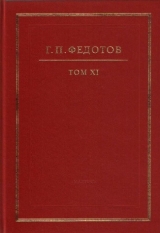
Текст книги "Русская религиозность. Том XI"
Автор книги: Георгий Федотов
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 54 страниц)
для создания монашеской общины как фундамента одного только образа уничиженного Христа недостаточно. В нем содержатся элементы, могущие оказать разрушительное влияние на социальную организацию: смиренному и «простому» умом руководителю недостает авторитета для управления большой общиной. Это возможно лишь в узком кругу учеников. Феодосий, ощущая необходимость строгого порядка, вооружился Студийским уставом и всерьез, хотя и безуспешно пытался подчинить ему свою недисциплинированную семью. Насколько можно судить, не существовало никакого духовного родства между воинствующим зилотом Феодором, автором знаменитого устава, и кротким киевским наместником. Тем не менее, Феодосий приложил огромные усилия, чтобы подчинить себя и свою общину греческим канонам.
Об этих усилиях свидетельствуют и его проповеди, соединяющие в себе возвышенную приверженность христоцентризму и благочестие с практическими каждодневными назиданиями. Его основные богословские предпосылки уже были указаны; их применение к монашескому житию проистекает просто и непосредственно. Христос избрал нас, погибавших под тяжестью своих грехов; Он уже спас нас безо всяких наших заслуг. «Сколько любви Его излилось на нас недостойных!» Нам остается только ответить на Божественную любовь любовью. Согласно Евангелию, мы должны оставить все и следовать за Христом. Любя Его, мы обязаны соблюдать Его заповеди. Но Его заповеди – те же проявления любви. Исполняя их, мы, по слову Его, можем прославить Его Отца (Иоан. 15, 8). «Кто не удивится, возлюбленные, как Бог прославляется делами нашими?» В этом душевном состоянии нет места печали и унынию. Мы призваны радоваться и благодарить Господа. Преисполненные радости, мы идем в храм, чтобы молиться. Эта духовная радость, однако, не исключает духа покаяния, оплакивания своих грехов.
Христианская любовь не знает границ и требует активных дел для облегчения страданий. Настаивая на непрестанной молитве «за весь мир», Феодосий первым долгом монаха полагал помощь «убогим». Он далек от избранного им образца – автора Студийского устава, писавшего в назидание будущему игумену:
«Не должно тебе раздирать душу и сердце в заботе о чужих, но только о тех, кого Бог вручил тебе, а я передал – духовных детях и братии. Не смей посягать на имение монастырское для ближних по крови, или для родственников, друзей и сотоварищей… ибо ты не от мира сего и не должно тебе болеть за долю тех, кто в сем мире».
Не таков Феодосий: опираясь на Божественный, а не на человеческий авторитет, он неожиданно говорит властно, преподавая наставления о милосердии:
«Ныне же я, недостойный, по завету благого Владыки, се вещая вам: прилично было бы нам от трудов своих кормить убогих и странных, а не оставаться в праздности, не переходить из келии в келию. Вы слышали слова Павла: „Ни у кого я не ел хлеба даром, но занимался трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас" (2 Фес. 3, 8); и еще: „Праздный да не ест" (2 Фес. 3, 10). А мы ничего такого не совершили. И если бы не постигла нас благодать Божия и не кормила нас чрез боголюбивых людей, что сделали бы мы, смотря на свои труды?»
Проповедник отвергает аргументы в защиту молитвы как особого призвания, о пользе духовного разделения труда, столь естественно принятого как на Востоке, так и на Западе. «За наши молитвы, посты и бдения приносят вам все, и за всякого приносящего многажды повергаемся (в молитве)». Феодосий не хочет слышать об этой удобной теории и отвечает на нее притчей о десяти девах в толковании Иоанна Златоуста, принятом Греческой Церковью:
«Почему они названы неразумными? Ибо сохранили печать девства нетронутой, изнурили плоть постом, бдением и молитвой, но не принесли масла милостыни в светильниках своих душ и потому изгнаны были из чертога (Мф. 25, 1–13)». Очевидно, эти идеалы были слишком высоки для большинства духовных чад Феодосия. Его проповеди свидетельствуют о глубоком и горьком разочаровании: «Сколько лет прошло, и никто из вас не пришел ко мне и не спросил: как мне спастись?» Леность и заботы о временных благах – пище, отдыхе, одежде – занимают их умы. Это вынуждает наставника опускаться с духовных высот и настаивать на соблюдении более скромной добродетели, которой им явно не хватает больше всего. Это – терпение. Суть аскетизма заключается в нем.
«Вспомним первый наш вход, каковы были мы, когда пришли к дверям монастырским. Не все ли мы обещались терпеть: и поношения, и укоры, и изгнания?… Вспомним…, что мы призывали во свидетели Самого Владыку и Бога, говоря: вот Христос здесь невидимо стоит.
Память о святых, мучениках, Иове должна укреплять наш дух. Мы воины Христовы: мы не должны спать, когда воззовет труба. Терпение – оборотная сторона христианской надежды. Велика наша награда, она не похожа на награды воинов мира сего».
Но духовное воинство не слышит трубы, а точнее, колокола, будящего их рано утром и зовущего на заутреню. И Феодосий опускается еще на одну ступеньку; он излагает элементарные правила поведения: как должно подниматься с первым колоколом, как входить в храм и как в нем стоять, не прислоняясь к стенам и колоннам, как приветствовать друг друга низкими поклонами или как держать руки скрещенными на груди. Здесь мы впервые сталкиваемся с характерной чертой русского благочестия: с внешними, телесными его проявлениями. Но следует быть осторожным: нельзя принимать Феодосия за приверженца ритуализма. Горький педагогический опыт заставил его опуститься до таких увещеваний. Тем, кому духовные высоты не под силу или даются слишком тяжело, следует начинать с телесных действий, находящихся под непосредственным контролем воли. Наставника волнует чрезвычайно опасная ситуация и его собственная страшная ответственность. Но даже и в этом в нем нет ничего от педанта, школьного учителя, неуклонно соблюдающего установленные правила. Его слова, преисполненные горечи, – это только духовный призыв, а не суровый окрик начальствующего, это смиренный и тревожный голос сокрушающегося отца: «И аще бы возможно во вся дни глаголал бых, и со слезами моляся, и к коленам вашим припадая, дабы ни един из нас не оставил годины молитвенные».
В своих поучениях монахам Феодосий дает образец русского кенотического идеала, отчаянно борясь за его социальное воплощение. Нетрудно представить себе, что кенотизм не был единственной основой монашеской или аскетической жизни. Основания монашества на Востоке или в Греции были совсем иные. Поскольку русское монашество было лишь ветвью греческого, оно должно было, по крайней мере, стараться сообразовываться с ним. Даже Феодосий искал греческую модель в Студийском уставе. В других русских монастырях, основатели которых не были столь исключительными личностями, греческое влияние, возможно, сказывалось сильнее и простиралось не только на внешние правила, но и на духовные основы.
К сожалению, мы располагаем лишь несколькими оригинальными русскими произведениями этого периода, имеющими отношение к аскетике. Древняя Русь обладала богатой библиотекой переводов восточных и греческих отцов. Среди аскетических трактатов наибольшее влияние имели, вероятно, труды св. Василия Великого и «Лествица» св. Иоанна Синайского, прозванного Лествичником. Оба труда рекомендовались Феодором Студитом в его «Завещании». До самого недавнего времени «Лествица» оставалась самой читаемой и почитаемой в России книгой о духовной жизни. Однако пользоваться греческими трудами для изучения русского аскетизма неправомерно, так как до сих пор неясно, насколько они были усвоены и вошли в русскую плоть и кровь. Если же ограничиваться русской литературой, то здесь исследователь находит, помимо проповедей Феодосия, только одного теоретика и один агиографический труд. Этот единственный теоретик – наш старый знакомый Кирилл Туровский, а агиографический труд – «Киево–Печерский патерик».
Среди подлинных творений Туровского епископа три сочинения дидактического характера, развивающие его аскетические идеи; два из них имеют непосредственное отношение к монашескому призванию, о чем говорят их названия: «Сказание о черноризническом чине» и «Слово к Василию игумену, о мирском чине и о монашеском чине, и о душе, и о покаянии»; третий посвящен более общим этическим проблемам и называется «Притча о человеческой душе и теле». Все три произведения написаны в той же самой аллегорической манере, что и его проповеди, отсюда и использование в названиях слова «притча». Первое сочинение – это экскурс в Ветхий Завет в поисках корней христианского монашества; второе – буддийское сказание, сохранившееся в христианизированном «Житии св. Варлаама и Иоасафа». В третьем сочинении, так же, как в случае с индийской повестью, используется хорошо известная в средневековых литературах Запада и Востока притча о слепом и хромом. Довольно любопытно, что Кирилл ищет корни монашества в иудаизме и индуизме, минуя Евангелия, которые для Феодосия были единственным источником. Правда, Кирилл, как мы видели, принимает индийскую притчу за главу из Евангелия от Матфея, выдавая тем самым отсутствие понимания стиля и духа Нового Завета.
Идея следования Христу не чужда Кириллу. В одном месте он даже выражает ее явно: «Ты же послушай Христа единого заповедь и житие, иже от рождества и до распятия досады и клеветы, поношения и раны тебе ради претерпе». Но мотив следования Христу имеет для Кирилла второстепенное значение. Перечисляя побудительные причины для выбора монашеской жизни, он совсем не упоминает причину христологическую: «…или обещанная ти царства желая, или диавола греховныя работы не терпя, или житийския печали не любя… или женою и детми смущаем…» Все эти мотивы для него являются законными и, очевидно, исчерпывающими.
Самый серьезный мотив – это зло мира сего и практическая невозможность спастись, живя в мире. Как говорит апостол Иоанн[30]30
См.: Числ 14, 24; Ис. Нав. 14, 13–14.
[Закрыть]: «Весь мир лежит во зле». Все мирские занятия изначально заражены грехом: «Всяка власть к греху причтена есть. Торгующим убо, егда купля сдеется, ту и грех свершится и иныя вся житейския веще. В нищете же и богатстве, семье и доме спону (препятствие) имут к спасению».
Здесь Кирилл–аскет приходит в резкое противоречие с Кириллом–проповедником. В своих проповедях, обращенных к мирянам, он подчеркивал, что князьям и богатым открыты легкие пути к спасению. В проповедях он не делает различия между богатыми и бедными. Это противоречие характерно не только для Кирилла; оно является фундаментальным противоречием, присущим византийскому пониманию христианства, противоречием между Церковью пустыни и Церковью империи. Для радикальных аскетов, приверженцев пустыни, весь секулярный мир обречен на погибель. Для оптимистически настроенных представителей имперской Церкви сама эта Церковь уже является Царством Небесным на земле. Это противопоставление выражено Кириллом в образе, взятом из Соломоновой «Песни песней»:
«Черна и красива царская дочь» (1, 5): черна – благодаря мироправительной власти; прекрасна– благодаря монашеской мантии.
Если в мире нет ничего, кроме греха, то монашеская жизнь– не просто одно из христианских призваний среди множества, а единственно возможное. Каждый христианин обязан нести иго Господне, т. е. должен взять на себя монашеские обеты. Если Кирилл не говорит прямо об осуждении, ожидающем всех мирян (он называет их греческим словом «космики»), то эта идея подразумевается в следующем толковании молитвы Христа об учениках в Евангелии от Иоанна (17, 9): «Иисус Христос, безмездно спасающий монашеский чин, Сам молится за нас, говоря: „Отче Святый, не о всем мире молю, но только о них"».
Согласно Кириллу, обращение начинается с «печали ума» и с «памяти смерти»; это скорее индуистский, чем греческий мотив мирового пессимизма. «Печаль» приводит человека к воротам монастыря, для памяти о смерти, которая не покинет его и здесь, Кирилл пользуется образом неразлучной жены, «поющей ему сладкую песнь». «Сладкую», так как в мире ином праведника ожидает радость.
Жизнь в монастыре означает «посты, молитвы, слезы, воздержание и телесную чистоту». Однако борьба против телесных страстей имеет второстепенное значение. Правда, дух легче и живее воспринимает добродетели, плоть же слаба – поразительно, насколько ничтожны обвинения Кирилла против плоти. В своем толковании притчи «О слепом и хромом» он занимает нейтральную позицию в борьбе между душой и телом. Слепой – это душа человеческая, а хромой – тело. Оба они, объединив свои слабые силы, совершают грех, ограбив сад Господень. Тщетно пытаются свалить вину друг на друга. Господь осуждает обоих, и после воскресения тела они заплатят общую дань своими страданиями.
Поэтому вполне последовательно Кирилл не призывает к телесному аскетизму. Он никогда не требует больше обычного – достаточно обязательного поста. Он заходит столь далеко, что называет монашескую жизнь легкой в сравнении с Эдемом; он определяет ее как отсутствие труда: «Нетрудный хлеб, яко манну, от келареву руку принимая, питайся».
Эта физическая легкость монастырской жизни весьма обманчива, поскольку влечет за собой более суровые требования к духу: полное самопожертвование, отказ от собственного «я», которое является корнем всех грехов. Монах приносит себя в жертву, подобно тому, как, согласно Ветхому Завету, приносили в жертву Богу агнцев в пустыне при ее переходе. Это умерщвление, наиболее болезненное, происходит при посредничестве человека – игумена и старца (духовного отца). «Отдайся ему, как Халев Иисусу[31]31
Вспоминается событие, описанное евангелистом Лукой в Деяниях апостолов. Анания и жена его Сапфира продали принадлежащую им землю, но решили утаить от апостолов часть вырученных от продажи денег. Решив солгать Святому Духу, оба умерли у ног апостолов (Деян. 5, 1–11).
[Закрыть]; отсеки свою волю». Кирилл грозен и красноречив, когда говорит о послушании, являющемся для него высшей монашеской добродетелью:
«Свеща ли еси, токмо до церковной двери в своей воли буди, и о том не расмотряй, како и чим тя потваряет. Риза ли еси, до приемлющаго тя в руку знай себе; ктому не помысли, аще и на онучи растеган будеши. Точию до монастыря имей свою волю. По восприятии же образа, всего себя поверзи в покорение, ни мала своевольства утаи в сердце своем, да не умреши душею, аки Анания[32]32
Метанойя (μετάνοια) – покаяние (греч.)
[Закрыть]».
Послушание– добродетель настолько высокая, что делает монахов подобными ангелам: «Вся служба ангельская и монашеская едино есть»; так как и те, и другие отказались от своей воли. Феодосий тоже пытался включить послушание в монастырский устав. Но для него главной добродетелью было смирение, а послушание – лишь его внешнее и социальное проявление. Эти две добродетели тесно связаны между собой во всех аскетических правилах для монахов. Но важно различать, в чем основной акцент. Смирение – это специфически христианский идеал, отражение кенотического образа Христа. Послушание встречалось и у язычников – у спартанцев, римлян, стоиков. В качестве аскетического инструмента, оно является средством для отсечения своей воли, в то время как смирение направлено на преображение сердца. У Кирилла Туровского нет сомнений относительно понимания религиозной функции послушания: прежде всего это разрушение греховного «я». Что касается смирения, то он едва упоминает о нем. Он усматривает даже преимущество в монашеском чине, потому что «мирские вельможи преклоняют головы свои перед монахами, как пред святыми Божьими». Подобное понимание весьма далеко от кенотического идеала монашества.
То, что непослушание есть сущность первородного греха, является общим учением Церкви. Но Кирилл в своем свободном аллегорическом толковании Книги Бытия выражает это понимание еще более решительно, рассматривая плод древа познания как духовное благо само по себе. Греховность поступка Адама заключалась в своевольном служении Высшему: «Древо же познания добра и зла – это познанный грех разума и добровольное действие в угождение Богу». Согласно его апокрифическому толкованию, Адам был помещен Богом не в Раю, а в Едеме. «Рай – место святое, как в церкви алтарь». Но Адам, «до повеления Бога на святое дерзнув, из Едема прошел в Рай». Такое понимание, по–видимому, исключает из христианской жизни мистицизм как дерзкое нарушение установленных границ.
И в самом деле, Кирилл считает, что монаху достаточно немного духовной радости. Весьма примечательно его отношение к Святой Евхаристии. В одной из его восточных притч Христос предлагает монаху чашу с вином, но монах отказывается от нее: совесть удерживает его. «Ниже распнем Христа недостойне приступающе к причастию…» Это предостережение не уравновешивается каким‑либо призывом к евхаристической чаше.
Вместо радости, духовной атмосферой, которая окружает монаха, является страх. Кирилл рисует эту атмосферу, используя свои лучшие аллегории, почерпнутые из Ветхого Завета. Он говорит: «Вы окружили себя более, чем гора Синай, огнем страха Божия», принимая монашеские обеты, «так дымитесь жё, подобно этой горе, воздыхая о своих грехах… Этим страхом, говорит пророк, движется земля, расседаются камни, животные трепещут, горы дымятся, светила раболепно служат». Кирилл не скупится на угрозы ада; он умеет описать в деталях мучения будущей жизни, ожидающие монаха в случае впадения его в «слабость». Вся монашеская жизнь состоит из послушания, терпения и подвижничества и лишь слегка озаряется трансцендентной надеждой, которую дарует смерть.
Трансцендентность Бога настолько возвышена для Кирилла, что для него оскорбительна мысль о том, что человек создан по образу Божьему. «Никакого подобия Божьего человек иметь не может». Встречаясь с библейским учением об образе Божьем в человеке, он уклоняется от непосредственного толкования, но подчеркивает опасности его неправильного, еретического использования сектой антропоморфистов. Несомненно, Кирилл был достаточно глубоким богословом, чтобы отвергать догматы Церкви. Но ему явно не по себе, когда он сталкивается с человечностью Христа. Для него неприемлемы размышления об уничижении Христа, и вряд ли он мог положить их в основание своего аскетического учения. Мысль о последовании Христу чужда ему. Вместо этого он остается верным самому себе – автору богословских проповедей и покаянных молитв.
Два аскетических идеала – Феодосия и Кирилла – довольно далеко отстоят друг от друга. С одной стороны, мы обладаем превосходной и подробной биографией, поясняемой подлинными проповедями, а с другой – только трактатами без каких бы то ни было биографических черт. О жизни Кирилла остается только строить догадки, также трудно представить, как была бы организована жизнь обители, созданной по его принципам. Нетрудно вообразить, что в ней отсутствовало: крайности аскетизма, мистицизм, социальное служение. Остались бы молитва и послушание – но это слишком общо и туманно. Известно, что сам автор некоторое время проживал затворником.
Затвор, по–видимому, благоприятствует молитве; но менее очевидно его благотворное влияние на воспитание послушания.
Феодосием и Кириллом не исчерпываются аскетические течения в древнерусском монашестве. Агиографическая литература дает возможность изучения остальных направлений. Здесь мы располагаем идеализированными портретами и эпизодами жизни, но – в отличие от Кирилла – без всякого теоретического обоснования. Один литературный памятник особенно ценен для нашего исследования. Это – уже упоминавшийся «Киево–Печерский патерик». В нем около тридцати портретов местных святых большого монастыря, основанного Антонием и Феодосием. По большей части они являются прямыми или опосредованными учениками основателей обители. Интересно наблюдать, как трансформировалось духовное братство Феодосия. Еще более показательно изучение жизни учеников Антония. Поскольку древнее житие Антония утрачено, реконструкция его понимания аскетизма возможна только по его влиянию на учеников.
К сожалению, этот литературный памятник состоит из множества разнородных частей. Некоторые из них были созданы в XI столетии, но основная часть принадлежит XIII веку. В целом, в Патерике больше легенд, чем биографических зарисовок. В самом деле, в некоторых рассказах уже невозможно разглядеть действительность. И однако для нашей главной цели – изучения духовной жизни Древней Руси – легенды имеют иногда не меньшее значение, чем действительность. Киевский патерик является богатейшим, и даже единственным источником сведений для особого течения русской духовной жизни; его можно обозначить как школу Антония.
Несмотря на нивелирующее воздействие легенды, существует два четко очерченных направления, которые с полным основанием можно соотнести с именами великих основателей монастыря. Во многих случаях духовное родство подтверждается и прямыми указаниями на ученичество у Антония или Феодосия. Но чувствуется однако, что для авторов XIII века школа Феодосия несколько тускнеет по сравнению со школой его собрата.
Общее впечатление от Патерика: здесь веет совсем иной дух, нежели в житии преподобного Феодосия. Почти невероятной представляется связь преподобного Феодосия с насельниками его монастыря. Здесь все сурово, чрезмерно, преисполнено чудотворений и демонологии. Социальное служение монашества отступает на задний план. Кроме того, общежития, по–видимому, более не существует; рядом уживаются богатство и бедность. Величайшие подвиги немногих святых совершаются на фоне распущенности и своеволия остальных. Недаром самые яркие и впечатляющие образы Патерика принадлежат затворникам.
Однако целесообразнее начать с духовных детей Феодосия. Дух его еще не покинул монастырь. Верен ему в своем смиренном трудничестве Никола Святоша, из князей Черниговских, первый князь–инок на Руси. Он постригся в 1106 г. и в течение трех лет проходил послушание в поварне, к великому негодованию своих братьев–князей. Потом был привратником, пока, принуждаемый игуменом, не поселился в собственной келье. Его никто не видел праздным – работа на огороде, изготовление одежды сопровождались непрестанным произнесением Иисусовой молитвы («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного»). Свои личные средства, которые были немалыми, он употребил на помощь бедным и на «церковное строение», много книг было пожертвовано им монастырю. После его смерти брат Изяслав, получивший исцеление от его власяницы, всегда надевал ее в битвах.
Своеобразное служение миру нес Прохор, прозванный Лебедником, постригшийся в конце XI века. Свое прозвище он получил от изобретенной им формы постничества. Он никогда не ел другого хлеба, кроме приготовленного из собранной лебеды. Замечательно, однако, что автор его жития подчеркивает особую «легкость» его жизненного пути как олицетворения Христовой бедности: «легко проходил путь… потому что жил, как птица… на непаханой земле несеянный хлеб был ему». Во время голода аскеза святого превращается в источник благотворения. Он печет свой хлеб из лебеды для множества приходящих к нему, и горький хлеб чудесным образом становится сладким. Однако украденные у него хлебы – горьки, как полынь. При бедственном недостатке соли во время войны Прохор раздает пепел, превращающийся в соль. Это приводит его в столкновение сначала с киевскими купцами и спекулянтами, а потом и с самим князем Святополком, который не останавливается, ради корысти, перед ограблением соляных запасов святого. Соль, конечно, снова обращается в пепел, и корыстолюбивый князь вынужден примириться с Прохором и наместником.
К числу истинных учеников преподобного Феодосия можно отнести смиренного просвирника Спиридона, который был «простец словом, но не разумом» и с благоговением совершал свое послушание, беспрерывно твердя Псалтырь, которую «выучил наизусть». Первая группа святых Патерика, наиболее близкая по духу к Феодосию, жила в нестяжании, в благотворительности и смирении, никогда не проявляя суровости к грешникам и злодеям. Но уже в образах близких к Феодосию Агапита и Григория проглядывают новые черты. Их избирательная благотворительность, смешанная с суровостью, заслоняется другими, чисто аскетическими добродетелями.
Агапит, бескорыстный врач или целитель, посвящает себя уходу за больными; лечит молитвой и овощами, а не лекарственными травами, употребляя овощи, как подчеркивает автор, только для виду, – овощи эти составляли его обычную пищу. Таким образом, жизнь его была посвящена милосердию, но в Патерике она превращается исключительно в историю борьбы с врачом–армянином и его светской медициной. В этой борьбе святой побеждает, а армянин постригается в Печерский монастырь. Однако победа достигается силой чудес, а не кротостью. Святой довольно суров к своему противнику. Он обращается к нему «с яростью» и, узнав о его неправославной вере, укоряет: «Как же смел ты войти, и осквернить мою келью, и держать мою грешную руку? Иди прочь от меня, иноверный и нечестивый».
Григорий от самого Феодосия «научился житию иноческому, нестяжанию, смирению и послушанию». Нестяжание он простер так далеко, что продал даже книги, раздав деньги бедным, после того как воры показали ему ненадежность земных вещей. Но главной его заботой была молитва. Читая всегда «запретительные молитвы», он приобрел особую власть над бесами и дар чудотворения. Он имел обычай молиться в погребе, что сближает его жизнь с затворничеством. Три встречи его с разбойниками напрашиваются на сравнение с аналогичными эпизодами Феодосиева жития. Разбойники, пытавшиеся ограбить церковь, не наказываются Феодосием, но обращаются им на путь истинный. Григорий тоже обращает, но через наказание. Воры, покусившиеся украсть его книги, по молитве святого впадают в глубокий сон, длившийся пять дней, после которых они изнемогают от голода. Этого наказания с них достаточно. Узнав, что властитель города повелел их «мучить», Григорий выкупает их от наказания. С другими ворами, ограбившими его огород, он поступает строже. Три дня они не могут сойти с места, моля о прощении, но наконец слышат следующий приговор: «Так как вы всю жизнь свою пребывали праздными, расхищая чужие труды, а сами не хотите трудиться, теперь стойте здесь праздно и дальше, до конца жизни…» Однако их слезные мольбы и обещания исправиться заслужили им условное прощение. Святой осудил их на вечную работу в монастыре. Так он поступает и с третьими ворами, из которых один гибнет ужасной смертью, удушенный на ветвях дерева. Святой не определяет ему смерти, но предрекает ее. Возможно, преступники сами накликали эту смерть, пытаясь обмануть святого. Но суровость наказания остается. Одно из таких суровых предсказаний стало причиной насильственной смерти самого святого. Оскорбленный на реке отроками князя Ростислава (Всеволодовича), он предрекает им: «Все вы и с князем вашим в воде умрете». Жестокий князь, велевший утопить святого, сам встретил такой же, заслуженный им конец. Совсем по–иному действовал бы Феодосий, никогда не руководствовавшийся в отношениях с людьми законом возмездия.
Отмеченные выше образы святых всего ближе, хотя и в разной степени, к нравственному облику Феодосия. В совершенно иной мир вступаем мы, знакомясь с затворниками. Житие Исакия–затворника принадлежит к числу составленных очевидцем в XI веке, жития Никиты и Лаврентия, написанные в XIII столетии, рисуют ту же самую социально–бытовую и религиозную обстановку. В рассказах о затворниках расхождение двух духовных направлений в монастыре выявляется особенно резко.
Исакий был постриженником и послушником Антония. «Избрав строгую жизнь», он не довольствуется власяницей, а облекается в сырую козью шкуру и более не снимает ее, так что она ссыхается навсегда на его теле. Затворив святого в пещере величиной в четыре локтя, сам Антоний подает ему в узкое оконце скудную пищу: одну просфору через день. Ничего удивительного, что тот сошел с ума. Бесы мучат его и доводят до тяжкого падения. Явившись ему в виде ангелов света, они добиваются того, что Исакий поклоняется бесу как Христу. После этого он оказывается в их власти на целые годы; теряет разум, силы, чуть ли не самую жизнь. Его едва не схоронили заживо. Феодосию (а не Антонию) пришлось отхаживать его и приучать есть. Через два года, оправившись, он снова «предался жестокому воздержанию», но уже не в затворе: «Ты, дьявол, прельстил меня, когда я сидел на одном месте, поэтому теперь не затворюсь я в пещере». Он принимает на себя – первым на Руси – подвиг юродства, мнимого безумия, как греческие salos– «юродивые Христа ради». Первоначально его юродство выражается только в самоуничижении да, может быть, в некоторых странностях, оставшихся от лет безумия. Исакий работает на поварне, где над ним смеются. Раз он, исполняя приказ глумившихся, ловит руками ворону, после чего (чудо!) братия начинает чтить его как святого. Тогда юродство его становится сознательным: «Он же, отвергая славу человеческую, стал юродствовать и начал глумиться то над игуменом, то над кемнибудь из братии». Он ходит по миру и, собирая детей в пещере, играет с ними в монахи. «И его били за это, – то игумен Никон, то родители детей». Под конец жизни он достигает полной победы над бесами, которые признаются в своем бессилии. Противоположность отшельничества и смиренного юродства во имя Христово в его жизни явно связывается с именами Антония и Феодосия.
Недоверие к затвору отмечает первое поколение учеников Феодосия. Игумен Никон настойчиво отговаривает от затвора Никиту. Правда, Никита юн и одержим жаждой человеческой славы. Но игумен ссылается на пример Исакия. Никита затворяется самовольно и также падает. Его искушение гораздо тоньше и хитрее. Бес в виде ангела внушает ему не молиться, а читать книги, и он делается начетником в Ветхом Завете. Необычайная начитанность в Библии и бесовская прозорливость привлекают к затворнику мирян. Но старцы монастыря разгадали бесовской обман: «Никита все книги иудейские знал хорошо», а Евангелия не хотел ни видеть, ни слышать, ни читать. Беса изгнали, и вместе с ним исчезла мнимая мудрость Никиты.
После этих злосчастных опытов Лаврентию старцы просто запрещают затворяться в пещере без всяких особых оснований. Он должен удовлетворять своему влечению к духовному безмолвию в другом киевском монастыре. Его путь протекает благополучно, хотя он и не достигает той благодатной мощи в изгнании бесов, которая свойственна «тридцати» лучшим старцам печерским.
Этот страх перед опасностями затвора, отличающий старцев конца XI века, впоследствии совершенно исчезает. В XII веке здесь подвизаются затворники Афанасий, Иоанн, Феофил и другие, достигшие высокого совершенства. Об особых искушениях мы не слышим, но искушения посещают и других братьев. Более того, их жития оказываются в средоточии Патерика. Это они освещают своим бледным пещерным светом целый век истории монастыря.








