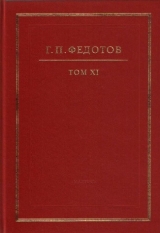
Текст книги "Русская религиозность. Том XI"
Автор книги: Георгий Федотов
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 54 страниц)
Аскетизм разнообразно коренится в человеческой природе и ее религиозных потребностях; поэтому он присущ обоим религиозным течениям, ориентированным соответственно на любовь или страх. Можно ожидать, – и это ожидание подтверждается историческими свидетельствами, – что религия страха порождает более суровые и более мощные формы аскетизма. На среднем уровне русский аскетизм не достиг грандиозных вершин христианского Востока, ни даже, в некоторых отношениях, католического Запада. Вообще говоря, русский тип аскетизма отличается умеренностью, хотя эта умеренность может показаться крайностью нашим современникам. Наиболее суровый образ жизни, в подземных пещерах и затворе, вели ученики Антония Киевского, который сам прошел выучку в школе Святой горы Афон. Через Святую гору можно проследить влияние сирийского монашества на эту школу благочестия. Одно из аскетических изобретений Сирии – вериги – привились и на Руси и применялись до самого последнего времени. С другой стороны, столпничество не оставило какихлибо следов в домонгольской Руси. Оно появляется в несколько смягченной форме в более поздние века.
Кекотическая школа преподобного Феодосия предпочла умеренные аскетические подвиги, заимствованные из палестинского опыта: пост, физический труд, бодрствование. Война против диавола и плоти велась неустанно и мужественно.
Но вместо лобовых атак– самоистязаний, использовалась тактика осады, изматывания и постепенного обескровливания противника. Жестокость битвы подменялась постоянством усилий. По этой причине русские аскеты предпочитали классической греко–латинской терминологии войны терминологию труда. Эта концепция аскетизма на Руси не ограничивалась кенотическим подходом. Аскетическая агрессивность школы Антония осталась одиноким явлением в истории русской святости: ею восхищались, но последователей не нашлось.
Из всех монашеских школ христианского Востока древний Египет, по–видимому, имел наименьшее влияние на Киевскую Русь, хотя египетские патерики и жития святых были хорошо, известны. В Египте под влиянием александрийского платонического богословия аскетизм был путем к созерцанию. На Руси до монгольского нашествия мы не находим никаких следов созерцательных течений. Менее всего можно говорить о бытовании мистицизма какого‑либо рода. Возрождение мистической жизни в Константинополе X и XI веков благодаря Симеону Новому Богослову осталось, по–видимому, незамеченным в Киеве. Правда, Студийский монастырь– великий духовный маяк для Руси– отвергал новое мистическое учение и его практику. Русь должна была ждать еще примерно три столетия, прежде чем смогла принять и довести до высокого совершенства мистический образ жизни.
Преподобный Феодосий учил повторять Иисусову молитву, которая использовалась мистиками. Эта молитва широко практиковалась некоторыми из его учеников и была постоянно на устах благочестивых русских людей. Но для Феодосия, как и для Владимира Мономаха и благочестивых мирян, это была всего лишь простейшая форма устной молитвы, кратчайшая и легчайшая формула для «непрестанного» пребывания в молитвенном состоянии.
Сосредоточенность на этических проблемах проходит через всю религиозную литературу Руси. Сколь бы ни были сильны культурные, эстетические или исторические интересы Древней Руси, особенно в сравнении с более поздней и современной Русской Церковью, доминирующим направлением было все‑таки этическое. Главная проблема заключалась в следующем: как жить и что делать для спасения? То, что ответ искали скорее в нравственном образе жизни, чем в таинствах и освящении, – это существенное различие между русской и византийской религиозностью.
Главенствующая категория в древнерусской этике, прежде всего, милосердие. На первый взгляд кажется, что это необходимая деталь любой христианской этики, но на самом деле это не так. Слишком часто христианские моралисты или даже народы на словах почитают эту евангельскую добродетель, но нравственную основу жизни ищут в другом. Мы уже знаем средний уровень византийской этики, опиравшейся на страх перед Богом или перед людьми. То же самое можно утверждать относительно московского общества XVI и XVII веков. Без больших натяжек рискнем утверждать, что в центре англосаксонской этики – чистота и закон в различных сочетаниях. Этот пример может послужить эталоном при изучении России. В русской истории вопросы чистоты или закона никогда не играли главной роли в нравственном сознании. Важность этих проблем стала осознаваться лишь в современную эпоху, когда Россия обратилась к западной школе.
Любопытен и даже весьма удивителен следующий факт в истории древнерусского сознания: равнодушие к почитанию святых дев. Русская Церковь канонизировала всего лишь 12 женщин, и только одна из них была девой – княжна Евфросинья, принявшая постриг в Полоцком монастыре. Многочисленные святые девы Греческой Церкви нашли свое место в русских календарях и мартирологах (Четьих–Минеях). Но тщетно мы будем искать их образы на древних иконах. Среди богатых собраний русских икон святую девственность представляет одна только святая Параскева (со святой Анастасией). Но почитание Параскевы (Пятницы) так же, как и Анастасии (Воскресения), рождено скорее христианской мифологией, чем реальными женщинами–святыми, к тому же девственницами. На самом деле, святой Параскеве молились жены, страдающие бесплодием, прося исцеления. Исключительный культ священного или божественного Материнства – начиная от Матери–Земли и кончая Божией Матерью – затмил христианскую ценность девственной чистоты. Чистота ближе русскому сердцу как физиологическая добродетель– результат смешения языческого поклонения природе с ритуалистическими церковными канонами. Однако в Киевский период ритуализм не был доминирующим направлением христианства.
Что касается закона или правосудия, то Киевский период был самым благоприятным по сравнению с любым другим периодом русской жизни. Но даже в Киеве мы наблюдаем стремление истолковать правосудие как частное проявление милосердия. Правосудие обладает нравственной ценностью лишь в том случае, если оно осуществляется по отношению к бедным и угнетенным, а это возвращает нас к тому же самому каритативному пониманию.
Чисто русская особенность христианского милосердия – связь с этикой клана или рода. Милосердие на Руси не только находит самое сильное выражение в любви между братьями или кровными родственниками, но стремится охватить всех людей, как бы находящихся в родстве между собой. Все люди братья не только в духовном христианском смысле, как имеющие общего Отца на небесах, но и в земном, как имеющие общее происхождение или общую кровь. Это привносит определенную теплоту, оттенок семейной нежности в человеческие взаимоотношения, но эта теплота имеет в себе нечто чувственное и плотское и потому распространяется лишь в границах нации или расовой общности.
Милосердие – общий знаменатель русской этики. Но этика не есть нечто однородное. Во все эпохи русской истории неизменно прослеживается этический дуализм. Его можно охарактеризовать как противоборство суровой и умеренной тенденций. Мы видели, однако, что различие этических взглядов не в количестве, а в качестве, так как в их основе различные религиозные толкования. Суровый или византийский тип укоренен в религии Христа–Вседержителя, Небесного Царя и Судии. Умеренная или чисто русская этика основывается на религии уничиженного или «кенотического» Христа.
В первом случае милосердие ограничивается милостыней как одной из божественных заповедей, причем главной целью религиозной жизни становится умилостивление Бога. В кенотическом христианстве милосердие, оставаясь центральным моментом, обогащается и приобретает новое качество, так как к нему присоединяется самоуничижение. Оба типа религиозной этики находятся под сильным влиянием монашества. Оба они принимают и даже выделяют монашеские добродетели смирения, послушания и покаяния. Однако одни и те же слова в разных пониманиях этики имеют не одно и то же содержание. Смирение византийского типа основано на строгом соблюдении иерархии. Человек, знающий свое место в мире, должен смирять себя перед вышестоящими: Богом, императором, начальником, богатым и т. д. По отношению к нижестоящим он должен проявлять снисходительное, покровительственное милосердие. В кенотической религии, образцом для которой служит уничижение Христа, человек смиряет себя не только перед Богом, но и перед низшими членами общества. Этот тип смирения принимает по необходимости внешние и социальные формы; наиболее яркое выражение он находит в «худых ризах» святых русских иноков. Преподобный Феодосий, еще будучи мирянином, старался занять самую низкую ступень социальной лестницы, разделяя физический труд со своими слугами или исполняя грязную работу. Однако по отношению к высшим членам общества кенотический святой может быть требовательным и суровым. Он обращается к ним не со смиренными просьбами, а с властной пророческой силой, призывая к справедливости и угрожая гневом Божиим. Таким образом, следствие кенотического подхода – разрушение иерархии, в то время как религия страха оказывает мощную поддержку существующей иерархической структуре.
Отсюда и различие в типах послушания. Послушание, продиктованное страхом, всегда проявляется перед вышестоящими как в мирской, так и в церковной иерархии. Страх считается не только сопутствующим, но и побудительным мотивом. Кенотическое послушание основано на милосердии или, по крайней мере, на кротости. Это взаимная обязанность, которая должна исполняться как среди равных по положению, так и среди высших и низших. «Повинуйтесь друг другу», – наставлял преподобный Феодосий своих иноков. В этом случае смысл послушания во взаимном служении и угождении, уступчивости и подчинении. Об иерархическом послушании не упоминается, хотя оно и предполагается. Феодосий считает непослушание или нарушение монастырского устава большим грехом, но не находит нужным поддерживать дисциплину с помощью наказаний. У русских игуменов кенотического типа часто наблюдалось ослабление дисциплины в управляемых ими монастырях. Феодосия глубоко огорчал низкий духовный уровень паствы, и, убедившись в неэффективности чисто духовных призывов, он прибегал к внешним средствам поддержания порядка.
Третья монашеская добродетель – покаяние – является, вероятно, общим для обоих религиозных подходов. В византийской религии страха это самое искреннее и глубокое чувство. Для кенотического русского святого покаяние является самым серьезным моментом: в нем нет ничего от оптимистической жизнерадостности или безоблачного спокойствия. Учителем и образцом в обоих случаях является Ефрем Сирин. Если есть различия, то их следует искать в преобладании страха в одном и стремлении к Христову совершенству – в другом. В первом случае покаяние усиливается устрашающими размышлениями о будущем Суде и вечном огне; во втором – подвигом Христовой любви и Его страданиями за человечество, а также сознанием человеческого недостоинства и предательством жертвенной любви. Если в первом случае покаяние может быть более острым и горьким, то во втором оно смягчается надеждой на всепрощающую любовь Христову.
Начиная с самых ранних времен, а именно с конца IV века, восточное монашество – как в Египте, так и в особенности в Сирии – высоко оценивало покаянное значение слез. Слезы считались внешним признаком истинного раскаяния и в то же время физиологическим средством пробуждения его. Они рассматривались как особая харизма, так называемый «слезный дар». Русь унаследовала этот идеал вкупе с практическим его воплощением. По–видимому, она испытывала особое благоволение к этому благодатному дару. Она всегда была склонна искать утешения и духовного подъема в благодатных слезах. В религии страха слезы горькие, в религии кенозиса – сладкие. Слезы покаяния смешиваются со слезами, вызванными другими чувствами – утешающими и возвышающими душу. Бывают слезы сочувствия, слезы радости, слезы, льющиеся при созерцании небесной красоты. Даже миряне, подобно князю Владимиру Мономаху, удостаивались этого дара слез, а Мономах был далек от страха; скорее всего, его слезы были сладкими.
В русском языке есть слово «умиление», непереводимое на другие языки из‑за богатства заключенных в нем оттенков. Все виды высоких плодотворных чувств, которые в наивысшей точке вызывают слезы, порождают то, что по–русски называется умилением. Красота церковной службы и даже красота природы, созерцание младенческой невинности или совершенства святости порождают это душевное состояние. Умиление – это особая благодать кенотического христианства.
Монашеская религия по всем направлениям притягивала и мирян, вовлекая их в круг своего влияния. Византия никогда не знала дуализма монашеской и светской этики, но считала, что христианский идеал воплощен в совершенном монахе. Монашество было подлинной и бескомпромиссной интерпретацией Евангелия. Несомненно, это учение имело своих сторонников на Руси, в частности, хотя бы Кирилла. Но было и другое понимание, признававшее за мирянами особое призвание. Мы видели, как игумен Поликарп удерживал князя Ростислава от принятия монашеского пострига. Причисляя к лику святых многих князей–мирян, Русская Церковь признала мирской путь к спасению.
В многочисленных «Поучениях», предназначавшихся для мирян, можно различить два направления, соответствующие, хотя и не совсем точно, двум тенденциям в монашестве. В мирской интерпретации милосердие не является ни героическим, ни евангельским путем; едва ли можно его понимать и как путь кенотический, несмотря на то, что оно является составной частью христианского смирения. Миряне, даже столь развитые в духовном плане, как Владимир Мономах, избегали непосредственного изучения Евангелия, как бы оставляя его монашеству. Они обращались за руководством к менее возвышенным, но зато более практическим книгам Ветхого Завета. Они находили его в книгах Премудрости и в псалмах. В книгах Премудрости идеал милосердия и законопослушания смягчался и умерялся практическими соображениями и уступками жизни. Псалмы вызывали более глубокие религиозные чувства благодаря созерцанию Божественного творения, Промысла и возмездия за человеческие поступки. В терминах патристики эти два течения светской этики могут быть охарактеризованы как этика страха и этика надежды (вместо этики любви). Благочестивый мирянин приближался к Богу как раб в трепетном поклоне или как честный труженик с твердой, хотя и смиренной надеждой на вознаграждение. Сыновняя любовь была для него слишком высокой или слишком дерзновенной.
Нельзя, однако, сказать, что в жизни мирян полностью отсутствует дыхание Нового Завета. Его присутствие ощущается как согревающее и просветляющее несколько заземленные взгляды, коренившиеся в Ветхом Завете. В критические моменты, как, например, когда был убит сын князя Владимира, он выражал свои чувства в чистых и возвышенных евангельских тонах. Евангелие постоянно воздействует на человеческую душу, хотя его влияние и не столь заметно, как Ветхого Завета.
В чувствительных и религиозно одаренных натурах Евангелие могло пробуждать героические христианские добродетели. Путь высокого кенотизма оставался открытым для мирян так же, как и для иноков. Для мирян такой путь означал самопожертвование в любви и следование Христу вплоть до смерти крестной. Непротивление Бориса и Глеба навсегда останется вершиной кенотического христианства.
Невозможно переоценить социальный аспект русской религиозной этики. Вопреки широко распространенному мнению об исключительно личностном характере восточного христианства, следует помнить, что на протяжении многовековой истории Руси Киевского и Московского периодов христианство было преимущественно социальным, хотя и принимало различные формы. Принудительный индивидуализм входит в русскую церковную жизнь только после реформ, или революции, произведенными Петром I.
В Киеве социальная энергия христианства проявляла себя в широко практиковавшихся делах милосердия, а также в воспитании и организации Церковью новосозданного общества. Для всех, в том числе и для князей, Церковь была руководительницей и советницей во всех важных вопросах, мирских и религиозных. Государство почти не имело глубоко укоренившихся традиций, оно было гибким и податливым, заинтересованным в познании истинного христианского пути. С другой стороны, молодая Русская Церковь была не просто ветвью Византийской Церкви, унаследовавшей вековые навыки МатериЦеркви. Русское христианство было свежим, творческим, живо откликавшимся на призыв Христа. Его социальная миссия вдохновлялась непосредственно евангельским духом.
Главной добродетелью оставалось милосердие, особенно по отношению к бедным и нищим. В Киевский период оно было неотделимо от справедливости («правды») в русском каритативном понимании. Русь училась у великого учителя Иоанна Златоуста, чьи избранные труды, собранные в антологии («Златоструи»), были излюбленным чтением. Его толкование притчи о богаче и Лазаре глубоко запало в русскую душу. Другой мощный толчок был дан полумифической фигурой святителя Николая, величайшего святого Восточной Церкви, житие которого– поэма о бурной, стихийной силе милосердия и справедливости. Третьим великим учителем милосердия был святой Иоанн Милостивый, Александрийский патриарх VII века.
В русском понимании милосердия, сформировавшегося в такой школе, нет ничего малокровного, приторного или условного. Жуткая угроза Страшного Суда, нависшая над немилосердными, и, на другом полюсе, образ кроткого и любящего Спасителя, который Сам был всего лишен и Сам страдал, работали в одном и том же русле. Религия страха и религия любви действовали сообща, оказывая благотворное влияние на чувствительную русскую душу.
Среди обычных черт милосердия, о которых настойчиво твердили русские проповеди и поучения, всегда особо подчеркивалась необходимость милосердия к рабам и слугам. Величайшим грехом, по мнению многих русских проповедников, является выгода, извлекаемая при освобождении рабов («изгойство»). Наряду с ростовщичеством, изгойство являлось формой социальной несправедливости, против которой неустанно выступала Церковь.
Преимущественно социальная направленность киевского монашества подтверждается тем, что все известные монастыри того периода располагались в городах или их предместьях. Это давало монахам возможность исполнять свой долг как духовников мирян, и это стало распространенным обычаем на Руси. Конечно, аскетические подвиги затворников Киево–Печерской обители или монашеский идеал Кирилла Туровского не имели ничего общего с социальной или благотворительной деятельностью. Но, как мы знаем, согласно завещанию великого учителя – преподобного Феодосия, монастырь был не только духовным центром для мирян, но также, благодаря труду его насельников, источником пропитания для бедных. Более того, преподобный Феодосий брал на себя бремя, указывая князьям и чиновникам путь правды и справедливости. Политические преступления, вроде незаконного захвата Киевского трона (стола), были для него очевидным нарушением христианских заповедей, таким же, как несправедливость в судах и личные грехи. В этом он не был одинок. Возможно, с меньшей отвагой, но русское духовенство, как правило, следовало его примеру.
Из всего наследия византийской культуры у политического византинизма оставалось меньше всего шансов быть усвоенным. Русь не была централизованным государством, а только полуфеодальным – точнее, свободным союзом малых независимых государств без какой‑либо центральной власти, присущей западноевропейским королевствам, не говоря уже об империи. Русь не была государством, способным унаследовать византийские имперские притязания. Более того, константинопольские императоры считали русских князей своими вассалами, обратив их в православную веру: император был главой всех православных христиан во всей вселенной. Нет никаких доказательств, что эта греческая теория была воспринята на Руси, но при византийском дворе русские князья были «почтены» титулом «стольников» (о επί της τραπέζις). Глава Русской Церкви, митрополит Киевский, будучи греческим подданным, назначавшимся Константинополем, должно быть, смотрел на русских князей глазами своего императора.
Это значит, что политическая доктрина священного единовластия греческим духовенством на Руси не проповедовалась и могла проникать только через духовную литературу. С другой стороны, среди переводов, сохранившихся в Киеве, не было обнаружено ни одного, посвященного политике. Следовательно, не могло быть и речи о неограниченной или автократической власти русских князей ни на практике, ни в теории. Русское слово «князь» переводилось греческим «άρχων» – так именовались в Византии высшие сановники имперской администрации. Что могло привиться на Руси, так это христианская оценка политической власти: ее происхождения, миссии, прав и обязанностей.
На основании библейских и святоотеческих взглядов решительно отстаивалось божественное происхождение княжеской власти. Это наделяло князя высоким достоинством и обосновывало подчинение ему как «служителю Бога» (Рим. 13, 4). Тем не менее, это был исключительный случай, когда автор похвального слова князю Андрею Владимирскому осмелился применить к нему знаменитое определение Хризостома–Агапита, столь популярное в более поздний Московский период: «Природой земной царь подобен любому человеку, но властию сана он выше – как Бог». В Киевской Руси, далекой от какого бы то ни было обожествления власти, введение во власть свыше требовало от князя подчинения религиозному и нравственному закону. Необходимость подчинения закону со стороны князей – тема, гораздо чаще встречающаяся в русской литературе, нежели необходимость подчинения подданных своему князю.
В великопостном послании к Владимиру Мономаху митрополит Никифор, грек, восхваляя князя за его благочестие и добродетели, находит, тем не менее, слабое место в его правлении и предлагает поправку: князю необходимо быть более осмотрительным и не всегда следовать советам окружения и возвратить тех, кто был изгнан без достаточных на то оснований.
Киевские летописцы открыто говорили и писали о грехах и недостатках князей; они, очевидно, не считали, что княжеское достоинство накладывает какие‑либо ограничения на свободу суждения о них. Самое большее, что они могли себе позволить, стремясь облегчить вину князя, это приписывать недостатки влиянию дурных советников. Дурные советники, главным образом, «молодые» (ср. Ис. 3, 1–4) – корень всех политических зол. Молодость князя часто рассматривается как большое несчастье и знак Божьего гнева по отношению к стране.
Хорошие и плохие князья в равной мере посылаются Богом как награда или как наказание народу. «Если же какая‑либо страна стала угодной Богу, то ставит ей Бог кесаря или князя праведного, любящего суд и закон, и властителя, и судью, судящего суд». Но «горе городу тому, в котором князь юн и любит пить вино и слушать гусли вместе с молодыми советниками… Таких дает Бог за грехи» (Лавр. 1015).
Если плохой князь посылается Богом и его тирания воспринимается как наказание, то это, по–видимому, исключает любое восстание против тирана из числа законных политических акций. Этот вывод был бы вполне верным в духе византийской и даже раннехристианской этики; таковым было фактически учение Анастасия Синаита в VII веке, которое повторялось затем некоторыми русскими моралистами. И все же влияние этого учения о послушании сильно преувеличивалось современными историками, которые часто рассматривали древнерусский образ жизни с точки зрения Московского периода. Киевский летописец мог считать восстание граждан против своего князя проявлением Божественной воли в наказание князю. Такая трактовка доктрины послушания была вполне естественной потому, что народное собрание в Киевской Руси – вече – было достаточно действенным. Византийская теория не оставляла места для оправдания демократии, но приспосабливалась к новым социальным и политическим обстоятельствам. Карающая десница Божия в политической сфере могла быть направлена в обе стороны: иногда могла использовать в своих целях даже народную революцию.
Но было одно преступление, перед которым Древняя Русь, в отличие от Византии, останавливалась в ужасе: убийство князя. Цареубийство в Византии было настолько обычным явлением, что казалось частью политической системы, необходимой поправкой к автократии. На Руси, где убийство князя в честном бою почиталось большим несчастьем, восстание, хотя иногда и оправдывалось, если оно приводило только к смещению князя, никогда не прощалось, если завершалось убийством князя. Убийство непопулярного, даже деспотического князя могло привести к канонизации его как «страстотерпца», что воспринималось как искупление за преступление.
Хотя это учение не особенно благоприятствовало развитию политической свободы или народного правления, но оно не ограничивало их развития в Древней Руси. Церковь не предпринимала никаких усилий для пересадки византийских политических институтов на русскую почву или проповеди абсолютной монархии. Религиозные идеи, поддерживающие автократию или даже деспотизм, конечно, проникали на Русь вместе с этикой страха. Но социальная атмосфера не благоприятствовала их росту. Никогда за все историческое бытие Россия не была ближе к осуществлению политической свободы, чем в славные дни юности.








