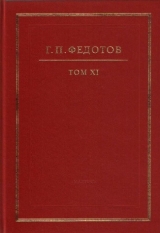
Текст книги "Русская религиозность. Том XI"
Автор книги: Георгий Федотов
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 54 страниц)
Еще менее известно о других средневековых русских юродивых Христа ради. В конце XV столетия в том же Устюге жил другой юродивый, Иоанн (fl494). Подвижнические черты, проявленные им в молодости, заимствованы из жития преподобного Сергия. Главной деталью связанного с ним предания является, как и в житии Прокопия, лютый мороз. Он живет в хижине при соборной церкви Успения Божией Матери, бегает по улицам полунагой, подвергаясь разного рода оскорблениям. Новый мотив чуда, встречающегося также в Киево–Печерском патерике: он спит на раскаленных угольях в печи. Священник, бывший свидетелем этого чуда, рассказал о нем впоследствии. Таким образом, в этом портрете христианского «киника» нечувствительность к морозу дополняется его нечувствительностью к огненному жару. Свидетель чудесной способности святого выполняет роль, подобную роли наперсника, – необходимая фигура в агиографии юродивых. Иначе всеобщее презрение к святому при жизни сделало бы невозможной его посмертную канонизацию.
Недаром устюжское предание о блаженном Прокопии приводит первого русского юродивого из Новгорода. Этот великий город был колыбелью русского юродства. Все известные русские юродивые XTV и начала XV века прямо или косвенно связаны с Новгородом. Это не означает, что кенотическое уничижение было определяющей чертой этого богатого купеческого города. Скорее, верно противоположное утверждение. Но Новгород, в большей степени, чем удельные княжества, являл характерные черты русской народной жизни и сознания. Религиозная жизнь здесь была более спонтанной и менее традиционной. Если юродство Христа ради является отличительной чертой русской религиозности, оно должно было проявить себя в Новгороде раньше и сильнее, чем где бы то ни было. Здесь буйствовали в XTV веке Николай (Кочанов) и Феодор, о которых нам известно из местных летописей. Своими драками они пародировали кровавые столкновения между политическими партиями Новгорода. Никола жил на Софийской стороне (там, где расположен собор), Феодор – на Торговой. Они переругивались и перебрасывались камнями через реку Волхов. Когда один из них пытался перебраться через реку по мосту, другой гнал его назад, крича: «Не ходи на мою сторону, живи на своей!» Легенда прибавляет, что после таких боев блаженным случалось возвращаться не по мосту, а прямо по воде, как по суху.
О Николае рассказывалось еще одно чудо. Раз он был приглашен на пир к вельможе, который, очевидно, его очень уважал. Но слуги не захотели впустить юродивого. Тогда все сосуды с вином в доме опустели и оставались пустыми до тех пор, пока не выяснилось недоразумение и святой не получил удовлетворения. Точно такой же эпизод встречается в житии юродивого Исидора Ростовского (fl474). Ключевский заметил, что многие ростовские легенды копируют новгородские {482}. Другое чудо Исидора заимствовано из знаменитой былины о Садко, богатом новгородском купце. Этот Садко, выброшенный своими товарищами в море в качестве умилостивительной жертвы морскому царю, был спасен благодаря вмешательству великого святого Николая Чудотворца, Повелителя вод. В аналогичной ситуации некоему ростовскому купцу явился в видении юродивый Исидор, который спас ему жизнь. Из легенды о Прокопии заимствована деталь о «немецком» (то есть иностранном) происхождении Исидора.
Нельзя не упомянуть здесь современника Исидора, странного инока, который был наполовину юродивым, наполовину монахом, обладавшим пророческим даром. Это Михаил, подвизавшийся в Клопском Троицком монастыре в окрестностях Новгорода {483}. Он именовался юродивым (или, по–гречески, Салос), хотя ни в одном из трех известных версий его жития нет ни одной черты, характерной для юродства: ни наготы, ни странничества, ни особого самоуничижения. Святой Михаил Клопский является провидцем, а его жития – собранием «пророчеств», вероятно записывавшихся в монастыре, где он пользовался большим почитанием в течение всей жизни, что, конечно, не согласуется с основным смыслом юродста ради Христа. Лишь странность его манер, театральный символизм жестов могли быть истолкованы как юродство. Больше всего о «юродстве» говорит начало его жития, рисующее его необычное появление в Клопском монастыре, но ничего не говорящее о его происхождении, которое остается неизвестным.
В ночь под Иванов день (1409), во время всенощной, в келье одного из монахов оказался неведомо откуда пришедший старец. «Пред ним свеща горит, а пише седя Деяния апостольска». На все вопросы игумена неизвестный отвечает буквальным повторением его слов. Его было приняли за беса, начали кадить «темьяном», но старец хотя «от темьяна закрывается», но молитвы повторяет и крест творит. В церкви и трапезной он ведет себя «по чину» и обнаруживает особенное искусство сладкогласного чтения. Он не желает только открывать своего имени. Игумен полюбил его и оставил жить в монастыре. Не говорится, был ли он пострижен и если да, то где. Монах он был образцовый, во всем послушлив игумену, пребывая все дни в посте и молитве. Но житие его было «вельми жестоко». Не имел он в келье ни постели, ни изголовья, но лежал «на песку», а келью топил «наземом да коневым калом» и питался хлебом да водой.
Его имя и знатное происхождение обнаружилось во время посещения монастыря князем Угличским Константином, сыном Димитрия Донского. В трапезной князь пригляделся к старцу, который читал Книгу Иова, и сказал: «А се Михайло Максимов…
Сей старец нам (князьям московской династии) своитин». Святой не отрицал, но и не подтверждал этого заявления, но, по настоянию игумена, признался, что его настоящее имя было Михаил. После этого визита уважение к Михаилу в монастыре возросло, и его попытки юродства, если таковые были, не могли поколебать его славы. Князья и епископы беседовали с ним, просили его благословения и часто слышали от него суровые предсказания. При игумене Феодосии он изображается рядом с ним как бы соправителем монастыря. Молчание свое он прерывает для загадочных пророчеств. То он указывает место, где рыть колодезь, то предсказывает голод и учит кормить голодных монастырской рожью, несмотря на ропот братии. Суровый к сильным мира сего, он предсказывает болезнь посаднику, обижавшему монастырь, и смерть князю Шемяке и архиепископу Новгородскому Евфимию I. В этих пророчествах Михаила присутствует элемент промосковской политики, который ставит его в оппозицию к новгородскому боярству. Позднейшие предания приписывают ему провидение о рождении Ивана III и предсказание о гибели новгородской свободы.
Во всем этом нет настоящего юродства, но есть причудливость формы, поражающая воображение. Предсказывая смерть Шемяке, он гладит его по голове, а обещая владыке Евфимию хиротонию в Литве, берет из его рук носовой платок и возлагает его ему на голову. За гробом игумена он идет в сопровождении монастырского оленя, которого приманивает мхом из своих рук. Можно было бы сказать, что лишь общее уважение к юродству в Новгороде XV столетия присваивает нимб юродивого суровому аскету и прозорливцу.
В житии Михаила присутствует особая деталь, особенно привлекающая наше внимание. Речь идет о подчеркивании его высокого социального происхождения, хотя оно и утаивалось святым. Обычные бояре нередко встречались среди русских монахов, но здесь мы имеем дело с представителем княжеского дома. Тайна его происхождения возбуждает любопытство и увеличивает благочестивое благоговение перед его уничижением. Величие в добровольном уничижении – один из аспектов русской кенотической религии, близкий к юродству во Христе, но не тождественный ему. В лице Михаила Клопского мы, вероятно, встречаемся с первым историческим проявлением характерной русской черты – искать и угадывать величие, спрятанное под покровом смирения. Это послужило религиозным основанием политическому обману в русской истории XVII‑XVIII веков. Народ горячо привествовал лжецарей и политических самозванцев – выходцев из низших классов. Даже в более поздние времена многие люди, как простые, так и образованные, включая и некоторых ученых, считали и продолжают считать, что император Александр I после своей мнимой кончины в 1825 году жил в Сибири под видом старца Федора Кузьмича.
Ряд московских юродивых начинается с Максима (fl433), канонизированного на соборе 1547 года. Его официальное житие не сохранилось. XVI век дал Москве Василия Блаженного и Иоанна, по прозванию Большой Колпак. Многословное и витиеватое житие святого Василия не дает никакого представления о его подвиге юродства. Его образ сохранен в народной московской легенде, известной и в более поздних записях. Она полна исторических небылиц, хронологических несообразностей, местами прямых заимствований из греческого жития святого Симеона. Но это единственный источник для знакомства с русским народным идеалом «блаженного». Не знаем только, в какой мере он соответствует московскому святому XVI века.
По народной легенде, Василий был в детстве отдан к сапожнику и тогда уже проявил свою прозорливость, посмеявшись и прослезившись над купцом, заказавшим себе сапоги: купца ожидала скорая смерть. Бросив сапожника, Василий начал вести бродячую жизнь, ходя нагим (как святой Максим) по Москве, ночуя у одной боярской вдовы. Как сирийский юродивый, он уничтожает товары на рынке, хлеб и квас, наказывая недобросовестных торговцев. Все его парадоксальные поступки имеют скрытый мудрый смысл, связанный с объективным видением правды; они совершаются не по аскетическому мотиву юродственного самоуничижения. Василий швыряет камни в дома добродетельных людей и целует стены («углы») домов, где творились «кощуны»: у первых снаружи виснут изгнанные бесы, у вторых плачут ангелы. Данное царем золото он отдает не нищим, а купцу в чистой одежде, потому что купец потерял все свое состояние и, голодая, не решается просить милостыню. Поданное царем питие он выливает в окошко, чтобы потушить пожар в далеком Новгороде. Самое страшное – он разбивает камнем чудотворный образ Божией Матери у Варварских ворот, на доске которого под святым изображением был нарисован черт. Дьявола он всегда умеет раскрыть во всяком образе и всюду его преследует. Так, он узнал его в нищем, который собирал много денег у людей, посылая в награду за милостыню «привременное счастье». В расправе с нищим–бесом мораль, острие которой направлено против благочестивого корыстолюбия: «Собираеши счастьем христианские души, а сребролюбивый нрав усовляеши».
Несколько раз блаженный представляется обличителем, хотя и кротким, Ивана Грозного. Так, он укоряет царя за то, что тот, стоя в церкви, мыслями был на Воробьевых горах, где строились царские палаты. Скончавшийся в 50–х годах XVI века, святой Василий не был свидетелем опричного террора Грозного, но легенда заставляет его перенестись в Новгород во время казней и погрома города (1570). Здесь, под мостом у Волхова, в какой‑то пещерке, Василий зазывает к себе Ивана и угощает его сырой кровью и мясом. В ответ на отказ царя он, обнимая его одной рукой, другой показывает на возносящиеся на небеса души невинных мучеников. Царь в ужасе машет платком, приказывая остановить казни, и страшные яства превращаются в вино и сладкий арбуз.
О почитании святого Василия, канонизированного в 1588 году, говорит посвящение ему храмов еще в XVI столетии и само переименование народом Покровского (и Троицкого) собора, в котором он был погребен, в собор Василия Блаженного.
При царе Федоре Иоанновиче в Москве подвизался другой юродивый, по прозвищу Большой Колпак. Он не был уроженцем Москвы. Родом из вологодских краев, он работал на северных солеварнях водоношей. Переселившись в Ростов (он, собственно, ростовский святой), Иоанн построил себе келью у церкви и в ней спасался, увешав свое тело веригами и тяжелыми кольцами. Выходя на улицу, он надевал свой колпак, то есть одежду с капюшоном, как ясно объяснено в житии и изображается на старинных иконах. Едва ли не Пушкин первый назвал этот колпак железным в «Борисе Годунове». Как об особом подвиге Иоанна рассказывается, что он любил подолгу смотреть на солнце, помышляя о «праведном солнце». Дети и безумные люди смеялись над ним (слабые отголоски действительного юродства), но он не наказывал их, как наказывал Василий Блаженный, и с улыбкой предсказывал будущее. Перед смертью блаженный переселился в Москву, но мы ничего не знаем о его здешней жизни. Умер он в бане, и во время его погребения в том же Покровском соборе, где похоронен Василий, произошло «знамение»: страшная гроза, от которой многие пострадали. У англичанина Флетчера читаем, что в его время «ходил голый (юродивый) по улицам и восстанавливал всех против правительства, особенно же против Годуновых, которых почитают притеснителями всего государства»{484} Обыкновенно отождествляют этого юродивого с Иоанном, хотя нагота его как будто противоречит одежде Колпака.
Обличение царей и сильных мира сего в XVI веке сделалось неотъемлемой принадлежностью юродства. Самое яркое свидетельство дает летопись в рассказе о беседе псковского юродивого святого Николы с Иоанном Грозным. Пскову в 1570 году грозила участь Новгорода, когда юродивый, вместе с наместником князем Юрием Токмаковым, велели ставить по улицам столы с хлебом–солью и с поклонами встречать царя. Когда после молебна царь зашел к нему благословиться, Никола поучал его «ужасными словесы еже престати велия кровопролития». Когда Иван, несмотря на предупреждение, велел снять колокол со Святой Троицы, то в тот же час у него пал лучший конь «по пророчеству святого». Так пишет псковский летописец. Известная легенда прибавляет, что Никола поставил перед царем сырое мясо, несмотря на Великий пост, и в ответ на отказ Ивана – «Я христианин, и в пост мяса не ем» – возразил: «А кровь христианскую пьешь?» Это кровавое угощение псковского юродивого, конечно, отразилось в народной легенде о московском Василии.
По понятным причинам иностранцы–путешественники больше русских агиографов обращают внимание на политическое служение юродивых. Флетчер писал в 1588 году:
«Кроме монахов, у них есть особенные блаженные, которых они называют святыми людьми… Вот почему блаженных народ очень любит, ибо они, подобно пасквилям, указывают на недостатки знатных, о которых никто другой и говорить не смеет. Но иногда случается, что за такую дерзкую свободу, которую они позволяют себе, от них тоже отделываются, как это и было с одним или двумя в прошедшее царствование за то, что они уже слишком смело поносили правление царя»{485}.
Флетчер же сообщает о Василии Блаженном, что «он решился упрекнуть покойного царя в его жестокости и во всех угнетениях, каким он подвергал народ». Он также говорит об огоромном уважении русских к юродивым в то время:
«Они (юродивые) ходят совершенно нагие… кроме того, что посредине тела перевязаны лохмотьями, с длинными волосами, распущенными и висящими по плечам, а многие еще с веригами на шее или посредине тела. Их считают пророками и весьма святыми мужами… Если такой человек явно упрекает кого‑нибудь в чем бы то ни было, то ему ничего не возражают, а только говорят, что заслужили это по грехам; если же кто из них, проходя мимо лавки, возьмет что‑нибудь из товаров… то купец, у которого он… что‑либо взял, почтет себя любимым Богом и угодным святому мужу»{486}.
Из этих описаний иностранца мы заключаем, во–первых, что юродивые в Москве были многочисленны, составляли особый разряд и что Церковь канонизировала из них весьма немногих. Впрочем, ввиду преимущественно народного почитания блаженных, установление точного списка канонизированных святых этого чина встречает много трудностей. Во–вторых, общее уважение к ним, не исключавшее, конечно, отдельных случаев насмешки со стороны детей и озорников, самые вериги, носившиеся напоказ, совершенно меняли на Руси смысл древнехристианского юродства. Менее всего это подвиг смирения. В эту эпоху юродство – форма пророческого, в древнееврейском смысле, служения, соединенная с крайней аскезой. Специфически юродство заключается лишь в посмеянии миру. Уже не мир ругается над блаженными, но они ругаются над миром.
Не случайно, что в XVI веке пророческое служение юродивых обретает социальный и даже политический смысл. В эту эпоху иосифлянская иерархия ослабевает в своем долге печалования за опальных и обличения неправды. Юродивые принимают на себя служение древних святителей и подвижников. С другой стороны, этот мирянский чин святости занимает в Церкви место, опустевшее со времени святых князей. Изменение условий государственной жизни вызывает совершенно противоположные формы национального служения. Святые князья строили государство и стремились к осуществлению в нем правды. Московские князья построили это государство крепко и прочно; оно существует силой принуждения, обязанностью службы и не требует святой жертвенности. Церковь передает государственное строительство всецело царю, но неправда, которая торжествует в мире и в государстве, требует корректива христианской совести. И эта совесть выносит свой суд тем свободнее и авторитетнее, чем меньше она связана с миром, чем радикальнее она отрицает мир. Юродивый вместе с князем вошли в Церковь как поборники Христовой правды в социальной жизни.
Общее понижение духовной жизни с середины XVI века не могло не коснуться и юродства. В XVII веке юродивые встречаются уже реже, московские юродивые уже не канонизируются церковно. Юродство, как и монашеская святость, локализуется на Севере, возвращаясь на свою новгородскую родину. Вологда, Тотьма, Каргополь, Архангельск, Вятка – города последних святых юродивых. На Москве власть, и государственная и церковная, начинает подозрительно относиться к юродивым. Она замечает присутствие среди них лже–юродивых, по–настоящему безумных или обманщиков. Происходит и умаление церковных празднеств уже канонизированным святым, таким как Василий Блаженный. Синод вообще перестает канонизировать юродивых. Лишенное духовной поддержки церковной интеллигенции, гонимое полицией, юродство претерпевает процесс вырождения.
XIII. Искусство и религия
Говоря о религиозной жизни в средневековой Руси, мы не можем упустить из виду религиозное искусство того времени. Оно представляет собой величайшее и наиболее самобытное творение русского духа. Пятнадцатое столетие, которое обычно называют золотым веком русской духовности и святости, может быть названо и золотым веком русского искусства. По крайней мере, что касается живописи, то можно смело утверждать, что ни XIX, ни XX века не дали гения, равного иконописцу Андрею Рублеву. Сравнивая средневековое искусство с духовностью нового времени, современный ученый понимает, что оно имело определенные преимущества. В Древней Руси не было глубокого богословия, достойного этого имени. Письменное слово в лучших литературных памятниках – житиях святых, вроде житий Сергия или Стефана, – было еще несовершенно и бессильно передать высшие мистические состояния молитвы. По их неточным описаниям мы можем только догадываться о духовной жизни величайших русских святых. Но в изобразительном искусстве отсутствие классического образования или литературного мастерства не является препятствием. Языковой барьер не мешал русским художникам идти на выучку к греческим живописцам, и через некоторое время (около XV столетия) они уже были в состоянии равняться с этими мастерами.
В Киеве русские мозаичисты и иконописцы были не более чем скромными учениками. Несмотря на их ранние успехи, им недоставало самобытности, и наиболее точным признаком, позволяющим отличать русские работы от их византийских образцов, является более низкий уровень мастерства. В тех редких случаях, когда этот критерий не подходит и разница в уровне становится почти не ощутимой, дух киевского искусства остается греческим, и для характеристики русской религиозности мало что можно извлечь.
Не так безнадежно обстоит дело с монгольским, или средневековым, периодом Руси. Греческая традиция не умерла; греческие художники все еще работали на Руси и формировали школы русских учеников; и все же безошибочно угадывается самобытный национальный гений. Русское религиозное искусство принадлежит к византийскому миру, но внутри него оно занимает собственное место. Не все его черты заимствованы из Греции. Подавляющее их число должно быть отнесено к национальным традициям, и лишь кое–какие – к влиянию Востока.
Национальная школа русского искусства далека от однообразия. Она демонстрирует быстрое развитие, и в ней выделяются несколько местных школ. В настоящее время мы можем проследить произведения отдельных художников и во многих случаях приписать их конкретным именам. Это блестящее достижение современной русской исследовательской школы, зародившейся в начале XX столетия, результат работы одного поколения русских ученых – специалистов по истории искусства. Изложению их достижений следует предпослать хотя бы несколько слов о методе их работы. В противном случае могла бы остаться незамеченной фрагментарность наших знаний о древнерусском искусстве и огромные трудности, до сих пор не позволяющие сделать какие‑либо обобщающие выводы.
В то время как у поклонников и исследователей архитектуры всегда была возможность наблюдать древние храмы, средневековая живопись, как фресковая, так и иконы, практически была недоступной для обозрения и изучения вплоть до самого последнего времени. Из‑за плохих условий хранения, особенно из‑за копоти от лампад и свечей, древние иконы должны были переписываться («поновляться») практически каждые 50 лет. Фрески тоже «поновлялись» или писались заново в совершенно другом стиле. XIX век оказался особенно роковым для русского искусства, и страшнее всего оказались невежественные попытки первых реставраторов. И только в наше время появилось уважение к древнему искусству, растущее понимание его принципов, а новая техника реставрации открыла подлинные произведения русского средневекового искусства.
Эта новая техника состоит, главным образом, в чрезвычайно тщательном и скрупулезном удалении всех позднейших наслоений, покрывающих изначальную иконопись. Это, скорее, процесс расчистки и раскрытия, чем восстановления. Результаты были потрясающими. Темные фигуры священных образов, закованные в массивные серебряные оклады, заново явились нам в свежих и живых красках. Это исследовательское направление русского искусства стало возможным только во втором десятилетии XX столетия. Новый метод реставрации – медленный и трудоемкий процесс. Для того чтобы «раскрыть» одну единственную икону, потребовалось много лет тяжелого труда{487}. Революция 1917 года не положила конец этим ценным исследованиям. Они продолжались, по большей части, силами тех же самых ученых–специалистов; однако публикации постепенно сокращались, до тех пор пока около 1930 года полностью не прекратились. В тридцатые годы было больше уничтожено храмов, чем реставрировано. В Москве и Киеве разрушения были особенно варварскими. Затем грянула вторая мировая война, принесшая новые потери как от рук немцев, так и русских. Нет ничего удивительного в том, что наши знания о древних мастерах и их учениках столь фрагментарны и что эксперты все еще спорят по многим фундаментальным вопросам{488}. Один из них – это проблема распознавания местных школ.
Несомненным является самобытный и национальный характер искусства Новгорода{489}. Город Новгород и вся подвластная ему территория дали наибольшее количество художественных памятников архитектуры и живописи. Культурное превосходство этого города–государства подтверждается прежде всего наличием памятников. Уже распознаны некоторые греческие мастера и их последователи. Более спорным является вопрос о существовании древней и независимой школы в Суздале (или Владимире). Несмотря на авторитет главного защитника Суздальской школы, профессора Игоря Грабаря, ее существование доказано неполностью; местные особенности, якобы присутствующие в ее работах, могут быть объяснены вкладом греческих или других иностранных иконописцев, чья деятельность в этом регионе подкрепляется многочисленными документами. Еще менее известно о других местных центрах, таких как Тверь, Ростов или Устюг. Вплоть до настоящего времени работа современных реставраторов не коснулась многих провинциальных городов. И мы должны дождаться результатов будущих исследований, чтобы оценить степень их художественной независимости.
Современные исследования разрушили раз и навсегда старый предрассудок, а именно анонимность средневекового искусства. Конечно, иконы не подписывались. Но древние монастырские описи и даже летописи упоминают имена выдающихся иконописцев и их труды. Всегда были различимы индивидуальные манеры или стили, хотя с течением времени они часто смешивались. Таким образом, современные исследователи столкнулись с почти неразрешимой, не всегда легкой задачей атрибуции – что можно отнести к конкретным художникам или, по крайней мере, художественным школам? Во многих случаях, как, например, в Новгороде, покрывало анонимности не было поднято. Тем более это относится к памятникам архитектуры.
При рассмотрении средневекового искусства мы не будем касаться чисто художественных, формальных проблем. Нас интересует преломление религиозной жизни в искусстве и значение искусства для духовности. Это не означает, что нас будет интересовать только содержательная сторона иконографии. Как форма, так и содержание рассматриваются только в их взаимозависимости с религиозной жизнью {490}.
Ввиду ограниченности места мы не можем ознакомить читателя с памятниками русского искусства, предполагая, что он имеет о них некоторое представление. Для тех, кто хотел бы узнать больше, предлагаем ознакомиться с несколькими доступными на английском и французском языках монографиями{491}.
Начнем с архитектуры. На Руси она, конечно, не стала высоким искусством в том смысле, в каком это справедливо для византийской или западной средневековой архитектуры. В то время как русская иконопись может претендовать на вселенское значение, русские храмы представляют собой очаровательные памятники, имеющие лишь местное значение. Искусство зодчества ни в коем случае не было варварским. Оно восхищает своей гармоничностью, чутьем пропорций и высоким декоративным мастерством. Но мы тщетно стали бы искать среди них величия Святой Софии или соборов Наумбурга и Реймса.
Архитектура в средневековой Руси – это продолжение и развитие (по крайней мере, в Новгороде) стиля, созданного в Киевской Руси. Действительно, она не является чем‑то совершенно новым и в то же время не есть результат переноса на русскую почву византийских форм. Все русские церкви, подобно византийским, представляют собой центрально–купольные строения с квадратным основанием. В Древней Руси не было построено ни одной базилики или вытянутого в длину прямоугольного храма, но на этом и заканчивается сходство с византийскими храмами. Возведение храмов с большими куполами было технически трудным для русских каменщиков. Купол, возвышающийся над храмом как символ неба, сошедшего на землю, уступает место более скромному куполу, который может интерпретироваться, в лучшем случае, как подобие небес. Русские храмы Киевского и последующих периодов были небольшими по периметру, но зато более устремленными ввысь. Как правило, это был вытянутый вверх куб с тремя апсидами с восточной стороны. Гладкое однообразие высоких стен нарушается узкими оконными проемами и системой горизонтальных и вертикальных декоративных линий. Все здание увенчано не одним, а многими – обычно пятью куполами – цилиндрическими башенками с округленными вершинами («главами»). За исключением главного купола, остальные носят чисто декоративный характер, и внутри здания им не соответствует никаких сферических углублений в потолке. Главные черты древнерусских храмов – простота и изящество. Изящество достигается чрезвычайной утонченностью внешнего декора в храмах Владимира и близлежащих к нему областей на северо–востоке России.
Что касается происхождения этого типа архитектуры, то выдвинуты различные теории. Поражает сходство маленьких, тянущихся вверх, каменных храмов Руси и армянских и грузинских храмов на Кавказе. Весьма вероятно, что и те и другие имеют восточные истоки. Было также замечено сходство с западной романской (норманской) архитектурой. Но это сходство простирается лишь на декоративные детали, что не удивительно, поскольку летописи свидетельствуют об участии западных мастеров в строительстве русских храмов, по крайней мере во Владимире. О чисто русском происхождении каменного зодчества на Руси не может быть и речи, поскольку восточные славяне строили только из дерева.
Удар, нанесенный монгольским нашествием, оказался фатальным, прервав расцвет этого искусства в северо–восточной (Владимирской) Руси. На протяжении многих поколений каменное строительство было прекращено. Когда же возобновилось, то чаще всего ограничивалось воспроизведением старых форм, только в меньших масштабах. Утрата технического мастерства стало причиной того, что более ответственные работы поручались зодчим, нанимавшимся со стороны, в частности из Новгорода и Пскова.
Только в Новгороде, который не пострадал от нашествия, церковное строительство не прерывалось. Однако даже в Новгороде в течение XIII века было построено немного. Большинство выстроенных храмов принадлежат к древнему типу в упрощенной форме. В Новгороде все еще можно видеть многие из этих маленьких церквушек с одной апсидой и без каких‑либо внешних украшений, что, однако, не лишает их определенного очарования. Но во второй половине XIV века произошел сдвиг, был дан импульс к дальнейшему развитию. Начинают возводиться храмы больших размеров, с богатым декором и более сложной конфигурации, хотя и не изменяющие древним образцам. Эти два типа храмов – богатые и скромные, сосуществовали в Новгороде бок о бок до конца новгородской независимости. И, однако, ни одно новое сооружение не могло соперничать с древним почитаемым собором святой Софии, который навсегда остался свидетельством теснейшей связи с Византией и ее художественными традициями.
И все же, в области архитектуры постепенно стала вырисовываться другая традиция – национальная, древнерусская. Она не была заметной в Киеве; здесь, на севере, ее присутствие ощутимо. По всей территории, принадлежавшей Новгороду, русские строили из дерева, так же как делают это сейчас, и достигли высокого мастерства. В частности, новгородцы были известны как искусные плотники. Их художественное мастерство, особенно декоративная резьба, заслуживает восхищения. Стоит вспомнить, что вплоть до XVII века у русского плотника не было пилы, и эта прекрасная резьба выполнялась топором.








