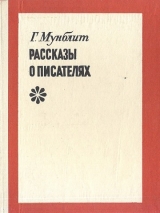
Текст книги "Рассказы о писателях"
Автор книги: Георгий Мунблит
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Появление его не вызвало особого интереса, несмотря на то что в приезжем узнали автора ставшей уже знаменитой к этому времени книги, – авторы хороших книг были не так уж редки тогда в писательских домах отдыха. Но в ближайшие дни всеобщее любопытство было разбужено.
Как уже говорилось, Антон Семенович приехал под вечер, а ранним утром следующего дня все собравшиеся на веранде в ожидании завтрака могли наблюдать, как он появился на лужайке перед домом, сгибаясь под тяжестью огромной пишущей машинки канцелярского образца. Поставив ее на скамью, он куда-то исчез и вскоре вернулся, неся небольшой столик и стул. И уже через час к воробьиному стрекотанию портативных машинок, принятых на вооружение другими художниками слова, присоединился могучий грохот печатного агрегата, на котором работал Макаренко.
Удивительной показалась всем нам и эта машинка, и то, что работал Антон Семенович, несмотря на жару, все в том же тщательно отглаженном, застегнутом на все пуговицы парусиновом костюме и ослепительно начищенных сапогах, и то, что, в отличие от обычного писательского стремления найти для работы местечко потише и поукромнее, он писал, сидя на самом людном месте, совершенно не обращая внимания на сновавших вокруг обитателей и работников дома.
Прошло еще несколько дней, и наше представление о новом отдыхающем как о человеке особенном окончательно укрепилось.
Для Макаренко не существовало часов отдыха, морских и мирских соблазнов, жары, потребности пообщаться с себе подобными. Он не интересовался суждениями соседей по столу о международном положении, о литературе, даже о его собственной книге. Он ел, спал и работал. И молчал. Упорно, непоколебимо молчал, отделываясь односложными замечаниями в ответ на все попытки присяжных говорунов втянуть его в разговор.
С утра до поздней ночи он сидел за машинкой, делая перерывы лишь для того, чтобы передвинуть свой столик в тень. И только изредка, в сумерки, его подтянутую фигуру можно было видеть на тропинке, которая вела в гору, мимо теннисных кортов и волейбольных площадок.
Но однажды, в один из таких вечеров, отступив от обычного своего распорядка, Макаренко не отправился на прогулку, а свернул с тропинки и уселся на одной из скамеек, врытых в землю рядом с волейбольной площадкой, где шла обычная в это время игра.
Играли в тот вечер с обычным азартом и гамом. Особенно волновался и горевал по поводу каждого проигранного мяча поэт и драматург Андрей Глоба, известный всем своей голубиной кротостью, что не мешало ему на волейбольной площадке становиться свирепее тигра.
К тому времени, как Макаренко появился на площадке, атмосфера здесь накалилась до крайности. Дело было в том, что в одной команде с Андреем Павловичем оказались двое подростков (кто-то сказал нам потом, что это были сыновья директора дома отдыха), которые решительно не желали серьезно относиться к игре. Они дурачились, балагурили, били по мячу кое-как и пропускали мячи один за другим, даже и не думая принимать близко к сердцу интересы своей шестерки. Некоторое время все это сходило им с рук безнаказанно, но наконец разразилась буря.
Андрей Павлович остановил игру и голосом, дрожащим от горя и ярости, обращаясь к мальчуганам, воскликнул:
– Ребята, я вас прошу, играйте как следует! А если не хотите, убирайтесь с площадки! Вы нам все портите!
– А что она, ваша, что ли, площадка? – с невозмутимой наглостью процедил один из подростков.
– Немедленно убирайтесь отсюда! Слышите? – воскликнул Глоба, впадая в обычное свое волейбольное неистовство.
Мальчуганы на мгновение опешили, но тут на помощь им пришел широколицый, очкастый, заросший черными жесткими волосами литературный критик, которому не раз попадало от Андрея Павловича за суматошную и бессмысленную беготню во время игры.
Критик стал доказывать, что к игре не следует относиться серьезнее, чем она того заслуживает, что ребята поэтому ничего дурного не совершили и что, наконец, он не потерпит диктаторства на волейбольной площадке. Кроме того, он отпустил какое-то весьма язвительное замечание о «непедагогических выкриках», которые позволяют себе некоторые лица, без всякого на то права и основания склонные всех поучать.
Было совершенно очевидно, что замечание о «непедагогических выкриках» было рассчитано на одобрение Макаренко, который и ухом не повел во время всей этой перебранки.
Игра возобновилась, но очень скоро стало ясно, что теперь уж с мальчуганами сладу не будет. Они дурашливо гоготали, били по мячу ногами – словом, совсем закусили удила. Андрей Павлович чуть не плакал, все мы пришли в уныние, и только очкастый критик пытался делать вид, что все идет так, как надо.
Увы, именно ему вскоре пришлось убедиться в том, как жестоко он ошибался. Проиграв очередную подачу и делая вид, что перебрасывает мяч под сеткой на противоположную сторону, один из подростков явно рассчитанным движением изо всей силы стукнул бедного критика мячом по затылку, да так, что тот зашатался, поводя перед собой растопыренными руками.
На площадке воцарилась мертвая тишина. Все замерли. И тут Макаренко поднялся со скамьи.
Сколько я помню, он не сделал никакого жеста, даже, кажется, не повысил голоса. Он лишь шагнул вперед, пристально поглядев на провинившегося мальчугана и негромко сказал:
– Убирайтесь вон с площадки. Оба. Немедленно.
– А вы кто такой? – гнусавым, насморочным голосом заверещал тот из мальчишек, что был постарше. – Вот скажу отцу... Посмотрим, кто кого выгонит!
И тут мы увидели Макаренко таким, каким минуту назад даже и представить себе невозможно было этого корректного, сдержанного, молчаливого человека. Он выпрямился, стекла его очков сверкнули, и голосом, каким, вероятно, подают кавалерийскую команду в степи, оглушительно гаркнул:
– Вон!
Гаркнул он так, что подростков словно смыло с лица земли. Они исчезли, как дурной сон, будто их никогда и не было.
И тогда, неожиданно улыбнувшись, Антон Семенович повернулся к очкастому критику.
– Очень много вреда молодежи приносят такие защитники, – сказал он с мягким пренебрежением. – И знаете, я бы на вашем месте ни при каких обстоятельствах не пробовал браться за педагогическую работу. Она вам противопоказана, все равно как слепому – управление автомобилем. Вы меня понимаете?
– Ничего я не понимаю, – буркнул очкастый смущенно. – Что это за методы такие – горланить на детей, как на собак?
– С детьми следует быть справедливыми, – сказал
Макаренко, подняв перед собой очень длинный и очень строгий палец. – Это главное. А кричать на них пришлось именно потому, что вы несправедливо взяли их под защиту.
И, круто повернувшись на каблуках, он зашагал прочь от нас по тропинке, ведущей в гору.
* * *
Вторая моя встреча с Антоном Семеновичем произошла в том же году, несколькими месяцами позднее, в одной из московских редакций.
В большой приемной, уставленной тяжелыми коваными креслами и диванами, было пусто и против обыкновения тихо. За окнами валил пушистый, словно бы даже теплый, медленный снег.
Антон Семенович вошел, протирая стекла очков, и, кивнув мне, уселся рядом. Он выглядел возбужденным. Чувствовалось, что ему необходим слушатель. И действительно, отдышавшись, он поглядел на меня оценивающим взглядом, видимо прикидывая, годен ли я для предстоящего разговора, и, словно отвечая на мой вопрос, промолвил:
– Только что из суда. Пригласили в качестве, так сказать, специалиста по малолетним правонарушителям. И ведь какое счастье, что пригласили! Вы в юриспруденции что-нибудь смыслите?
Увы, я ничего не смыслил в юриспруденции, но это не помешало Антону Семеновичу начать свой рассказ.
– Вообразите себе такой состав преступления, или нe знаю, как это у них называется, – заговорил он, потрясая сжатой в кулак рукой. – Четверо мальчишек-восьмиклассников вечером – заметьте: не ночью, а вечером, когда на улице полно народу, – взломали продуктовый ларек и вытащили бутылку портвейна и круг колбасы. Вино выпили, колбасу съели и... что бы вы думали, учинили после всего этого? Сбили замок у сарая на соседнем дворе, выволокли салазки и принялись кататься с горы. За этим занятием их всех и застукали. Нравится? Да уж конечно, хорошего мало. Но вы мне вот что скажите. Как, по-вашему, все это происшествие называется на юридическом языке? Кража со взломом – вот как оно называется! Да еще двойная кража к тому же. И причитается за правонарушения этого рода, даже принимая во внимание возраст учинивших его, несколько лет тюрьмы.
Макаренко помолчал, видимо заново переживая обстоятельства дела, о котором рассказывал. Потом заговорил снова:
– Сижу, понимаете, слушаю и диву даюсь. Люди серьезнейшим образом доискиваются, имело место преступление или нет. Допрашивают, уличают, сопоставляют. А никто ничего и не отрицает. Мальчишки сознались, сторож свидетельствует, чего еще? И, можете себе представить, никому и в голову не придет спросить себя: правильно ли называть эту ребячью выходку преступлением? Или это не преступление вовсе, а шалость? Глупая, граничащая с преступлением, но шалость! Вы вспомните про салазки, да еще взятые на соседнем дворе. По-моему, чрезвычайно характерная деталь. А это ли не характерно? Ведь помимо круга колбасы и бутылки дрянного портвейна в ларьке было и еще кое-что?! Так ведь не взяли! Ничего больше не взяли! Значит, цели-то были очень уж недалеко идущие, как вы считаете? Вот про это самое я и произнес речь на суде. И уже после моего выступления выяснилось, что в зале сидят школьные учителя и товарищи взломщиков, и пришли они, чтобы засвидетельствовать, что взломщики эти никогда и ни в чем дурном доселе замечены не были и что все четверо – отличные ребята, хорошие товарищи. Пришли, чтобы засвидетельствовать, а сидят и молчат. Вас это не удивляет?
Меня это не удивляло, потому что мне была известна сила инерции, иной раз клонящей дело в одну, а иной раз в другую сторону, когда встать и сказать слово вразрез с тем, что говорится вокруг, труднее, чем броситься В огонь или в ледяную воду. Что-то похожее я и попытался высказать. Макаренко кивнул головой.
– Это вы правильно говорите? – промолвил он. – но откуда инерция эта самая взялась? Ведь знаете, чего не хватало судье, который вел дело? Здравого смысла – вот чего ему не хватало! Способности на мгновение отвлечься от всяких там процессуальных хитросплетений и взглянуть на вещи попросту, по-человечески, со стороны. А взгляни он так, сразу бы ему стало ясно, что перед ним мальчишки, которые до смерти напуганы тем, что натворили, и которые не только сами никогда в жизни не учинят ничего подобного, но и детям своим и внукам закажут близко подходить к продуктовым палаткам. Профессиональное отношение к делу – необходимейшая вещь, но иногда человек должен уметь... Одним словом, помните – у Пруткова сказано: «Специалист подобен флюсу». Вам понятно?
Мне было понятно. Убедившись в этом, Антон Семенович подмигнул мне, осмотрелся по сторонам, словно боясь, что кто-нибудь нас может услышать, и прошептал:
– Помните, тогда в Ялте... с мальчишками на волейбольной площадке?
Я с удивлением посмотрел на него, не сразу сообразив, в какой связи он вспомнил то происшествие.
– Так вот... Я тогда действительно поступил непедагогично, – сказал Макаренко и коротко рассмеялся. – Непедагогично, но правильно. Вы согласны со мной?
Я был согласен. Больше того, мне вдруг подумалось, что наш разговор становится еще интереснее и серьезнее, чем мне представлялось вначале.
– И вот что я вам еще скажу, – промолвил Макаренко, сжав губы. Он иногда сжимал их в ниточку, отчего суховатое его лицо становилось еще замкнутее и суше. – Вот что я вам скажу. Не приходило ли вам в голову, что высшая профессиональность состоит именно в том, чтобы уметь без вреда для дела стать иногда выше этого самого профессионального к нему отношения? И, будучи во всеоружии знания и понимания в своей специальности, суметь взглянуть на вещи прямо и просто, вооружившись одним только здравым смыслом? Вы не согласны?
Я был согласен и с этим. Но мне не терпелось узнать, чем кончилось судебное разбирательство, в котором Макаренко сегодня участвовал.
– Чем кончилось? А тем, чем должно было кончиться. Решили совершенно правильно, – отвечал он на мой вопрос. – Приговорили к году условно. Что? Да нет... можете быть спокойны. Легче себе представить в роли взломщиков нас с вами, чем этих ребят во всю остальную их жизнь. – И, помолчав, Антон Семенович сказал доверительно: – Если же говорить прямо, то мое сегодняшнее выступление в суде я считаю одним из самых важных дел моей жизни.
* * *
Рассказав обо всем этом, я вдруг подумал, что суждения Антона Семеновича, высказанные им в совершенно частном разговоре, могут быть восприняты некоторыми теоретиками как новые начертания на педагогических скрижалях. Дело в том, что имя Макаренко очень часто упоминается как имя пророка и законоучителя. И за всем этим иногда забывают, что Макаренко был живым, горячим, размышляющим человеком, и далеко не все его рассуждения следует возводить в степень законов.
И еще одно. «Педагогическая поэма», помимо узко воспитательного своего значения, попросту великолепная книга, и это, пожалуй, не менее важно в ней, чем все остальное.
Это очень прискорбно, когда имена некоторых авторов, названия их книг и назидательно препарированный их смысл успевают навязнуть в зубах еще прежде, чем эти книги успеешь прочесть. Памятуя об этом, критикам вашим следует соблюдать осторожность не только в спорах с прозаиками и поэтами, но и в пропаганде их замыслов, не только в строгостях, но и в ласках.
Решительно, в способах, какими следует прославлять писателей, есть какая-то тайна. И если не знать здесь меры, даже от большого художника может остаться одно только имя.
Было бы очень прискорбно, если бы это случилось с Макаренко. Он ведь не виноват в том, что некоторым его последователям дороги не столько его сочинения и мысли, сколько возможность стать первосвященниками в храме, воздвигнутом в память о нем.
1959
ПОИСКИ НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ
Это чувство знакомо всем, кто после долгих странствий возвращается в родные места. Все кажется меньше, бледнее и будничнее, чем представлялось в воображении. Приземистее, чем прежде, выглядят дома, более узкими тротуары, не такими раскидистыми деревья. И хоть я никогда не бывал прежде в Париже на улице Кардинала Лемуана, а только читал о ней в удивительной книге Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», я испытал это чувство в сильнейшей степени в тот сумрачный день ранней весны, когда мы с моей спутницей, пройдя несколько десятков шагов по узенькому тротуару этой самой улицы Лемуана, остановились перед домом № 74, у самой площади Контрэскарп, такой крохотной, что ее даже и площадью можно было назвать лишь с некоторой натяжкой.
Дом тоже был мал и невзрачен, узкий, четырехэтажный, обшарпанный, может быть и обычный в этом районе Парижа, но какой-то уж слишком неподобающий для памяти великого писателя, жившего здесь когда-то. Мы протиснулись в узкую парадную дверь с ржаво проскрежетавшей нам вслед пружиной и очутились в узеньком коридорчике, в котором, слева от лестницы, другая стеклянная дверь вела в квартиру консьержки. Но прежде чем продолжить рассказ о том, что за этим последовало, я позволю себе сказать несколько слов о моем отношении к экскурсиям такого рода вообще. Речь идет о посещении мест, которые хранят память о замечательных людях и будто бы с особенной яркостью вызывают в воображении их образ. Как мне ни прискорбно в этом сознаться, но я почти не испытываю при этом приличествующего случаю священного трепета. Мне представляется, что лучший способ «прикоснуться» к писателю – это лишний раз перечитать его книги. Что же до мест, где он жил и работал, то они, как мне кажется, заслуживают внимания лишь в том случае, если сами по себе чем-либо примечательны.
Поэтому, войдя в дом, где в двадцатых годах Хемингуэй прожил, по собственному его утверждению, самые трудные и самые светлые дни своей голодной беспечной юности, я не собирался разыскивать бывшую его квартиру, где теперь, вероятно, жили десятые по счету жильцы. Целью моей было побродить по узким уличкам Монпарнаса, судя по всему почти не изменившимся за последние сорок лет, побеседовать с теми из их обитателей, которые еще помнят писателя, а главное – попытаться ощутить ту атмосферу праздника, о которой писал Хемингуэй и которую, как он утверждал, ему удалось сохранить на всю жизнь.
Итак, постояв минуту у стеклянной двери консьержки в расчете на то, что она заинтересуется нами, и установив, что множество раз описанное любопытство представительниц этого сословия сильно преувеличено, мы сами постучались к ней и вошли в маленькую комнатку, где за покрытым клеенкой столом сидели сама хозяйка квартиры, ее муж и их сынишка лет шести, тихонький благонравный мальчик с очень городским цветом лица и большими грустными глазами.
Взрослые были заняты делом – наклеивали пестрые фирменные значки на белые целлулоидные каскетки, предназначавшиеся, как мне объяснили, для разносчиков рекламных плакатов. Работа, видимо, была срочная, потому что, отвечая на вопросы моей спутницы и мои, которые она им переводила, консьержка и ее муж ни на мгновение не прерывали своего дела.
Из ответов же их сразу выяснилось, что мы в своем любопытстве не одиноки. Оказывается, некоторое время назад в одной из парижских газет появилась заметка о доме на улице Лемуана, и теперь нашу собеседницу буквально осаждают любопытные почитатели Хемингуэя. К сожалению, ничего интересного ни им, ни нам она сообщить не может, так как работает в этом доме недавно и об американском писателе, жившем здесь когда-то, услышала только теперь, после появления заметки в газете. Кстати, фамилию этого неизвестного ей писателя консьержка произносила на французский манер – Эминуэй, – и это была, пожалуй, единственная любопытная подробность, какую мне удалось извлечь из знакомства с нею. И только когда мы совсем уже собрались уходить, она вспомнила, что в их доме есть один человек, живущий здесь еще с времен Хемингуэя. Услышав это, моя спутница торопливо перевела мне сообщение консьержки и сразу же закидала ее вопросами.
До сих пор, сопровождая меня в качестве проводника и переводчика, Елизавета Ивановна выполняла эти добровольно взятые на себя обязанности любезно и пунктуально, явно не веря в успех моего предприятия и без истинной в нем заинтересованности. Теперь же в ней, видимо, проснулась страсть, свойственная всем следопытам, и в голосе ее появились нотки, позволяющие думать, что равнодушию ее приходит конец.
К сожалению, наши надежды оказались напрасными. Человек, о котором шла речь, – по словам консьержки, нелюдимый и хмурый старик, – прочтя заметку в газете, страшно разгневался. К величайшей его досаде, он никак не мог сообщить ничего сколько-нибудь существенного об американце, жившем здесь сорок лет назад. Старику удалось припомнить лишь то, что американец этот был высок и широк в плечах да к тому же еще нестерпимо громыхал сапожищами, поднимаясь к себе на четвертый этаж. Этим и ограничивались его воспоминания. Да и кому тогда могло прийти в голову интересоваться этим молодчиком и его сочинениями! Мало ли в Париже искателей счастья, марающих у себя на чердаках холсты и бумагу! А теперь американец стал всемирно известным писателем и репортеры ходят сюда стадами, чтобы хоть что-нибудь о нем разузнать. Старик из третьего этажа был зол на весь свет за то, что так глупо опростоволосился, и гонит прочь всех, кто заговаривает с ним о его бывшем соседе.
Нет, консьержка не советовала нам связываться со стариком, уверяя, что мы непременно нарвемся на грубость, и мы с Елизаветой Ивановной решили не искушать судьбу. Попрощавшись с хозяевами, мы вышли из жарко натопленной комнатушки, причем, пропустив мою спутницу вперед, я счел своим долгом сделать «козу» мальчугану, все это время смирненько простоявшему у стола. Но он ответил на это всего лишь вежливой и бледной улыбкой, дав мне понять, что не одобряет моей фамильярности.
Очутившись на тротуаре, мы остановились. Визит в дом на улице Лемуана, по всем данным, следовало считать неудачным, но мы оба почему-то повеселели. И перед тем как отправиться на поиски книжной лавки Сильвии Бич, решили обойти площадь Контрэскарп и спуститься от нее, по «узкой торговой улице Муфтар», которая и теперь, как во времена Хемингуэя, оставалась такой же узкой и такой же торговой.
Площадь, как я уже говорил, была до смешного мала, немногим больше баскетбольной площадки, и смотреть на ней было совершенно нечего, если не считать нескольких молодых маляров в перепачканных комбинезонах, расположившихся позавтракать, сидя прямо на земле, или, вернее, на решетке метро, откуда поднималась волна теплого воздуха. Но, как известно, завтракающие маляры не любят, когда их разглядывают, и, чтобы не смущать их, мы сразу же двинулись дальше. Именно этим путем множество раз ходил Хемингуэй и даже описал его в своей книге.
«Я прошел мимо лицея Генриха Четвертого, – пишет он, – мимо старинной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, пересек открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытия, свернул направо и вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель».
Мы поступили так же. Но, миновав бульвар Сен-Мишель, мы не пошли по нему до бульвара Сен-Жермен, как это сделал Хемингуэй, идучи в «уютное, чистое и теплое кафе», где написал в тот «очень холодный, ветреный и неуютный день» свой рассказ «У нас в Мичигане», а свернули к театру Одеон и по узкой улочке, начинавшейся за театром, дошли до дома № 12, где помещалась сорок лет назад книжная лавка и библиотека Сильвии Бич, под названием «Шекспир и компания».
Погода была совершенно такая же, как сорок лет назад, хотя тогда «внезапно кончилась осень», а теперь – начиналась весна. Ветер гнал по небу клочья облаков, а по улицам – пыль и обрывки бумаги, и, остановившись перед витриной лавки, стекло которой, видимо, очень давно не протиралось и которая выглядела давно и как-то безнадежно заброшенной, мы с Елизаветой Ивановной вновь усомнились в успехе нашего предприятия.
Но не такова была моя спутница, чтобы поддаваться элегическим чувствам. Сойдя на мостовую и окинув взглядом поле предстоящего боя, она уверенно подошла к двери, расположенной по соседству с витриной, и, жестом пригласив меня следовать за собой, толкнула ее. И снова мы оказались в узком коридоре, и снова в глубине его увидели лестницу, ведущую наверх, а слева – дверь в квартиру консьержки.
Но, может быть, читатель не помнит, как описана у Хемингуэя его первая встреча с Сильвией Бич, «лучше которой к нему никто никогда не относился»?
«Когда я впервые пришел в ее лавку, – рассказывает он, – я держался очень робко – у меня не хватало денег, чтобы записаться в библиотеку. Сильвия сказала, что я могу внести залог позже, когда мне будет удобнее, завела на меня карточку и предложила взять столько книг, сколько я захочу.
У нее не было никаких оснований доверять мне. Она меня не знала, адрес же, который я ей назвал, – улица Кардинала Лемуана, 74, – говорил только о бедности. И все же Сильвия была мила, обаятельна и приветлива, а за ее спиной поднимались к потолку и тянулись в соседнюю комнату, выходившую окнами во двор, бесчисленные книжные полки со всем богатством ее библиотеки.
Я начал с Тургенева и взял два тома «Записок охотника» и, если не ошибаюсь, один из ранних романов Д. Г. Лоуренса «Сыновья и любовники», но Сильвия предложила мне еще несколько книг. Я выбрал «Войну и мир» в переводе Констанс Гарнетт и Достоевского «Игрок» и другие рассказы.
– Если вы собираетесь прочитать все это, то не скоро зайдете снова, – сказала Сильвия.
– Я приду заплатить, – ответил я. – У меня дома есть деньги.
– Я не это имела в виду, – сказала она. – Заплатите, когда вам будет удобно».
Так началась эта дружба, о которой, с ему одному присущим умением – в немногих, подчеркнуто обыкновенных и внешне суховатых словах передавать сложные и нежные чувства – рассказал Хемингуэй в своем «Празднике», щедро вознаградив маленькую библиотекаршу за добро, каким она его одарила когда-то.
И вот теперь нам предстояло узнать, как сложилась судьба Сильвии Бич, ненадолго пережившей своего друга.
– Ну как же мне не помнить ее! – воскликнула наша новая собеседница, консьержка дома № 12 по улице Одеон, изможденная женщина, похожая одновременно на балерину и на прачку Дега, не проявив ровно никакого интереса к нашему появлению в ее совсем уже крохотной комнатушке, где она сидела в обществе своих четверых неправдоподобно красивых, чистеньких ребятишек.
Да и откуда было взяться у нее интересу к вещам, непосредственно ее не касавшимся, в этот день, когда ей по горло хватало собственных неудач и горестных размышлений, о которых вскоре она нам рассказала сама.
– Здорово мне удружила ваша Сильвия Бич! – так начала она свой рассказ, в котором ее собственные злоключения лишь изредка перемежались воспоминаниями об интересующих нас предметах. – Нет, вы не думайте, я к ней всегда очень хорошо относилась и сейчас добром вспоминаю ее. Но отдать богу душу в тот самый день, когда мы крестили нашу Симону!.. Я понимаю, она это сделала не нарочно, но вы должны согласиться, что это было очень некстати... Симона у меня третья, ей недавно исполнилось шесть, значит, Сильвия умерла ровно шесть лет назад. А всего у меня их пятеро, эти и еще старшая. Ей одиннадцать. Она сейчас в школе.
За этим сообщением, которое Елизавета Ивановна торопливо и кратко перевела, последовала длиннейшая тирада, как мне тут же было объяснено, не имевшая никакого отношения к Хемингуэю и Сильвии Бич.
Я попросил, чтобы мне хотя бы в двух словах сказали, о чем идет речь, и узнал, что нашу хозяйку постигла беда.
Она работает в этом доме вот уже скоро одиннадцать лет. Дом старый, и живут в нем по преимуществу старики. Но вот несколько времени назад все они выплатили стоимость своих квартир и таким образом выкупили дом у его владельца. И начали с того, что решили упразднить должность консьержки. Виданное ли это дело! И теперь нашей новой знакомой и ее мужу – он механик, чинит все, что придется: водопровод, электричество, дверные замки, детские коляски, велосипеды – предстоит подыскивать себе новое жилье и работу, потому что чертовым старикам зачем-то понадобились эти каморки. Пусть бы попробовал кто-нибудь из них поискать пристанище с пятью ребятишками!
Горемычная женщина еще долго говорила, сколько я мог понять, все о том же, и ее сетования показались скучными не только мне, но и собственным ее детям, которые, виновато поглядывая на мать и стараясь делать это как можно незаметнее, выскользнули один за другим в соседнюю комнату.
Но тут наконец открылась дверь, и моим испытаниям пришел конец. Вошел муж хозяйки, и сразу стало понятно, почему так красивы ее ребята, откуда взялся в этой крохотной, совершенно нищенской квартирке старенький телевизор на высоком шкафчике против окна и, наконец, кому принадлежит альбом с марками, лежащий на подоконнике. А главное, разговор снова вернулся к Сильвии Бич и к дружбе наших хозяев с этой, как они утверждали, необыкновенно милой, но чудаковатой американкой.
Не будем осуждать консьержку дома № 12 по улице Одеон за ее приверженность к разговорам о житейских невзгодах. Мне не раз случалось замечать, что именно эта так называемая приземленность некоторых женщин позволяла их мужьям даже в зрелые годы предаваться мальчишеским увлечениям, сохранять склонность к мечтам и интересоваться вещами, не имеющими прямого отношения к хлебу насущному. И если с приходом главы семьи мы заговорили наконец о делах, не имевших прямого отношения к злоключениям наших хозяев, это следует считать не заслугой пришедшего, а скорее счастливой его привилегией. Кто знает, может быть, его жена тоже была бы не прочь побеседовать с нами об отвлеченных предметах, но ведь, как говорится, у кого что болит...
Итак, разговор наконец сосредоточился на Сильвии
Бич, и неожиданно на свет появились принесенные из соседней комнаты три ее книжки.
Они были аккуратно завернуты в старую наволочку и, видимо, представляли собой семейную реликвию. Дарственных надписей я на них не обнаружил, но, по словам консьержки и ее мужа, все три книжки были подарены им в разное время самой Сильвией, которая всегда была к ним добра и очень баловала их ребятишек.
Одна из книжек называлась «Шекспир и компания», была издана в Нью-Йорке в 1957 году и повествовала о посетителях и друзьях библиотеки Сильвии Бич. Их фотографическими портретами она и была иллюстрирована. Другая была посвящена американским литераторам и их жизни в Париже, а третья – странствиям самой Сильвии, видимо исколесившей немало стран и морей.
В одной из этих книг, уже не помню, в какой именно, мы увидели фотографию, где молодая Сильвия была снята рядом с совсем еще молодым Хемингуэем, голова у которого была забинтована широкой марлевой повязкой. Настроение у него тем не менее, судя по широкой улыбке, было в тот день совершенно безоблачное. Я спросил, известна ли нашим хозяевам история этого снимка, и они наперебой, видимо со слов Сильвии, принялись рассказывать, что незадолго до того, как была сделана эта фотография, друг Сильвии вздумал взобраться по фасаду своего дома на второй этаж (кажется, это было сделано на пари) и его стукнуло по голове оторвавшимся ставнем, что, впрочем, не помешало успеху предприятия в целом.
На другой фотографии Сильвия вместе с Скоттом Фицджеральдом сидели рядышком в традиционных фотографических позах; на третьей, гораздо более поздней, она была снята на фоне своего магазина уже старенькая, с седой головой, и в каком-то очень американском костюме. Были здесь портреты Джеймса Джойса, Гертруды Стайн, Эзры Паунда и многих других литераторов, но главная прелесть всех этих фотографий была в их непререкаемой подлинности, подтверждающей достоверность всего, о чем рассказано в парижских записках Хемингуэя, хотя сам он в предисловии к ним почему-то предлагает читателю, «если тот пожелает», считать его книгу вымыслом.
Вместе со всеми остальными читателями я и прежде понимал, что предложение это – шутка и что «Праздник» не что иное, как рассказ об истинных происшествиях и живых людях, но по-настоящему убедиться в этом мне удалось только в тот день, когда я побывал у консьержки на улице Одеон, перелистал книжки Сильвии Бич и посмотрел фотографии, которыми они иллюстрированы.
Но мне хочется привести здесь заключительную главку из «Шекспира и компании», которая играет в этой книге роль эпилога. Она занимает всего полстранички, и я приведу ее целиком. Называется главка «Хемингуэй освобождает улицу Одеон», и рассказано в ней о встрече друзей в последние дни войны, когда, как известно, Хемингуэй оказался в Париже с отрядом французских партизан, обогнав при этом даже передовые отряды союзных войск, к которым был прикомандирован в качестве военного корреспондента.








