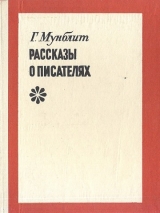
Текст книги "Рассказы о писателях"
Автор книги: Георгий Мунблит
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Выслушав наставления своего нежданного литературного покровителя, Исаак Эммануилович встал с кресла и благодушно заметил:
– Слушай, дружок, а не поговорить ли нам о чем-нибудь другом? О литературе у тебя как-то не получается.
Покровитель не сразу понял, что ему было сказано. Он привык фамильярничать сам, но никогда и не предполагал, что ему могут ответить тем же. А пока он собирался с мыслями, Бабель вежливейшим образом откланялся и ушел.
Говорят, беднягу долго потом отпаивали валерьянкой, утешая рассказами о том, как упорен Бабель в своих заблуждениях и как с ним и прежде ничего не могли поделать все, пытавшиеся обратить его на путь истины.
Что же до виновника всех этих треволнений, то он и после описанного здесь разговора продолжал проводить жизнь в разъездах по колхозам и городкам, не всегда отмеченным на карте кружками, продолжал завязывать знакомства и дружбы с людьми самых разнообразных профессий, продолжал жадно всматриваться в приметы нового в душевном обиходе советских людей, приметы, о которых он и прежде так великолепно писал в «Карле-Янкеле», в «Нефти», в «Марии».
Однажды мне посчастливилось присутствовать при беседе Исаака Эммануиловича с молодыми писателями. Он говорил в этот вечер о разном и, в частности, о столь необходимом писателю любопытстве и способности удивляться.
Но самым важным мне показались его высказывания о Толстом. Я записал их и перескажу сейчас с почти стенографической точностью.
– Я очень удивился, – сказал тогда Бабель, – узнав, что Лев Николаевич весил всего три с половиной пуда. Но потом я понял, что это были три с половиной пуда чистой литературы.
– Что это значит? – спросил кто-то из сидевших за большим столом, за которым велась беседа.
Мне показалось, что Бабель не расслышал этого вопроса.
Во всяком случае, начало его следующей фразы было не похоже на ответ человеку из-за стола.
– У меня всегда, когда я читал Толстого, было такое чувство, словно мир пишет им, – произнес он медленно и задумчиво. – Понимаете? Его книги выглядят так, будто существование великого множества самых разных людей, животных, растений, облаков, гор, созвездий пролилось сквозь писателя на бумагу. Как бы это сказать поточнее?.. Вам известно, что в учебниках физики называют «проводниками» и что имеют в виду, когда говорят о сопротивлении, которое оказывает проводник электрическому току, текущему в нем? Так вот, совершенно так же, как и в случае с электрическим током, среди писателей есть проводники, более или менее близкие к идеальным. Толстой был идеальным проводником именно потому, что он был весь из чистой литературы.
Не надо думать, что писательский талант состоит в умении рифмовать или сочинять замысловатые, неожиданные эпитеты и метафоры. Я сам этим когда-то болел и до сих пор давлю на себе эти самые метафоры, как некоторые не очень чистоплотные люди давят на себе насекомых.
И именно поэтому я говорю вам! Как можно меньше опосредствований, преломлений, стараний щегольнуть способом выражения! Высокое мастерство состоит в том, чтобы сделать ваш способ писать как можно менее заметным. Когда Толстой пишет: «во время пирожного доложили, что лошади поданы», – он не заботится о строении фразы или, вернее, заботится, чтобы строение ее было нечувствительно для читателя... Представьте себе человека, выбежавшего на улицу с криком: «Пожар!» Разве он думает о том, как ему следует произнести это слово? Ему это не нужно. Самый смысл его сообщения таков, что дойдет до всякого в любом виде. Пусть же то, что вы имеете сообщить читателю, будет для вас столь же важным, пусть в поисках выражения ваших замыслов перед вами всегда сияют золотые пушкинские слова: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы».
Бабель помолчал и вдруг, улыбнувшись, – он иногда улыбался так, что, глядя на него, казалось, будто греешься у огня, – предложил:
– Хотите, я вам расскажу про старого-старого еврея, который разговаривал с богом?
И принялся рассказывать байки про старика, так твердо верившего в существование вседержителя, что это следовало называть уже не верой, а уверенностью. Байки были явно рассчитаны на то, чтобы дать аудитории отдохнуть от непривычных для нее, да и для самого Бабеля, отвлеченных рассуждений.
Как жаль, что их не слышал редактор, призывавший Бабеля изучать жизнь. Он бы, разумеется, тоже устал от них, но это по крайней мере пошло бы ему на пользу.
* * *
В 1939 году по ложному доносу Бабель был арестован.
Прошло много лет. И вот 18 декабря 1954 года дело Бабеля было пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР. В нотариальной копии справки об этом, которая лежит сейчас передо мной, сказано, что «приговор Военной Коллегии от 26 января 1940 года в отношении Бабеля И. Э. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело о нем, за отсутствием состава преступле-ния, прекращено».
Скупые и невыразительные эти слова означают, что те, Кто явились ночью 1939 года в особнячок у Покровских ворот, а потом в дачный городок писателей, разбудили Исаака Эммануиловича, его жену и крохотную дочку и увели с собой этого человека, олицетворявшего гордость и радость нашей литературы, а потом, доподлинно зная, что он ни в чем не повинен, убили его и сожгли бесценное его наследие, состоявшее из пяти папок рукописей, где было несколько десятков рассказов, начало романа и много других работ, о которых мы никогда ничего не узнаем, что эти люди, и даже не они сами, а те, кто приказали им сделать все это, совершили бессмысленное и вопиющее злодеяние.
Обо всем этом трудно говорить даже сейчас, через много лет после гибели Бабеля. Утешением – очень слабым, но все-таки утешением – может служить нам лишь мысль о том, что книги, которые он написал, остались навсегда молодыми.
Молодым осталось и стремление Лютова, робкого очкастого юноши, попавшего в Конную Армию, заслужить уважение товарищей по оружию, и горячая, безрассудная удаль окружающих его конармейцев, и горести еврейского мальчика, рвущегося из подвального мещанского захолустья в широкий мир, полный солнца, мужества и поэзии, и благородство, которое пробуждает своим искусством в душах провинциальных негоциантов и театральных барышников итальянский трагик ди Грассо, и, разумеется, непобедимое, непоколебимое убеждение создателя всей этой пестрой, многоликой и разноголосой толпы, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, какими бы тяжелыми ни были испытания, выпадающие на долю его обитателей.
Убеждение это следует ценить особенно высоко: ведь Бабель на собственном опыте убедился, как нелегко завоевывается власть над сердцами читателей и каким нескончаемо длинным и каменистым бывает писательский путь, если писатель, учась у Толстого, единственным своим героем делает правду. Он прошел этот путь, ни разу с него не свернув, он научился писать о торжестве добра, благородства и мужества, не скрывая от читателя, что на свете существуют зло, измена и трусость. Повидав на своем веку немало смертей, он писал в своих книгах не о них, а о жизни.
И именно поэтому я не буду рассказывать здесь о горестной участи Бабеля и о скорбном его конце.
Ведь его вера в лучшее будущее не была мечтой о собственном счастье, да и самое счастье он – истинный сын своего времени – всегда представлял себе добытым в бою и пахнущим порохом.
1964
М. М. ЗОЩЕНКО
Впервые я увидел его году в тридцатом в Гагре, на пляже, жарким осенним утром.
Широкая, раскаленная солнцем прибрежная полоса была сплошь покрыта весело шевелящейся пестрой толпой купальщиков, темно-зеленые горы глядели на эту суету свысока и осуждающе неподвижно, ветер доносил из парка звуки какого-то музыкального ширпотреба – словом, все было именно таким, каким ему полагалось быть в эту пору на кавказском берегу Черного моря. И только Зощенко выглядел совершенно не так, как должен был выглядеть знаменитый писатель-юморист тридцати пяти лет от роду, отдыхая и развлекаясь на юге.
Он стоял, опершись на трость, в парусиновом костюме и белой фуражке, невысокий, узкоплечий, худой, с печально приподнятыми бровями на темном иконописном лице, и разговаривал с дикарски раскрашенной блондинкой в купальном халатике, картинно полулежащей у его ног на горячих гагринских камушках.
Девица, судя по всему чрезвычайно польщенная вниманием своего собеседника, невпопад похохатывала в ответ на каждую его фразу, он же был задумчив и невозмутимо серьезен. Помню, как удивила меня церемонная почтительность, с какой он слушал щебетание своей дамы, ни единым движением не выдавая своего истинного к ней отношения. В том же, что отношение это не могло быть никаким иным, кроме пренебрежительного, я, зная Зощенко только по его сочинениям, нимало не сомневался.
Позднее, уже познакомившись с ним, я понял, что в то утро, на пляже, он и не думал кривить душой. Оказалось, что он относится серьезно и уважительно ко всем без исключения людям, с которыми его сводит судьба, даже и в тех случаях, когда не испытывает к ним решительно никакой симпатии.
Вот и верь после этого первому впечатлению, если, руководствуясь им, я готов был заподозрить в неискренности одного из самых чистосердечных, простодушных и правдивых людей на земле.
* * *
Меня познакомили с ним в одной из московских редакций, и я сразу же, не помню уже по какому поводу, счел нужным поведать ему, что собираюсь писать статью об эстетизации страдания как об одном из мотивов русской дореволюционной литературы, ныне неожиданно обнаруженном мной в некоторых сочинениях наших советских писателей.
Михаил Михайлович живо заинтересовался моим намерением, рассказал о письме Горького на эту тему, которое незадолго перед тем получил, и даже пообещал прислать мне копию этого письма.
Расставшись в тот день с Зощенко и размышляя о нашем с ним разговоре, я был очень смущен. Во-первых, статья, о которой я сообщил ему, существовала еще только в моем воображении и у меня не было никакой уверенности, что мне удастся ее написать; во-вторых, я поделился с Михаилом Михайловичем совсем еще незрелыми соображениями об ее предмете, и теперь мне казалось, что наговорил при этом множество глупостей, а главное – я начисто не был приучен к интересу известных писателей к моим замыслам и, вспоминая наш разговор, внезапно пришел к заключению, что некоторые интонации в голосе моего нового знакомого были явственно ироническими.
Каково же было мое удивление, когда через неделю я получил от Зощенко письмо, которое неопровержимо свидетельствовало о том, что он и не думал иронизировать по моему адресу, а, напротив, отнесся к нашему недавнему разговору вполне серьезно.
В письме содержалось признание моей якобы правоты каком-то, как я сейчас понимаю, не слишком существенном рассуждении; мысль самого Зощенко о том, что в борьбе со страданием «недостаточно изменить философию», ибо корень зла здесь не в отношении к нему философов и литераторов, а в условиях, его порождающих; сообщение о том, что в книге, которую Михаил Михайлович сейчас пишет, будет содержаться ответ Горькому на его письмо, и, наконец, просьба – прислать мою статью, когда она будет написана, с тем, что он, «возможно, ответит на нее» в той же книге. В конверт была вложена копия широко известного теперь горьковского письма по поводу «Голубой книги».
«Комплименты мои едва ли интересны для Вас и нужны Вам, – писал Алексей Максимович в этом письме, – но все же кратко скажу: в этой работе своеобразный талант Ваш обнаружен еще более уверенно и светло, чем в прежних».
Дальше в горьковском письме шли рассуждения о литераторах, превративших страдания в лейтмотив человеческого существования, а завершалось оно таким призывом:
«Высмеять профессиональных страдальцев – вот хорошее дело, дорогой Михаил Михайлович, высмеять человека, который, обнимая любимую женщину и уколов палец булавкой, уничтожает болью укола любовь свою, человека, который восхищался могучей красотой Кавказа до поры, пока не споткнулся о камень на дороге, ушиб большой палец на ноге и – проклял «уродливое нагромождение чудовищных камней», – высмеять всех, кого идиотские мелочи и неудобства личной жизни настраивают враждебно миру...
...Страдание – позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить».
Помню, какое поистине оглушительное впечатление произвело на меня все, вместе взятое, – и горьковское письмо, и внимание ко мне Зощенко, и самая прикосновенность, или, точнее, прикосновение мое к миру, где живут, размышляют и пишут настоящие большие писатели, о которых мы с моими университетскими товарищами жарко спорили, которых читали, перечитывали и почитали, но почти никогда не видели и с которыми совсем уж редко общались.
Непосредственным же следствием этого потрясения оказалось то, что я совершенно запутался в своих собственных размышлениях о страданиях и страдальцах в литературе и, живо представив себе Михаила Михайловича первым читателем моей будущей статьи, до смерти перетрусил и не сумел довести свой замысел до конца, что, впрочем, не помешало мне испытать чувство горячей благодарности к Зощенко, так внимательно и серьезно отнесшемуся к моим литературным мечтаниям.
* * *
Прошло еще несколько лет, прежде чем мне удалось познакомиться с ним поближе. Было это уже в конце тридцатых годов, когда мы с Евгением Петровичем Петровым, работая вместе над киносценариями для Ленфильма, стали часто бывать в Ленинграде.
У Петрова с Зощенко были давние дружеские отношения, и, встретившись с ним в один из наших приездов, он пригласил Михаила Михайловича пообедать с нами у нас в гостинице.
Жили мы тогда с Евгением Петровичем в «Астории», в большом двухкомнатном номере, состоявшем из спальни и кабинета, который по прихоти устроителей гостиничного уюта был густо населен изваяниями и изображениями медведей всех мастей и размеров. Они резвились на письменном столе в виде пепельниц, чернильниц и бокалов для карандашей, бродили во всех направлениях в качестве безделушек и крупных скульптур – словом, вели себя вполне непринужденно и своенравно, как это свойственно диким животным, попадающим в родную стихию. Венцом же всего этого медвежьего неистовства было чучело стоящего на задних лапах очень милого медвежонка средних размеров, которому злые люди вбили в голову железный штырь, служивший опорой для электрической лампы с абажуром какого-то совершенно медвежьего цвета.
В этой комнате и должен был происходить устроенный нами для Зощенко званый обед.
Наш гость пришел точно в назначенный час, по обыкновению задумчивый и любезный, внимательно оглядел комнату, в отличие от всех других наших посетителей ничего смешного о ней не сказал и уселся в уголке дивана в несколько принужденной, даже, пожалуй, застенчивой, позе.
Несколько минут прошли в разговоре о том о сем, после чего Евгений Петрович позвонил в ресторан и распорядился, чтобы подавали еду. Глаза его засверкали, нижняя челюсть выдвинулась вперед. Ничего не свете он, кажется, так не любил, как потчевать хороших людей хорошей едой. Пожалуй, единственное, что можно было в этой области поставить ему в вину, была деспотичность, с какой он это свое пристрастие осуществлял. Садясь с ним за стол, нечего было думать даже об искре свободомыслия. Следовало безропотно есть и пить только то, что считал вкусным сам Евгений Петрович, и делать это непременно в установленном им порядке. Разумеется, в своем тираническом гостеприимстве Петров руководствовался исключительно заботой о благе ближних, но, увы, не все это понимали и частенько, подчиняясь ему, за глаза поругивали за деспотизм.
Надо полагать, что Михаилу Михайловичу повадки Петрова были отлично известны, но повел он себя совершенно не так, как можно было ждать от такого мягкого и уступчивого человека.
С учтивой, но непоколебимой твердостью отказавшись от водки, к которой была подана тщательно выбранная закуска, он попросил пива, не глядя положил себе на тарелку несколько грибков и принялся разговаривать, не обращая никакого внимания на великолепие раскинутого перед ним пиршественного стола.
Петров судорожно, совершенно по-детски, вздохнул и занялся едой, не забывая, впрочем, заботиться обо мне и бдительно наблюдая за тем, чтобы бокалы и рюмки ни на мгновение не оставались пустыми. Подливая Михаилу Михайловичу пиво, он всякий раз принимал вид человека, вынужденного уступать грубой силе, и старался при этом не смотреть на строптивого гостя.
А гость между тем рассказывал о любопытнейших вещах.
Оказывается, вот уже несколько лет, после того как вышла «Возвращенная молодость», к нему обращаются за помощью и советом сотни людей, жаждущих узнать секрет, которым, как они полагают, владеет автор повести о профессоре Волосатове, вернувшем себе утраченную с возрастом бодрость. Причем в последнее время количество телефонных звонков и писем стало угрожающе увеличиваться, и Михаил Михайлович очень этим обеспокоен.
– Сами виноваты! – злорадно буркнул Петров, когда рассказ дошел до этого места. – Не надо было давать советы.
– Нет, почему же? Нет, Женя, это неправильно.
Если человек что-то знает, он обязан поделиться с другими.
– А что вы такое знаете?
Михаил Михайлович примирительно улыбнулся. Он решительно не желал замечать строптивого тона Евгения Петровича.
– Как вам сказать... Есть у меня кой-какие наблюдения... Но, может быть, об этом не стоило бы сейчас говорить...
– Почему же? Выпили мы немного, время у нас есть, как-нибудь разберемся. Валяйте рассказывайте. Только допейте, пожалуйста, ваше пиво.
– Спасибо, я пью... – Зощенко пригубил из своего бокала. – Как бы вам объяснить... Ну вот, случалось ли вам замечать, что между людьми, скажем, между двумя собеседниками, возникает некая атмосфера взаимопонимания, непринужденности или, наоборот, какой-то скованности, замешательства, неловкости? Потом к двоим собеседникам присоединяется третий – и все меняется, возникает новое качество, новая атмосфера, новое настроение...
– Случалось. И что из этого следует?
– Просто мне подумалось, что это происходит, может быть, потому, что каждый человек окружен своей, только ему одному присущей атмосферой, и те, кто общается с ним, начинают ее ощущать еще прежде, чем он успеет вымолвить хотя бы слово.
– Я знал одного такого человека. С ним без опасности для жизни можно было общаться не больше трех минут. После этого в комнате оставался один азот. Кислород он поглощал весь, без остатка.
– Это другое. Вы говорите про дураков или про людей со скверным характером. Я не то имею в виду. Мне, понимаете, пришло в голову, что каждый из нас представляет собой источник какого-то, ну, что ли, излучения... Когда-то это называли флюидами. Вы понимаете?
– Не понимаю, а знаю! Вы говорите про митогенетические лучи. И это не вам пришло в голову, а одному ученому-биологу... Возьмите-ка лучше рыбки.
– Спасибо, сейчас возьму. Я читал про митогенетические лучи. Но я не это имею в виду.
И Зощенко принялся толковать о чем-то очень возвышенном и туманном, проникновенном и вместе с тем наивно-фантастическом, про некую излучаемую людьми психологическую эманацию, похожую на то, что физики называют «полем», и про то, что эта самая эманация в гораздо большей степени, чем даже слова и поступки, определяет отношения между людьми и место каждого человека в обществе.
Он говорил взволнованно, по временам словно робея, но сейчас же снова обретая уверенность, старательно подбирая слова, чтобы выразить свою мысль как можно понятнее, и, видимо, очень огорчаясь от того, что Петров не то чтобы не мог эту мысль уразуметь, а как-то упирался, не принимая ее, упрямо не желал ею заинтересоваться.
Мне же было видно и еще кое-что в поведении Евгения Петровича, и это смущало меня гораздо сильнее, чем строптивость, с какой он до того воспринимал рассуждения Зощенко. По некоторым признакам я почувствовал, что Петров вот уже несколько минут делает героические усилия над собой, чтобы не расхохотаться. Увы, очень скоро это заметил и Михаил Михайлович. Одушевление его померкло, он начал путаться, искать слова и, наконец, не кончив очередную фразу, неожиданно замолчал, поглядывая на нас обоих с виноватой и смущенной улыбкой.
Даже сейчас, через много лет, вспоминая эту сцену, я не могу отделаться от чувства мучительной неловкости, какое испытал в ту минуту, когда Петров, так и не сумев совладать с собой, с лицом, налившимся кровью, повалялся на диван, на котором сидел, и дрыгая ногами, как капризный ребенок, залился грубоватым, заразительным смехом.
Зощенко молча пожал плечами и принялся за еду.
– Ой, не могу! – кряхтел Петров, садясь и вытирая глаза. – Как вы сказали, Миша? Эманация? Как же, как же, я про это читал в журнале «Нива» в одна тысяча девятьсот тринадцатом году. Помните, там тогда на обложках рекламировались средства для ращения волос и предлагалось приобрести за три рубля девяносто пять копеек четырнадцать ценных предметов, и в том числе карманные часы и кольцо с бриллиантом?
– Помню, – кротко промолвил Зощенко. – Вы ужасный грубиян, Женя. Но, может быть, и такие люди нужны, чтобы фантазеры вроде меня были осмотрительнее и не заносились слишком высоко. Кстати сказать, вы ведь тоже не просто грубиян, а с примесью фантазерства... – Он потрогал салфеткой углы губ, повернулся ко мне и, указывая на Евгения Петровича, спросил: – Вы когда-нибудь слышали, как Ильф не позволял ему округлять числа?
Я не сразу понял, о чем идет речь, но Михаил Михайлович не стал ждать моего ответа.
– Жене тоже нужен человек, который бы не позволял ему заноситься, – продолжал Зощенко. – И когда он рассказывал о чем-нибудь в присутствии Ильи Арнольдовича и при этом таращил глаза и называл большие круглые числа, Ильф улыбался и замечал: «Женечка, вы округляете. Не тысяча пятьсот, а тысяча четыреста семьдесят...» И все становилось на свои места. Понимаете?
Теперь я понял. Эта сторона отношений между Петровым и Ильфом мне тоже была хорошо известна.
* * *
Уже давно замечено, что среди писателей-юмористов редко удается встретить весельчаков. Как-то не способствует писание смешного авторскому оптимизму. И хотя в предисловии к своей «Голубой книге» Зощенко пишет, что «веселость его никогда не покидала», даже самая эта книга опровергает его утверждение.
Разумеется, можно встретить людей, профессия которых верой и правдой служит им в житейском обиходе: композиторов, всегда готовых поиграть для друзей; юристов, дающих советы попутчикам в поезде; актеров, «неподражаемо рассказывающих анекдоты»; врачей, хранящих в памяти рецепты для ухода за кожей лица.
Профессия Зощенко никогда не была для него подспорьем в практической жизни. Начать с того, что в этой самой практической жизни он был человеком печальным и неразговорчивым. Даже если ему и случалось рассказывать что-нибудь смешное (а ведь это может случиться со всяким), он вовсе не старался рассмешить своих слушателей. Я заметил даже, что он в таких случаях с нетерпением ждет, пока слушатели отсмеются, чтобы продолжить свой рассказ. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы Михаил Михайлович претендовал на роль души общества, но я не раз наблюдал, как он уклонялся от этой чести, если ему пытались ее навязать. Он неизменно предпочитал роль слушателя роли рассказчика и даже с чтением своих сочинений выступал до крайности редко. И это при том условии, что многие свои вещи он знал наизусть, как стихи. Помню, как удивила меня его фраза о том, что он не пишет, а записывает свои рассказы. Михаил Михайлович сказал тогда об одном из них: «Он уже весь придуман, осталось только записать». И в ответ на мой недоуменный вопрос сообщил, что работает над своими рассказами мысленно, и только когда вещь совершенно готова и запечатлелась в памяти до последнего слова, записывает ее, почти ничего в ней при этом не изменяя. Можно ли придумать более странный способ работать над сочинениями, главная прелесть которых – в тончайшем словесном рисунке, раскрывающем авторский замысел и характеры действующих лиц более полно и точно, чем это можно сделать в пространнейших рассуждениях и характеристиках? Но ведь Зощенко и вообще-то был человеком странным, человеком, понять и оценить которого нелегко, пользуясь обычными мерками.
* * *
Разве не удивительными для сатирического писателя были его мягкость, терпимость и доброта? А ведь знавшим его невозможно представить себе Михаила Михайловича рассерженным, язвительным, недоброжелательно отзывающимся о людях.
В предисловии к одному из сборников своих фельетонов он однажды писал:
«В этих фельетонах нет ни капли выдумки. Здесь все – голая правда. Письма рабкоров, официальные документы и газетные заметки послужили мне материалом. А живые люди, которых, быть может, я здесь пихнул локтем, – пущай простят меня.
Впрочем, в последний момент у меня дрогнула рука, и я, по доброте душевной, слегка изменил фамилии некоторых героев, чтобы позор не пал на ихние светлые головы».
Нетрудно понять, какими ракалиями были эти самые «живые люди», фамилии которых Зощенко «изменил в последний момент», найдя в себе силы отнестись к ним с истинным человеколюбием и извиниться перед ними даже за то, что под вымышленными именами выставил их на всенародное осмеяние.
Веселый, необходимый человеческому обществу как воздух писательский дар – видеть в людях нелепое и уродливое и смешно об этом писать – дан был Зощенко вместе с человеколюбием и великой жаждой помочь своим современникам стать умнее, честнее, добрее и благороднее. Поэтому ни один из его рассказов не выглядит зубоскальством или, еще того хуже, олицетворением этакого «гусарского» пессимизма (судьба – индейка, жизнь – копейка), каким проникнуты творения некоторых, по преимуществу зарубежных, сатирических и не сатирических писателей, видящих свое назначение в том, чтобы, сидя в мягких креслах за роскошными письменными столами и вооружившись золотыми перьями, убеждать читателей, что все в этом мире насквозь прогнило и идет к черту.
В отличие от литераторов этого рода, Зощенко не переставал скорбеть о несовершенстве человеческой природы вообще и о неустройствах нашего житейского обихода в частности – неустройствах, порой мешающих советским людям жить и работать разумно и дружно, как это им подобает. И всю силу своего писательского таланта он устремлял на то, чтобы пробудить в своих согражданах, рядом с непримиримостью к глупости, злобе и пошлости, уважение друг к другу и веру в то, что счастливое будущее человечества они держат в своих руках.
Все это до боли отчетливо видишь сейчас, перечитывая сочинения Зощенко и вспоминая, как искаженно воспринимались они теми критиками, которые умудрились увидеть в его рассказах злопыхательское стремление очернить всех без исключения советских людей, представив их скопищем дураков, мещан и прохвостов.
К величайшему нашему счастью, критикам никогда еще не удавалось надолго разлучить читателей с любимыми авторами. И судьба книг Зощенко как нельзя лучше это правило подтверждает.
* * *
В первые годы войны мы не встречались с Михаилом Михайловичем, и довольно долго я ничего не слышал о нем. Потом в журнале «Октябрь» появилась первая часть его повести «Перед восходом солнца», которая, как известно, вызвала целый взрыв резких критических нареканий. В результате вторая часть повести так и не была тогда напечатана, а ее автору каким-то журнальным редактором, чье отношение к Зощенко, надо думать, было доброжелательным, но покоилось на полном непонимании его «творческих возможностей», было рекомендовано попробовать свои силы в «серьезном» жанре.
И вот через некоторое время после всех эти происшествий Михаил Михайлович привез в редакцию «Крокодила» несколько рассказов о партизанах, рассказов, имевших целью продемонстрировать его готовность делом ответить на суровую критику.
Приехав в Москву, Михаил Михайлович позвонил мне по телефону, и в тот же вечер я пришел к нему в гостиницу.
Он встретил меня со своей всегдашней любезной и чуть печальной улыбкой, мы уселись и некоторое время беседовали о посторонних и не очень интересных предметах. Обоим нам казалось невозможным говорить о том, что произошло, и оба мы – он с некоторым даже блеском, а я не умея скрыть своего замешательства – делали вид, что не произошло решительно ничего, пока разговор наш не оборвался и в гостиничном номере, вознесенном над Манежной площадью, не воцарилась напряженная и словно бы даже на ощупь осязаемая тишина.
И тогда Михаил Михайлович смущенно откашлялся и внезапно попросил у меня разрешения (не предложил, а именно – попросил разрешения) прочесть несколько только что написанных им коротких рассказов. Он так упирал на то, что рассказы короткие, что было понятно: он в них не очень уверен. Мне же было все равно – какие они, потому что до того я ни разу не слышал чтения Зощенко и только с чужих слов знал, что он великий мастер этого дела.
Так оно и оказалось. Читал Михаил Михайлович великолепно. Просто, почти без всякой акцентировки и вместе с тем придавая необыкновенную значительность каждому слову.
Рассказы же были невыразительны, и талант их автора был в них почти совершенно неразличим. Не могло быть никакого сомнения, что идея покровительствующего Михаилу Михайловичу редактора, вздумавшего превратить его в военного летописца, не увенчалась успехом. Удивительнее же всего было то, что сам Зощенко, очевидно, придавал своим опытам в новом жанре большое значение, очень волновался, читая, все поглядывал на меня, пытаясь определить, нравятся ли мне рассказы, и все спрашивал перед тем, как начать читать следующую вещь, не надоело ли мне слушать.
Каюсь, я не сказал ему тогда правды. Прежде всего потому, что, как мне показалось, эта правда была ему не нужна, а главное – при всей моей тогдашней угловатой нелицеприятности, мне удалось уразуметь, что преподнести Михаилу Михайловичу теперь мои критические, пусть даже справедливые, недовольства было бы все равно что ударить ребенка.
Поэтому я пробормотал что-то в общем справедливое о простоте, лаконичности и прозрачности прочитанного, попутно выяснив для себя, что уклончивые эти любезности говорить не в пример легче, чем резать пресловутую «правду-матку».
Что же до Михаила Михайловича, то он удовлетворился сказанным, ни о чем больше меня не спрашивал, аккуратно сложив, спрятал рукопись в ящик стола и стал рассказывать о своих планах на ближайшее будущее. Планы были самые что ни на есть оптимистические и, как выяснилось в дальнейшем, беспочвенные.
Но прежде чем рассказать о том, что за этим последовало, я должен оговориться. В известном постановлении Центрального Комитета о журналах «Звезда» и «Ленинград», с которого все началось, был раздел, содержавший суровое осуждение рассказа Зощенко «Приключения обезьяны». В обстановке тех лет это было воспринято как сигнал к тому, чтобы охаять все написанное Михаилом Михайловичем и пресечь всю его дальнейшую писательскую деятельность.








