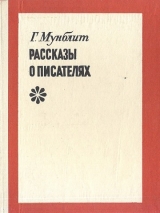
Текст книги "Рассказы о писателях"
Автор книги: Георгий Мунблит
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
И несмотря на явную спорность последнего утверждения, никакие доводы не могли победить упорство старого доктора.
Прошло довольно много времени. Иван Степанович был отозван из Ленинграда, побывал на Дальнем Востоке, куда его направили, как он говорил, «поглядеть, как бы японцы не устроили нам Пирл-Харбор», оттуда перевели на Черноморский бассейн, и вот здесь-то, в районе Туапсе, он был тяжело, непоправимо ранен бомбой, сброшенной вражеским бомбардировщиком на вереницу автомобилей, двигавшихся через перевал.
Когда в тяжелом состоянии Исакова привезли в один из прифронтовых госпиталей и хирурги всех рангов принялись судить и рядить о том, как следует поступать с его искалеченной ногой, кому-то из них пришло в голову срочно вызвать из Ленинграда для консультаций флагманского хирурга.
Тот приехал, поглядел раненого, высказал свое мнение и, видимо стремясь приободрить Исакова, с сердитой шутливостью проворчал:
– Ишь какой упрямый! Нашел-таки способ выманить меня из Ленинграда. А для чего? Для чего меня здешние доктора вызвали? Чтобы снять с себя ответственность! Трудно им, конечно, лечить человека высокого звания. Был бы на вашем месте краснофлотец, они бы сами решили, как быть. – И, назидательно подняв палец и отчеканивая слова, закончил: – Доктор лечит лучше всего, когда всем сердцем хочет помочь больному. Понятно? Хочет вылечить, а не боится не вылечить! Страх, как известно, плохой советчик, это вам, как военному человеку, известно.
Передавая мне слова Джанелидзе, Иван Степанович утверждал, что в его собственном случае они полностью подтвердились. Лечили его робко, неуверенно и неверно, и это привело к тому, что его до сих пор мучают по временам сильнейшие боли.
Мне же представляется, что утверждение старого доктора следовал бы толковать еще и расширительно. Горячее желание – стимул гораздо более могучий, чем самая сильная боязнь, не только в медицине, но и в любой другой области. И очень печально, что эту простую истину иногда забывают.
* * *
Пытаясь восстановить в памяти и донести до читателя то, что мне посчастливилось увидеть и узнать о Иване Степановиче за годы нашего с ним знакомства, я чувствую совершенную свою неспособность собрать воедино вce те мелочи, из которых сложилось мое представление об этом человеке.
Слишком он был сложен, слишком из многих элементов состоял его характер, слишком разносторонней была его деятельность, чтобы можно было дать о нем цельное представление, рассказав об отдельных происшествиях и разговорах, сохранившихся в моей памяти. И все же некоторые из них кажутся мне любопытными.
Вспоминается мне, например, рассказ Исакова о письме какого-то незнакомого ему старого моряка, который сообщал с возмущением, что в одном из черноморских портов, где он, выйдя на пенсию, поселился, местные власти переименовали улицу Крузенштерна на том основании, что сейчас уже никто не помнит о нем и его имя звучит недостаточно актуально. Переименовали улицу не слишком изобретательно – в Большую Морскую.
По просьбе автора письма Иван Степанович адресовался в исполком городского Совета, учинивший это нововведение, с предложением исправить ошибку. Оттуда ответили, что переименование осуществлено потому, что негоже в наше время называть улицы именами царских сатрапов. Иван Степанович терпеливо разъяснил работникам исполкома, что называть замечательного русского мореплавателя царским сатрапом так же нелепо, как если бы речь шла о Ломоносове или Кутузове, но на это свое письмо ответа не получил. Гонители Крузенштерна признавать свои ошибки, видимо, не любили.
– Все дело в том, – заметил Исаков, повествуя о позиции своих оппонентов, – что у многих наших деятелей, воспитанных на пафосе ниспровержения, отсутствует то, что я назвал бы чувством преемственности. А переучиваться они не желают. Но пусть не надеются – Крузенштерна я им в обиду не дам.
Не знаю, чем кончилась эта история, но, надо полагать, новаторы из горсовета в конце концов уступили. Иван Степанович имел обыкновение доводить до конца все, за что брался.
Чрезвычайно характерным для него было его отношение к обязанностям члена Союза писателей, которые он понимал по-своему, в полном соответствии с присущей ему обязательностью, добросовестностью и трудолюбием. Совмещая писательскую работу с множеством других дел, этот талантливый военачальник и организатор, кстати сказать, носивший самое высокое в нашей стране военно-морское звание – Адмирала Флота Советского Союза, член-корреспондент Академии наук, состоящий в множестве коллегий, советов и комиссий, считал своим непременным писательским долгом печатать свои рассказы и очерки не реже чем два раза в год.
Однажды он специально позвонил мне, чтобы посоветоваться об одном недавно законченном рассказе, который ему предложили опубликовать, не дожидаясь следующего, который тематически должен быть связан с первым, и в ответ на мое предложение – кончить второй и печатать их вместе – жалобно заметил:
– Понимаю, что вы правы. Я и сам так думаю. Но не могу же я себе позволить так долго молчать.
И в ответ на мое сообщение, что многие авторы позволяют себе молчать годами, возразил:
– Так ведь то – настоящие писатели, а я не писатель, я – соискатель. – И, услышав, что я рассмеялся, добавил: – Вам хорошо смеяться, а вот побыли бы вы в моей шкуре...
Нет, очень трудно рассказать об Иване Степановиче, связав воедино все, что я знаю о нем.
Был ли он умен, добр, честен, решителен, деловит? Обладал ли он силой воли, умел ли видеть себя со стороны? Да, разумеется, да! Но разве можно с помощью простого перечисления отдельных черт постигнуть характер человека, воссоздать его душевный облик, показать его таким, каким его видели те, кому посчастливилось с ним повстречаться? Едва ли. Надо полагать, простым вложением этого не достигнешь.
Здесь требуется воображение, художество, писательский домысел, то есть вещи, необязательные для мемуариста. Его задача гораздо скромнее. И состоит она, как мне кажется, в том, чтобы обстоятельно рассказать обо всем, что сохранила ему его память, выбрав из этого пестрого вороха наиболее существенное и любопытное. Такую задачу я перед собой и поставил.
1973
ЮРИЙ ГЕРМАН
Однажды поздно ночью мне принесли телеграмму. Долгий и, как это всегда кажется по ночам, очень пронзительный звонок поднял меня с постели. Ощупью добравшись до двери и отворив ее, я взял из рук почтальона сложенный манжеткой телеграфный бланк и стал шарить на столе в поисках карандаша, чтобы расписаться. Потом, когда эта операция завершилась успешно, подошел к окну и, отодвинув штору – на дворе уже светало, – принялся разбирать слепые строки. Телеграмма была такая:
«Возмущен равнодушием, кошмарным отношением животрепещущим вопросам любви и дружбы. Не уходи из дома круглосуточно, жди телефонных звонков. Юра». В верхнем углу телеграммы была пометка: «Ночная» Сомнений быть не могло. Отправителем телеграммы был Юрий Павлович Герман, животрепещущие вопросы любви и дружбы существенной роли в ней не играли, истинный же ее смысл состоял в том, что отправителя следовало ждать в Москве в ближайшие дни. Что же до срочности, с какой это уведомление было послано, то причина, видимо, была всего лишь в том, что Юрий Павлович, отправляя его, был шаловливо настроен.
Справедливости ради нужно отметить, что такое с ним бывало нечасто. К модным в те времена «розыгрышам» он был не склонен, а если шутил, то по преимуществу умно и добродушно. Вообще же, собираясь в Москву, он меня обычно заранее не предупреждал и, только приехав и обосновавшись в гостинице, звонил по телефону и сообщал, где остановился.
– Я приехал! – говорилось в таких случаях. – Приходи, вместе позавтракаем и все обсудим.
И такая была в его голосе победительная, непоколебимая уверенность в том, что собеседник, услышав этот призыв, бросит все дела и как лист перед травой предстанет перед ним в ту же минуту, что не знаю, как другим, а мне бывало очень трудно, чем бы я ни был занят, устоять и отложить нашу встречу на вечер.
Тем более что вечером уже не могло быть и речи о том, чтобы «все обсудить». К этому времени в номере гостиницы, где останавливался Юрий Павлович, начиналось истинно праздничное столпотворение. Беспрестанно звонил телефон, приходили и уходили друзья и знакомые, кто-то приглашал хозяина на премьеры, «прогоны», просмотры и генеральные репетиции, кто-то уславливался с ним о совместных визитах или настойчиво звал к себе, – словом, жизнь, как говорится, била ключом.
И только в тот вечер, который последовал за упомянутой здесь телеграммой, я застал у Юрия Павловича всего лишь одного посетителя.
Это был маленький человечек, в громадных, не по росту, я бы сказал, «литературоведческих» очках, с вьющейся и вместе с тем гладко прилизанной шевелюрой и остренькими, шустро бегающими глазками. Человечек выглядел и держался с какой-то суетливой вальяжностью, изо всех сил стремясь подчеркнуть свою короткость с Юрием Павловичем, которому это было явно не по душе.
Разговор не вязался, и вскоре после моего прихода гость попросил разрешения позвонить по телефону. Получив же его, так самозабвенно занялся разговором с какой-то Лизочкой, что мы с Юрием Павловичем почувствовали себя попросту лишними.
– Слушай, ты его знаешь? – шепотом спросил меня Герман, смущенно косясь на человечка в очках. – Он меня зовет Юрой и с минуты на минуту перейдет со мной на «ты», а я никак не могу вспомнить, где и когда мы с ним встречались и кто он такой.
К великому моему сожалению, я ничем не мог помочь Юрию Павловичу. Мне тоже казалось, что я уже встречал его гостя, но вспомнить, кто он такой, мне решительно не удавалось.
Гость же между тем разливался соловьем.
– Ну, как же вы не помните? – бархатным голосом укорял он свою собеседницу. – Как вы можете не помнить, если именно в тот вечер мы с вами условились... Заняты? Что значит – заняты, когда речь идет о закрытом просмотре, на который почти невозможно попасть!.. Ну, как знаете. Мое дело – предложить... Что? Что вы говорите? Алло! Алло! Разъединили. Очень скверно работает телефон!..
Последнее утверждение было адресовано нам с Юрием Павловичем и имело целью скрыть то неприятное обстоятельство, что Лизочка, по-видимому, на полуслове прервала разговор, повесив трубку.
– Как говорится, слабые токи! – продолжал человечек, горестно разводя руками и все еще стремясь возложить ответственность за свою неудачу на плохо работающий телефон. – Вы разрешите мне еще позвонить?
Юрий Павлович кивнул. Человечек набрал номер и попросил к телефону Марию Викторовну. Когда она подошла, он прочистил горло и проворковал:
– Мусенька? Это Марик.
Мы с Юрием Павловичем переглянулись. Наконец мы узнали имя загадочного незнакомца. Все остальное еще оставалось в тумане, но теперь у нас в руках была путеводная нить.
Незнакомец же, судя по всему, опять оказался в затруднительном положении.
– Что значит – какой Марик? – вопрошал он с шутливым негодованием. – Тот самый, которому вы недавно поклялись в верности... Даже и не думаю шутить... Как не помните? Минуточку, я вам сейчас напомню... Что? Почему – не сейчас? А-а! Хорошо, я позвоню позднее... А завтра?.. Ладно, позвоню на той неделе. Привет!
Нам с Юрием Павловичем становилась все более противной эта сцена. И хоть мы ни капельки не сочувствовали нашему незадачливому ловеласу, было очень тягостно оказаться невольными свидетелями его неудач.
Зато сам он держался молодцом и, подмигнув на этот раз почему-то мне, изрек:
– Женщина всегда остается женщиной! Сама бы рада до смерти принять приглашение, но как же можно не пожеманиться... Знаете анекдот про женщину и дипломата – какая между ними разница?..
Мне этот анекдот был известен, и я не счел нужным это скрывать.
– А вы? – с надеждой адресовался человечек к Юрию Павловичу. – Вы тоже его знаете?
Юрий Павлович сокрушенно кивнул головой.
– Ну что ж, ничего не поделаешь... – Человечек разочарованно улыбнулся и, уже не спрашивая разрешения, снова взялся за телефонную трубку.
На этот раз ему повезло. Его узнали, приглашение было принято, и, условившись о встрече и рассказав нам напоследок о каком-то, известном ему из личного опыта, случае женского коварства, он наконец откланялся.
– Как он к тебе попал? – спросил я у Юрия Павловича.
– Встретился в вестибюле, поздоровались, и он за мной увязался.
– Но ведь ты даже не знаешь, кто он такой? Как же ему это удалось? Что он при этом говорил?
– Ох, уж это мне твое стремление допытываться, как было дело, – поморщился Юрий Павлович. – Не помню, что именно он говорил, но вел он себя как давний знакомый и почитатель таланта. Глупо было спрашивать у него фамилию...
– Еще бы! У почитателя таланта – и вдруг фамилию.
Юрий Павлович пропустил мимо ушей бестактное мое замечание.
– Это во-первых, – продолжал он. – А во-вторых, я вообще не считаю правильным отпихивать от себя человека только на том основании, что не помню, кто он такой. И пускай ты будешь высокопринципиальный и взыскательный в выборе друзей и знакомых, а я беспринципный и неразборчивый, но не надо меня перевоспитывать. Кроме того, я считаю, что хвалить мои сочинения можно иногда и не кривя душой. И давай не будем продолжать этот разговор. Ты – такой, я – этакий, и прекрасно. Будем радоваться, что на свете существуют разные люди и разные взгляды. По-моему, так интереснее.
И мы заговорили о другом. Нынче же, вспоминая этот и многие другие наши споры, я считаю, что Юрий Павлович был прав не только радуясь, что на свете есть разные люди, но и защищая свою склонность водиться с теми из них, которые никак не могли ему нравиться. Тем более что часто это было необходимо ему как писателю, и, общаясь со своими кратковременными дружками, он отлично в них разбирался, о чем свидетельствовали его собственные рассказы, отличавшиеся достаточной беспощадностью.
Вот один из таких рассказов:
«...Он жил у меня на даче, и мне с ним было интересно и миленько. И не будем обсуждать вопрос о том, положительный он или отрицательный. Просто я тебе расскажу случай из жизни, а мораль ты выведешь сам, запишешь ее в свою записную книжечку, а потом отобразишь все это в своих художественных и критических сочинениях.
Было это около года назад, прошлым летом. Однажды мы с моим гостем решили с утра поработать – я у себя в комнате, а он – на веранде. Он говорил, что ему для ясности мысли необходим свежий воздух. В доме, кроме нас, в то утро никого не было, и мы, пожелав друг другу удачи, разошлись по своим местам и принялись за дело. Первые полчаса работа у меня не ладилась, потом пошло лучше, но не так, как мне бы хотелось. Что-то мне все время мешало, не давало сосредоточиться. Я остановился, прислушался... нет, все тихо, и в доме, и на дворе. Вдруг – скрипнула дверь, и я наконец уразумел, что именно мне все время не давало покоя: именно этот еле слышный скрип через каждые десять – пятнадцать минут и после него осторожные крадущиеся шаги. Меня, как говорится, заело, и я стал слушать дальше. Некоторое время все было тихо. Потом снова раздался скрип и все те же шаги. Я встал, подошел к двери в столовую и заглянул в щелку. Заглянул и оторопел. Мой гость, которому надлежало в это время, прилежно склонившись над столом, запечатлевать на бумаге яркие образы и глубокие мысли, осторожно, на цыпочках, переступая с ноги на ногу и пугливо озираясь по сторонам, подкрадывался к буфету, на котором стояла большая банка с только что сваренным вареньем, прикрытая сверху марлей. Здесь он остановился, перевел дух, прислушался, совершенно как заяц, приподняв одно ухо, и, убедившись, что все спокойно, снял эту самую марлю, запустил в банку всю пятерню и прямиком отправил в рот пригоршню сиропа и ягод. Как он при этом умудрился весь не измазаться, до сих пор не могу понять. Хотя... очевидно, все дело в опыте... Но это еще не все. Подкрепившись сладеньким и, судя по всему, уже не впервые за это утро, злодей взял со спинки стула, стоявшего рядом, мои старые брюки, которые я там вчера оставил, чтобы их починили, вывернул наизнанку карман этих брюк и тщательнейшим образом обтер об него руку, побывавшую только что в банке с вареньем. Потом осторожно, чтобы не запачкаться, снова заправил карман обратно и на цыпочках пошел к двери.
И самое странное, что, глядя на все это, я больше всего на свете боялся пошевельнуться. Чувство у меня было такое, будто передо мной идущий по краю крыши лунатик, которого упаси боже спугнуть.
Вот какие бывают в жизни случаи! У тебя, человека упорядоченного, эта история, разумеется, не вызывает никакого другого чувства, кроме гражданского негодования, а по-моему, в ней все очаровательно. И ежели бы я стал писать об ее герое, я бы слова не сказал об отсутствии у него моральных устоев, а рассказал бы про варенье, и все. А главное, показал бы многозначность этого происшествия. Потому что именно в многозначности вся его прелесть. И человек здесь виден с разных сторон – себялюбец, каналья, но ведь с несомненной примесью детскости. А детскость, как известно, всегда мила, ты ведь не будешь этого отрицать?»
Я не отрицал, но, если говорить честно, та форма детскости, о которой шла речь, мне не внушала симпатии.
* * *
Однако не надо думать, что «многозначность» так нравилась Юрию Павловичу, что он предпочитал приятельствовать и избирал своими героями не вполне порядочных людей более охотно, чем тех, кто заслуживал уважения.
Вовсе нет. Всем знавшим его и уж во всяком случае тем, кто читал его книги, известно, как бурно он радовался встрече с хорошим человеком и как безраздельно отдавал свое сердце людям, которые действительно этого стоили. Как горячо, с какой разумной обоснованной влюбленностью он распространялся о скромности, доброте и трудолюбии этих своих избранников, неизменно подчеркивая их героизм именно в будничных, повседневных делах.
Кстати сказать, превыше всего ценя в своих друзьях и героях именно эту их способность целиком отдаваться черновой, кропотливой работе, сам он работал иначе. И если не считать обыкновения печатать свои сочинения на машинке с помощью указательного пальца одной правой руки, самый творческий процесс протекал у него с какой-то поистине безмятежной легкостью.
Но об этом речь еще пойдет впереди. Сейчас же мне хочется рассказать о свойственной Юрию Павловичу душевной потребности уважать и преклоняться перед людьми, которых он избирал своими учителями.
Истинное благоговение вызывали в нем на протяжении всей его жизни два недостижимо высоких имени – Толстого и Пирогова. Но то были воплощения его идеалов, к которым, как известно, можно стремиться, но которым нельзя подражать. Ему этого было мало. Нужны были живые, земные, может быть даже грешные, люди, о которых можно было думать, не испытывая благоговейного ужаса, – учителя в подлинном, житейском значении этого слова.
Однажды он рассказал мне о встречах с Мейерхольдом, который еще в самом начале писательской деятельности Германа заинтересовался им, помог превратить в пьесу один из его ранних романов и поставил ее в своем театре. Я помню этот рассказ до мельчайших подробностей и мог бы воспроизвести почти дословно, но спустя несколько лет после того, как я услышал его из уст Юрия Павловича, он сам написал воспоминания о Мейерхольде, где этот удивительный человек изображен с подлинным блеском. Так что лучше всего попросту привести здесь отрывок из его описания одной из прославленных мейерхольдовских репетиций.
«Ничего у меня не выходило с эпизодом под названием «Горький миндаль», – пишет Герман. – В этом эпизоде Нунбах в лаборатории моего главного героя Кельберга принимал цианистый калий, который, как известно, пахнет горьким миндалем.
Была глубокая ночь, когда все в очередной раз поняли, что эпизод не вышел. Свердлину нечего было играть.
Мейерхольд пил молоко, курил, потом поднялся и ушел на сцену.
Сначала рабочие выкатили рояль.
Потом Всеволод Эмильевич поставил на полированную черную крышку рояля узкую, очень высокую хрустальную вазу и опять надолго исчез. Рабочие в это время принесли большое облезлое кресло и кусок серебряной парчи.
В зале все затихли. Мы присутствовали, понимая это, при рождении чуда в искусстве.
Вернулся Мейерхольд, вставил в вазу странный большой кактус, слепленный из станиоля. И в подсвечники рояля он вставил две свечи. Третья была на маленьком столике – возле кресла. Попыхивая сигаретой, Мейерхольд долго закрывал кресло серебряной парчой. Три свечи уже горели. Красивейший из всех известных мне на земле людей медленно и гордо оглядывал то, что создал тут своими руками.
В зале было так тихо, словно все ушли.
Но не ушел, конечно, никто.
Три свечи горели на сцене. Огоньки их отражались в черном лаке рояля. Парча, хрусталь и серебро – все вместе создало простую, лаконичную и чудовищно безжалостную картину смерти.
– Ты можешь тут умереть, Лева? – спросил Мейерхольд со сцены в темноту зала.
– Да! – сдавленным голосом крикнул Свердлин. – да, спасибо, Всеволод Эмильевич!»
За этим описанием ночной репетиции и нескольких других встреч с Мейерхольдом в очерке Германа следует такое признание:
«...А потом Мейерхольд меня бросил. Я больше не был ему нужен, он умел общаться с людьми по-настоящему, только вместе работая с ними. Или если люди были ему интересны в самом, разумеется, высшем смысле этого слова. А я не был ему больше никак интересен. И, наверное, я слишком его полюбил, может быть, это его раздражало».
Вот ведь как: «Слишком полюбил!», «Красивейший из всех известных мне людей!»... И это – о человеке пусть гениальном в своей области, но, по свидетельству всех знавших его, обладавшем неслыханно трудным характером и весьма причудливой внешностью, которую можно было назвать красивой только в состоянии восторженного, безрассудного преклонения.
Не знаю, как на чей взгляд, но мне всегда представлялась завидной эта способность Юрия Павловича совершенно по-юношески отдавать свое сердце людям, которых он избирал своими наставниками. И ведь в их числе были не только люди искусства, но и врачи, и летчики, и криминалисты, и моряки, и архитекторы, и педагоги, в которых далеко не всякий писатель распознал бы то, чем эти люди могут его одарить. Позавидовать можно было еще и тому, что, преклоняясь перед ними, Герман всеми порами своего человеческого и писательского естества впитывал то, чему хотел научиться.
Воспоминания о Мейерхольде кончаются так:
«Мне хотелось посмотреть «Даму с камелиями» – билетов не было; я позвонил Мейерхольду. Он долго притворялся, что очень рад моему звонку, но пустил меня только в яму оркестра. Я обиделся ужасно, как обижаются только в молодости, и ушел.
Больше я его никогда не видел. И не увижу.
Но когда я пишу сценарий, или повесть, или роман те удивительные месяцы моей молодости вновь оживают передо мной. За эти месяцы близости к Мейерхольду я очень многое понял, как мне кажется. И если в работе моей что-то удается, я знаю, не без тех давно минувших дней. Если же нет – значит, дней этих было слишком мало».
Но это – давние, почти юношеские впечатления Германа, воспоминания младшего о старшем, ученика об учителе. Более поздние его встречи с людьми, у которых он «набирался ума» и о которых писал, выглядели иначе.
С одним из таких людей Юрий Павлович однажды познакомил меня, и я имел возможность в этом убедиться.
Человек этот – работник Управления ленинградского уголовного розыска Иван Васильевич Бодунов – был приятелем Германа и прототипом героя одной из его книг. Книга называлась «Две повести», и Лапшин, главное действующее лицо одной из них, даже внешне напоминал Бодунова.
Однажды в разговоре с Юрием Павловичем я похвалил эту повесть. И сейчас же подвергся очередному его нападению за свой якобы слишком замкнутый образ жизни.
– Жалкий мирок! – восклицал Юрий Павлович с неподдельным негодованием. – Ты живешь в жалком, крохотном мирке пишущих, размышляющих и мечтающих! А литератору необходимы происшествия, треволнения, он должен дружить с людьми, совершающими поступки! Можешь ты это понять?
Понимать-то я это понимал и даже не раз пытался убедить Германа, что не так уж узок мир, в котором я живу, но ему требовалось самому, и к тому же немедленно, расширить круг моих друзей и для этого познакомить меня с Бодуновым, которым он был тогда увлечен.
К сожалению, обстоятельства сложились так, что это знакомство состоялось через много времени после описанного здесь разговора. Иван Васильевич уже переехал тогда в Москву и сменил беспокойную деятельность ловца и перевоспитателя заблудших душ на должность директора научно-исследовательского института и музея криминалистики.
Прочтя письмо от Юрия Павловича, которое я ему передал и в котором, как мне было известно, содержалась шутливая просьба «помочь подателю сего расширить свой кругозор», он виновато улыбнулся и с сожалением заметил, что в нынешнем своем положении не сможет помочь мне ничем другим, кроме обстоятельного ознакомления с экспонатами вверенного ему учреждения. Я ответил, что буду очень ему благодарен за это, и он повел меня по музею и по институтским кабинетам, из которых мне запомнились два. В одном из них занимались тем, что сличали конфигурации револьверных пуль с отверстиями, которые они оставляли, а в другом молодая и очень застенчивая женщина объяснила мне, каким методом следует пользоваться, чтобы распознавать на официальных бумагах, что чему предшествует: подпись – печати или, наоборот, печать – подписи.
И вот уже к концу этой экскурсии, когда я усвоил все это и вдоволь насмотрелся на ничем не примечательные физиономии знаменитых грабителей и убийц, на их зверские орудия и фотографии их жертв, Бодунов устало опустился в кресло, стоявшее в глубокой оконной нише (музей помещался в ту пору в здании бывшего монастыря), и, усадив меня рядом, принялся рассказывать о своих встречах с Юрием Павловичем и о значении этих встреч для расширения его собственного, в те поры не очень широкого кругозора. Причем рассказ этот был проникнут таким искренним уважением к нашему другу, что я не мог не испытать чувства гордости за все сословие «пишущих, размышляющих и мечтающих». Оказалось, что у рассказчика, всю свою жизнь только и делавшего, что «совершавшего поступки», по его собственному утверждению, было множество оснований не только глубоко уважать, но даже считать в чем-то своим учителем литератора, который о нем написал.
В рассказе Бодунова о Юрии Павловиче, разумеется, не было и тени того весьма распространенного похлопывания по плечу, какое иногда позволяют себе «практические деятели» в своих взаимоотношениях с литераторами, интересующимися их работой и жизнью. Видимо, Герман не давал для этого повода, и, интересуясь деятельностью работников уголовного розыска, не только не выглядел простофилей, дивящимся всякой мелочи, но подчас умудрялся находить в новом для него мире нечто такое, чего не видели постоянные его обитатели.
Мало того, – и это тоже можно было установить из рассказа Бодунова, – даже учась и заимствуя у криминалистов их опыт и таинства их профессии, Юрий Павлович сумел установить со всеми ними отношения, основанные на взаимном уважении, что не всегда удается «собирающим материал» литераторам.
Однажды я рассказал Герману о моем знакомстве и первом разговоре с известным физиологом, учеником И. П. Павлова, академиком А. Д. Сперанским, к которому меня направила редакция одного журнала, чтобы написать очерк о работе его института и о нем самом. Ученый очень неприветливо встретил меня. Как мне стало известно позднее, это было вызвано тем, что незадолго передо мной у него побывал бойкий и, в отличие от меня, пытавшийся скрыть свое невежество литератор, который отнял у него много времени попусту и вооружил его неприязнью ко всем представителям нашей профессии.
– Вообще вам следует знать, что я человек сердитый, – сказал мне тогда Сперанский. – Так что придется уж потерпеть.
Выслушав этот рассказ и установив, что я не реагировал должным образом на незаслуженно грозное это предупреждение, Юрий Павлович укоризненно покачал головой.
– Напрасно ты промолчал, – сказал он. – Хорошо ему быть сердитым, сидя по ту сторону письменного стола, за которым он тебя принимал. А ты бы спросил, сохраняет ли он эту сердитость, сидя на твоем месте.
И долго убеждал меня не давать спуску людям, не соблюдающим законы гостеприимства и считающим, что положение героев будущих сочинений дает им право относиться свысока к тем, кто эти сочинения собирается написать.
Должен сознаться, что, встретившись со Сперанским в следующий раз, я не удержался, напомнил ему о предыдущем нашем разговоре и рассказал о совете Германа. Он расхохотался, и отношения между нами заметно улучшились.
Вообще при всей склонности Юрия Павловича к дружбе с медиками, криминалистами или капитанами дальнего плавания он и не думал утверждать, что эти люди обладают широким кругозором по самому роду своей деятельности. Вовсе нет. Чтобы оказаться в числе его «избранников», требовалось еще кое-что. Такой человек должен был быть умен, трудолюбив и порядочен. И если обладателем перечисленных здесь качеств оказывался свой брат писатель, да к тому же еще и талантливый, Юрий Павлович не колеблясь отдавал и ему свое сердце.
Говоря о писателях, вызывавших у Германа чувство преклонения и нежности, нельзя не вспомнить об его отношении к Михаилу Михайловичу Зощенко.
Они были знакомы много лет, жили в одном городе но встречались редко. Так получалось, по словам Юрия Павловича, из-за того, что он робел перед Зощенко и стеснялся навязывать ему свое общество.
– С хорошо воспитанными людьми вообще нелегко, – жаловался Герман. – Поди разбери, почему он тебе улыбается при встрече: потому что действительно рад тебя видеть или просто из вежливости. А с Михаилом Михайловичем – особенно сложно. Уж так он кроток, так мягок, что совсем ничего невозможно понять. Вот я и робею. И к тому же, говоря по правде, я никогда не перестаю ощущать дистанцию между ним и собой. А ведь у нас, в Ленинграде, многие до сих пор не понимают, какой это замечательный, какой огромный писатель. И вероятно, все из-за того же. Уж очень он со всеми уважителен, прост, я бы даже сказал, застенчив. Даже с теми, которые судят о человеке не по его делам, а по умению «себя подать», он разговаривает и ведет себя так, будто собеседник умнее, чем он. Вот эти самые собеседники и приходят к заключению, что они умнее... Не все, конечно, но многие...
Однажды перед началом какого-то литературного собрания мы с Юрием Павловичем оказались в обществе Зощенко и очень молодой литераторши, с которой Михаила Михайловича незадолго перед тем познакомили. Дама эта, усмотрев в его тоне интерес ко всему, что она ему сообщала, и ту самую уважительность, о которой упоминал Юрий Павлович, сразу же почувствовала себя «царицей бала» и развернулась вовсю. То и дело поправляя свои, увы, недостаточно своенравные локоны и бойко стреляя глазами, она с совершенной непринужденностью принялась выкладывать Зощенко свои чрезвычайно незрелые и столь же категорические взгляды на литературу вообще и на некоторые его рассказы в частности. Михаил Михайлович слушал ее, учтиво склонив голову и растерянно улыбаясь. Мы молча стояли рядом.








