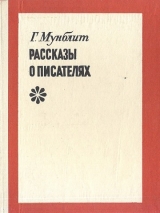
Текст книги "Рассказы о писателях"
Автор книги: Георгий Мунблит
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Мунблит Г.Н.
Рассказы о писателях и маленькая повесть
Эта книга – воспоминания критика и кинодраматурга Георгия Николаевича Мунблита о писателях, с которыми он встречался, дружил и работал. Это рассказы о невымышленных героях и невымышленных событиях.
Черты биографии и душевного облика Э. Багрицкого, И. Бабеля, А. Макаренко, Ю. Германа, М. Зощенко, И. Исакова, И. Ильфа, Е. Петрова, описания встреч с В. Маяковским, Б. Пастернаком, М. Левидовым, А. Луначарским, О. Мандельштамом – все это предстает здесь в сюжетных коллизиях, отличительная особенность которых в совершенной их достоверности.
ТРУДНАЯ ПРОФЕССИЯ
(Вместо предисловия)
Тем, кто любит перечитывать книги, ведомо чувство радости, какое испытываешь всякий раз, когда, возвращаясь к хорошо известным страницам, открываешь в них новый смысл и новую прелесть.
Похожее чувство возникает, когда вспоминаешь былые годы, восстанавливаешь в памяти давние происшествия, людей, с которыми вместе работал, радовался и горевал, места, где пришлось побывать.
И нужно ли удивляться, что среди тех, кто был свидетелем или участником событий, положивших начало нашей эпохе, так распространен интерес к минувшему, что все мы с таким волнением читаем о временах своей юности и с таким увлечением воскрешаем в памяти все, что связано с ней.
Вспоминая и рассказывая о литераторах двадцатых и тридцатых годов, я словно вижу их перед собой, слышу их голоса, заново переживаю радость общения с ними. Лукавая и добрая усмешка Бабеля, рокочущий бас Маяковского, грубоватая шутливость Багрицкого, который пытался скрыть за нею восторженную влюбленность в хороших людей и хорошие книги, размашистая громогласность Петрова и сдержанная, насмешливая и вместе с тем бесконечно милая улыбка Ильфа, удивленно приподнятые брови и печальные глаза Зощенко, сжатые губы и внимательный взгляд Макаренко – мне трудно поверить, что все это живет только в наших воспоминаниях, что уже никому, никогда не удастся увидеть этих удивительных людей, что мы никогда не прочтем их новые книги, не услышим их голоса.
Все они избрали литературу своей профессией не потому, что она представлялась им всего лишь более привлекательной, чем другие, а потому, что попросту не могли поступить иначе, потому что для всех них литература была делом жизни, поглощавшим все их мысли, все мечты, весь жар души.
В жизни разных людей писательство может выглядеть совершенно по-разному. Для одного литература – всего лишь средство преуспеть и прославиться; для другого – высокая миссия, цель которой лучше всего выразил Пушкин в своем «Пророке». И великолепное пушкинское призвание «глаголом жечь сердца людей» овладевает такими писателями с непобедимой силой, делая их «одержимыми» в самом высоком и самом осмысленном значении этого слова.
Мы стали бояться в последнее время «высоких слов». Но как обойтись без них, когда говоришь о людях, у которых потребность писать побеждает все другие помыслы и стремления; о людях, не находящих в себе силы сойти с этого пути, каким бы трудным он им ни казался и как бы ни была далека для избравших его цель, к которой они идут?
Но не нужно думать, что, говоря о неодолимом стремлении к писательству, я имею в виду простую склонность запечатлевать на бумаге свои мысли и наблюдения всего лишь для того, чтобы довести их до сведения читателей. Нет, истинное писательское призвание вообще не в том, чтобы «отражать» или «запечатлевать» картины внешнего мира. Для этого, пожалуй, ни один настоящий человек не стал бы браться за перо. Он взял бы его лишь в том случае, если бы почувствовал потребность выразить в своих писаниях свое отношение к миру, если бы у него возникло намерение усовершенствовать этот мир, если бы он ощутил в себе силу, необходимую для того, чтобы обратить читателя в свою веру, открыть для него красоту там, где он без помощи писателя ее не увидит, заставить его полюбить то, что заслуживает любви, и возненавидеть то, что следует ненавидеть, – словом, сделать читателя своим единомышленником, союзником, другом.
Причем не следует забывать, что для всего этого писателю надлежит сделать свои сочинения увлекательными, ни в каком случае не превращая их при этом в «чтиво», что, споря с читателем и убеждая его, он не должен навязывать ему своего образа мыслей, а доставляя радость, обязан заботиться, чтобы радость эта была не «гастрономическая», а умственная, то есть такая, какую испытывает человек, когда сам работает головой.
Нелегкое это дело... Но, как говорил Маяковский, «где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?».
И лучшим примером победы на этом пути может служить работа самого Маяковского, о котором принято было когда-то думать, что он не помышляет о том, чтобы завоевать читательское расположение, и не старается сделать свои стихи понятными и нужными людям, не искушенным в поэзии.
Мне не довелось близко знать Маяковского, и я не могу порадовать читателя сколько-нибудь связными воспоминаниями о нем. Несколько мимолетных встреч в редакции «Комсомольской правды», куда Владимир Владимирович часто захаживал, да литературные вечера в университете, где я был одним из сотен его восторженных и вместе с тем строптивых слушателей, жадно ловивших каждое его слово и изо всех сил пытавшихся противиться напористому его обаянию, – вот все, чем я располагаю.
Но некоторые суждения Маяковского о предмете, о котором идет здесь речь, памятны мне до сих пор.
Помню, например, разговор с ним о его отношениях с «широким читателем», происходивший в большой, неуютной и полупустой комнате литературного отдела «Комсомольской правды» в Большом Черкасском переулке, где помещалась тогда эта редакция, кстати, гораздо менее многолюдная, чем сейчас.
Но здесь следует оговориться. Я взял в кавычки слова «широкий читатель» потому, что понятие это в ту пору было весьма условным и оперировали этим термином с особенно крикливой назойливостью молодые люди, получившие нежное литературное воспитание и выступавшие от имени РАППа, то есть Российской ассоциации пролетарских писателей – организации весьма драчливой и деспотической.
Маяковскому эти самые рапповцы досаждали до крайности, защищая от него вполне мнимые читательские интересы, которыми он якобы пренебрегал, и требуя от него, чтобы он сделал свои стихи понятными массам, о которых сами они имели весьма расплывчатое и далекое от истины представление.
В этот раз, раззадоренный одним из своих собеседников такого рода, Маяковский повернулся к нему так резко, что тот даже попятился.
– Значит, по-вашему, я о читателе не забочусь? Не стараюсь быть понятным? Пренебрегаю... так, что ли? – спросил он угрожающе спокойным басом.
Собеседник молча пожал плечами.
– Разговаривать плечами, конечно, проще, чем языком, – уже капельку рассердившись, продолжал Маяковский, – но от меня вы плечами не отделаетесь. Вы утверждаете...
– Я, собственно, ничего не утверждаю, но некоторым нравится быть непонятными. А с другой стороны...
– С другой стороны, с другой стороны! – прервал его Маяковский. – А вы пробовали когда-нибудь острить в обществе людей, которые не смеются вашим остротам?
– Видите ли...
– Вижу. У вас почему-то всегда не смеются. Ну а у меня бывает по-разному. Так что мне – сложнее. Приходится проверять. Однажды – допроверялся. Сочиняю и бегаю на кухню к нашей стряпухе, читаю ей и жду, чтобы рассмеялась. Большая такая была женщина, непоколебимая, краснощекая... Не смеется! Я и так и эдак – не смеется! И что вы думаете, выбросил я строку. Потом выяснилось, что женщина эта вообще никогда не смеялась, за исключением тех случаев, когда ее щекотал кавалер. Да и то не столько смеялась, сколько ухала, как филин... Слыхали, как эти птички ухают? А у меня пропала строка.
Маяковский обвел нас глазами и вдруг широко улыбнулся.
– Могу подарить, если кому нужно, – сказал он вдруг, обращаясь ко мне.
– Мне не нужно: я не пишу стихов, – гордо ответил я.
– Напрасно. Научиться по-настоящему работать со словом может только тот, кто пишет стихи, – промолвил Маяковский твердо и потерял ко мне интерес.
Но это разговор – шуточный, а если говорить всерьез, стремление Маяковского быть до конца понятым было для него всегда самым насущным.
Да и могло ли быть иначе для поэта-пропагандиста, каким был Маяковский, для человека, побуждаемого к писательству стремлением «сделать жизнь»? Могло ли ему быть безразлично, понимают ли его и правильно ли понимают, то есть, в сущности, слышат ли его те, к кому он обращается, те, чьи сердца он стремится завоевать?
И надо же, чтобы именно Маяковского критические слепни, всю жизнь роившиеся вокруг него, беспрестанно язвили за то, что он непонятен! непонятен! непонятен! читателю, и ставили ему в пример... но не будем поминать «первых учеников», которых эти насекомые ставили в пример Маяковскому.
Трудная, очень трудная профессия – литература.
Что же до «счастливцев», у которых Маяковскому предлагалось учиться, то ведь никто из них никогда не был настоящим писателем. А среди настоящих, надо полагать, никогда не бывало счастливцев...
Вероятно, именно потому в моей книжке так мало веселых историй.
ОХ, УЖ ЭТИ СПОСОБНЫЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ!
Следует сказать прямо: первая моя попытка вступить на литературное поприще завершилась провалом. Первая, если не считать нескольких, вполне младенческих стихотворений в прозе, которые я произвел на свет, вступив в кружок молодых литераторов, возникший в Тифлисе в самом начале двадцатых годов и состоявший из десятка мальчиков, очень любивших читать и поэтому пишущих.
Как мне представляется нынче, никто из участников этого кружка не относился к своим занятиям литературой серьезно, если не считать его главы и вдохновителя, такого же молодого, как и все остальные, но не по годам образованного и умного. Звали его Борис Нелепо. Любопытно, что все знавшие его не видели в его фамилии решительно ничего смешного. Значение этого слова по Далю – «бессмысленный, вздорный, пустой» – так не подходило к внутреннему, да и внешнему облику этого человека, вызывавшего у всех, кто с ним соприкасался, восхищенное уважение, что никому и в голову не могло прийти, даже в шутку, устанавливать связь между ним и его фамилией.
Он очень рано умер от врожденного порока сердца, проучившись перед этим года два на филологическом факультете Бакинского университета. Там и была вскоре после его кончины издана маленькая книжка его стихов под редакцией поэта Вячеслава Иванова, который был в ту пору профессором. В своем предисловии к ней он пишет: «Столь горестно-рано ушедший от нас юноша-поэт был один из дружно сплотившейся группы бакинских студентов, словесников и энтузиастов художественного слова... мы легко распознавали и горячо любили мягкое благородство его облика, нежность отзывчивой души, высокую культуру ума и вкуса, строгость и силу научно направленной мысли... Я, не колеблясь, отметил его истинное дарование, и уверен, что из него выработался бы поэт замечательный».
О Борисе Нелепо следует рассказать еще вот что: он знал, что жить ему осталось недолго, потому что все мужчины в их роду были «сердечниками» и умирали молодыми, а у него наследственная болезнь проявлялась особенно остро, но вел он себя, а главное – работал и учился так, как полагалось бы учиться и работать человеку непоколебимо уверенному в своем долголетии. В последний раз я видел Бориса незадолго перед моим отъездом в Москву. Он был уже очень слаб и даже говорил медленнее и тише обычного, но и в этот раз, как всегда, я застал его за работой. Встречая меня, он ласково улыбнулся, но было видно, что с трудом оторвался от книги, очень толстой и, судя по всему, очень ученой. В отличие от подавляющего большинства молодых людей его возраста, которым все полезное представляется скучным, а все вредное – привлекательным, Борису нравилось все полезное.
Поговорив немного, мы простились, и я вышел на улицу с камнем на сердце. Даже мысли о скором отъезде из отчего дома – событии, которое представлялось мне тогда в самых радужных цветах и оттенках, – не могли утешить меня.
О смерти Бориса Нелепо я узнал уже из письма, полученного в Москве.
Но вернусь к истории моих литературных неудач.
Они, как я сейчас понимаю, были – в самом полном смысле этого слова – закономерными.
Приехав в Москву с командировкой Наркомпроса
Грузии на экономический факультет Московского университета (такие командировки были необходимы тогда для поступления в некоторые высшие учебные заведения) и установив, что командировка эта не содержала в себе слов «в счет разверстки» и поэтому права для поступления в университет не давала, я быстро утешился. Экономические науки не очень привлекали меня, и теперь передо мной открывалась соблазнительная возможность выбирать ниву, на которой мне предстояло трудиться, по собственному вкусу и разумению. Поколебавшись некоторое время между химией (это была профессия отца) и литературой (которая была моей тайной склонностью и которой, сколько мне было известно, никто из моих предков не занимался), я выбрал литературу. А выбрав, отправился на Поварскую улицу (нынешнюю улицу Воровского), где помещался знаменитый в ту пору Высший литературно-художественный институт, руководимый В. Я. Брюсовым.
Мог ли я знать тогда, впервые входя в большой круглый двор, с неухоженной клумбой посередине и статуей какого-то мыслителя в ниспадающей до земли каменной тоге, что через пятьдесят с лишним лет, став уже стариком и бывая здесь иногда, я буду всякий раз отчетливо вспоминать себя тогдашнего и все подробности дня, о котором пойдет сейчас речь?
Надо думать, у меня и в мыслях ничего подобного не было. Я, разумеется, понимал, что совершаю важный, может быть, даже решающий шаг в свое будущее, но это будущее выглядело довольно туманно, и заботил меня всего лишь вопрос о том, как отнесутся ко мне в приемной комиссии института. Мне было известно, что здесь, в отличие от университета, формальности при поступлении не в чести, но все же, подойдя к двери с табличкой «Приемная комиссия», я остановился, чтобы перевести дух.
Дверь показалась мне очень монументальной – вся в каких-то гирляндах, венках и узорах, с массивной бронзовой ручкой, правда, давно не чищенной, но тоже монументальной.
Отдышавшись, я нажал на эту ручку и вошел, а войдя, остановился в некотором остолбенении.
Дело в том, что комната, в которой я очутился, была уж очень причудливой. Все стены ее были затянуты шелком, не то вышитым, не то расписанным экзотическими растениями, пагодами и птицами, очень уж не вязавшимися с нынешним ее назначением. То была, как мне стало известно позднее, так называемая «китайская» комната, оставшаяся почти неприкосновенной с тех пор, как из дома на Поварской выехали прежние его хозяева и он был передан Брюсовскому институту. Дом этот был примечательным еще и потому, что, по слухам, был описан Толстым как жилище графов Ростовых. Но все это, как уже было сказано, дошло до меня позднее, а нынче у меня были все основания дивиться странному несоответствию между табличкой на двери и китайским колоритом комнаты, куда эта дверь вела. Правда, обшарпанные конторские столы и убогая канцелярская утварь, разбросанная на них, несколько смягчали это несоответствие, но птицы и пальмы на черном шелке первыми бросились мне в глаза.
За одним из столов стоял (именно стоял, а не сидел) совсем еще молодой паренек в синей косоворотке, с большой краюхой черного хлеба в руке. Разговаривая со мной, он продолжал есть, но ни мне, ни ему это не казалось странным, тем более что между нами сразу же установились вполне дружеские взаимоотношения.
Перелистав и бегло просмотрев мои бумаги, паренек гостеприимно улыбнулся.
– Ступай направо по коридору, – сказал он, – налево третья дверь. Там Валерий Яковлевич проводит беседу с поступающими. Как пройдешь испытания, сразу возвращайся ко мне. Я тебя оформлю.
Послушавшись паренька, я пошел направо по коридору и, не постучав, открыл третью дверь.
Уму непостижимо, как я мог тогда, уже узнав, что мне предстоит встреча с Валерием Брюсовым, одним из зачинателей российского символизма, другом Блока и одним из столпов нашей литературы, – в буквальном смысле этих слов, не спросивши броду, – и даже не попытавшись собраться с мыслями и освежить в памяти то немногое, что мне было известно, с совершенно пустой головой и глупой усмешкой этакого баловня счастья, каким, кстати сказать, я отроду не был, – как я мог, ни на минуту не остановившись, открыть эту дверь?!
Помню, что в голове у меня в это мгновение вертелись строчки из какого-то стихотворения Брюсова, которые сохранились в моей памяти до сих пор. Строчки были такие:
Улица была, как буря, толпы проходили,
Будто их преследовал неотвратимый рок.
Мчались омнибусы, кебы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток...
Строки эти мне нравились, но стихи – стихами, кебы – кебами, а давно не метенный пол и барьер, почему-то перегораживающий комнату, куда я вошел, быстро отрезвили меня. По ту сторону барьера, у окна, стоял большой письменный стол, за ним возвышалось тяжелое кресло, а перед ним – два венских стула, на одном из которых, к полной для меня неожиданности, я увидел давнего своего тифлисского знакомого Борю Агапова, доверительно беседующего с человеком, сидевшим в кресле, которого я тоже сразу узнал.
Человек этот был не кто иной, как оригинал знаменитого врубелевского портрета, только теперь он не стоял, скрестив на груди руки, а сидел, внимательно слушая то, что говорил ему Боря Агапов.
Прислушавшись, я установил, что Боря читал стихи, и так как мне было известно, что он – поэт и что в Брюсовском институте имеется «творческое» отделение, мне стало понятно, что я присутствую на экзамене. На меня Валерий Яковлевич посмотрел мельком, никак на мое появление не отозвавшись, и я остался стоять у двери, «весь обратившись в зрение».
В Брюсове – все было в точности такое, как на портрете: прямые, растрепанные волосы, вкривь и вкось торчащие скулы, челюсти, борода и усы, холодные, колючие глаза и какой-то совершенно врубелевский пиджак с высоко приподнятыми плечами.
Когда Боря кончил читать, Брюсов полистал лежавшие перед ним на столе бумаги, черкнул что-то на одной из них и, протянув ее Боре, внятно сказал:
– Вы приняты!
Тот взял бумагу, встал и, явно ничего перед собой не видя, пошел к двери. Меня он попросту не заметил.
Брюсов же поднял глаза и указал мне на один из стульев, стоящих перед столом.
Я сел и вдруг почувствовал, как душа у меня (в это мгновение ее присутствие стало совершенно отчетливым – она была беззащитная, маленькая и теплая на ощупь), так вот эта самая душа, вместо того чтобы, как ей полагалось, уйти в пятки, – совсем покинула мое сразу похолодевшее тело.
Ощутить бы мне это чувство пятью минутами раньше, перед тем как я вошел в эту страшную, перегороженную каким-то милицейским барьером комнату! Но ведь в том и состоит всегдашняя наша беда, что чувство опасности приходит к нам слишком поздно.
Ко мне же теперь это чувство пришло даже не потому, что я был совершенно не подготовлен к экзамену, да и мог ли я быть к нему подготовлен, если ни программы, ни сколько-нибудь определенных требований к поступающим в Брюсовском институте не было тогда и в помине, – а потому, что мной вдруг овладело твердое, непонятно откуда взявшееся убеждение, что я не понравился Брюсову, мгновенно превратившемуся в моих глазах из небожителя, автора стихов, которые я знал наизусть, в отталкивающе некрасивого, за что-то на меня сердитого человека, занятого сейчас придумыванием самых что ни на есть каверзных вопросов, чтобы сразу со мной разделаться.
Как это ни странно, но я не ошибся. Вопросы были действительно каверзные и именно чтобы сразу...
Первый был такой:
– В каких журналах впервые начали печататься русские символисты?
Я не знал. Надо думать, что я не знал бы этого и сегодня, если бы Брюсов, установив по моему молчанию и туповато унылому виду, что на меня надежда плоха, не счел нужным просветить меня по этому поводу. Оказалось, что то были марксистские журналы. Мог ли я думать, что стихи Белого, Брюсова и Сологуба соседствовали некогда со статьями Петра Струве и Туган-Барановского? Я и сейчас этому с трудом верю!
Мне почудилось, что Брюсову было приятно мое замешательство. Правда, его лицо оставалось совершенно бесстрастным, но следующий его вопрос тоже оказался разительно схожим с волчьей ямой, где наваленные в беспорядке ветки и комья земли маскируют ловушку, из которой зверю живым не выбраться.
Вопрос был о том, какое произведение Достоевского было им написано и опубликовано первым после возвращения из Сибири.
Нужно ли говорить, что, одушевленный своей сообразительностью, я проявил девственную неосведомленность об истинном положении вещей и сразу же назвал «Записки из Мертвого дома»?
Брюсов поморщился.
– Вы ошиблись, – сказал он. – «Село Степанчиково». «Мертвый дом» был опубликован только через два года, в 1861 году.
И, совершенно потеряв ко мне интерес, даже глядя куда-то в сторону, он предложил мне перечислить рассказы Чехова о деревне.
Я сумел назвать только «В овраге» и «Бабы». Как это всегда бывает, когда требуется, да еще в критических обстоятельствах, что-либо перечислить, у меня вылетели из головы все остальные «деревенские» чеховские рассказы, которые я множество раз перечитывал и мог бы не только перечислить, но и пересказать. Даже любимейший мой рассказ «На святках» не пришел мне тогда на ум!
Не помню, что сказал Брюсов, но все было ясно: я провалился самым постыдным образом.
Выйдя в коридор и пробираясь к выходу, я больше всего боялся столкнуться с моим покровителем из приемной комиссии. Но все обошлось, и я побрел по жаркой в тот день Поварской и свернул на Кудринскую площадь, в центре которой тогда был сквер с большим круглым бассейном посередине, где по колени в воде стояли гипсовые статуи Маркса и Энгельса, непочтительно именовавшиеся «бородатыми купальщиками». Путь мой лежал на Малую Дмитровку, и я, по обыкновению, двинулся туда по Большой Садовой. Не догадываясь о том, что Садовое кольцо недаром зовется кольцом, я всюду, куда бы ни шел, предпочитал держаться этой широкой и, как мне казалось, прямой улицы, удлинявшей все мои маршруты не меньше чем вдвое.
О Брюсове я старался не думать, но это, как известно, лучший способ ни на минуту не забывать о том, что хочешь забыть, и поэтому весь остаток дня я не переставал размышлять о своем провале и придумывать уничтожающе точные реплики, коими следовало бы отвечать на каверзные вопросы моего прославленного экзаменатора.
Ах, если бы я мог прочесть тогда хотя бы одну страничку из воспоминаний В. Ф. Ходасевича о Брюсове. Он хорошо знал Брюсова, и эта страничка – одно из многих беспощадных его суждений об отце русского символизма – очень бы меня обрадовала.
Вот что пишет о Брюсове Ходасевич:
«Он страстною, неестественною любовью любил заседать, в особенности – председательствовать. Заседая – священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф – эти слова нежили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова «дискреционного властью председателя», звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося «занести в протокол» – все это было для него наслаждение... В эпоху 1907-1914 гг. он заседал по три раза в день, где надо и где не надо. Заседаниям жертвовал совестью, друзьями...»
* * *
Кто знает, как бы сложилась моя судьба, если бы через несколько дней после неудачной попытки поступить в Брюсовский институт кто-то из моих знакомых (а водился я в ту пору по преимуществу с молодыми людьми, кочевавшими из института в институт в поисках удачи и счастья) не сообщил мне, что в Москве есть еще одно литературное учебное заведение, куда принимают без командировок. Называлось оно Государственный институт слова, и, хоть в его титуле не было слова «высший», учили там примерно тому же, что и в Брюсовском институте.
Нынче мне представляется, что людские судьбы мало зависят от случайного стечения обстоятельств, и даже в тех случаях, когда обстоятельства уводят нас от пути, предначертанного велениями времени и генетическим кодом, мы отклоняемся в сторону недалеко и ненадолго. Надо думать, я не стал бы моряком, инженером или врачом, даже если бы у меня не появилась новая возможность попытаться стать литератором. Но тогда сообщение об Институте слова показалось мне последним шансом на пути к цели, которую я избрал и которая маячила далеко впереди.
И именно с этим чувством я отправился на Большую Никитскую (нынче улицу Герцена), где наискосок от Консерватории, в старом здании бывшей школы, этот институт помещался. Помню, каким неприглядным и дряхлым выглядел этот дом, не только снаружи, но и внутри, и как меня это тогда огорчило.
Экзамены для поступающих происходили здесь в бывших школьных классах, где экзаменатор и экзаменуемый сидели рядом на партах, испещренных глубоко врезанными именами и изречениями дореволюционных двоечников, стремившихся увековечить память о себе этим испытанным способом.
Экзаменовал поступающих в тот день неведомый мне, но, как я скоро узнал, широко известный в литературных кругах знаток античности и специалист по французской литературе Борис Александрович Грифцов. Худощавое, чисто выбритое розовое лицо его с упрямо выдвинутым вперед подбородком сразу же понравилось мне, но воспоминание о брюсовском экзамене было еще слишком сильным, чтобы снять владевшее мной напряжение.
И тем неожиданнее, тем необъяснимее показалось мне то, что с первых же слов, сказанных Борисом Александровичем, я вдруг почувствовал, что мне стало легче дышать, а звук его голоса, в первые мгновения доносившийся до меня словно издалека, стал внятным и, что было совсем уже неожиданным, ободряюще приветливым. Может быть, причина моего внезапного просветления была в том, что мы сидели с ним рядом, а не по обе стороны письменного стола (эта позиция и до сих пор лишает меня присутствия духа), вернее же всего, мне помогло взять себя в руки несомненное радушие, с каким меня встретил мой новый экзаменатор.
Во всяком случае, на первые его вопросы (не помню уже, в чем они состояли) я ответил вполне удовлетворительно, а увидев, как, слушая меня, Борис Александрович несколько раз ободряюще кивнул, я и совсем осмелел. Привело это к тому, что на главный вопрос, заданный мне, я ответил пространным, малообоснованным рассуждением, которое, как я сейчас понимаю, давало Грифцову все основания счесть меня легкомысленным болтуном и прогнать. Но он не использовал эту возможность.
Вопрос был о том, какова основная мысль романа «Анна Каренина».
Честно говоря, я об этом никогда прежде не думал. Да и вообще, читая книги, я умел в ту пору только радоваться или негодовать, далеко не всегда понимая, почему эти чувства у меня возникают. Видимо, «разборы» литературных произведений, практиковавшиеся на школьных уроках литературы и имевшие целью вышелушить из книг их «смысл», породили у меня и у большинства моих сверстников такое предубеждение против сальериевского «разъятия музыки», что нам и в голову не могло прийти заниматься этим по собственной воле, в свободное от уроков время.
Мое истолкование толстовского романа, кстати сказать, родившееся в ту самую минуту, когда я начал его излагать, состояло в том, что «Анна Каренина» представляет собой гневное осуждение буржуазно-помещичьего института брака и защиту женщины, преступившей моральные догмы и нормы своего круга и времени.
Развивая и пытаясь обосновать эту «прогрессивную» мою идею, я словно парил на крыльях. Мне чудилось, что внимание, с каким Борис Александрович слушал меня, свидетельствовало о том, что его заинтересовали и показались резонными мои суждения. Даже самый тот факт, что он не прервал меня, как это практикуется в случаях, когда экзаменуемый отвечает на вопрос слишком пространно, показался мне ободряюще важным. Дождавшись конца моей речи, Грифцов сказал:
– Все это очень интересно, но вам, вероятно, известно, что эпиграф к роману Толстого противоречит вашей концепции. Вы помните этот эпиграф?
Я не помнил.
– Очень жаль, – с вежливым сочувствием промолвил Борис Александрович, – но эпиграф там такой: «Мне отмщение, и аз воздам». Как, по-вашему, его следует понимать?
И тут наступил мой звездный час. Почувствовав, как земля уходит у меня из-под ног, обуреваемый энергией отчаяния, той самой энергией, которая помогает человеку, уходя от погони, перемахнуть через недосягаемо высокую изгородь или переплыть широкую реку, а попросту говоря, не помня себя, я произнес еще одну речь, на этот раз напоминавшую не свободное парение в волнах теплого воздуха, а судорожный полет раненой птицы, спасающейся от смертельной опасности.
Смысл моих рассуждений сводился к тому, что в процессе работы над романом художник победил в Толстом моралиста, и поэтому люди, созданные им, повели себя не так, как это было задумано автором для осуществления его замысла, а как подлинные живые люди, то есть сообразно с их характерами и обстоятельствами, в которых они оказались. Я наделил Анну одному мне известным «талантом любви», утверждая, что сила и самозабвенность этого чувства оправдывают все ее прегрешения, я вспомнил и многозначительно подчеркнул оттопыренные уши и скрипучий голос Каренина, я позволил себе заявить, что Толстой опрометчиво, вопреки своему замыслу, показал трагедию Анны на фоне разлада в семействе Облонских и что, наконец убив свою героиню, он тем самым оправдал ее в глазах читателя, позволив ему думать, что кара, постигшая Анну, слишком сурова.
Произнеся эту тираду, я остановился, чтобы перевести дух, и открыл было рот, чтобы продолжать, но вдруг почувствовал, что выговорился до дна и больше сказать мне нечего. И, хоть молчание показалось мне тягостным, я не сумел выдавить из себя больше ни слова.
Грифцов посмотрел на меня, видимо ожидая, что я продолжу свою речь, но, установив, что я кончил, кивнул головой.
– Ну что ж, – сказал он. – Из вашего ответа явствует, что вы довольно внимательно прочли толстовский роман, который, как все великие книги, допускает самые разнообразные толкования. Кроме того, вам удалось, с некоторым даже успехом, защитить свою, весьма спорную точку зрения. Так что, я думаю, вы достаточно подготовлены для поступления в наш институт.
И, улыбнувшись, он протянул мне руку. Пожав ее и не чуя под собой ног, я вышел из комнаты и через несколько минут очутился на улице.
Теперь мне принадлежало здесь все. И красно-желтый трамвай, проскрежетавший мимо и отметивший пронзительным звоном мое торжество, и внушительное здание Консерватории, где, как мне было известно, «к моим услугам» имелся огромный концертный зал с великолепной акустикой (вскоре я в этом убедился, побывав там на вечере Андрея Белого, когда, еле различая с галерки его лицо, я отчетливо слышал каждое его слово), и керосиновая лавка на соседнем углу, и гомеопатическая аптека – через дорогу, наискосок; мне принадлежали теперь все театры и библиотеки, бульвары и магазины, да мало ли превосходных вещей могла предложить мне столица, набиравшая силу и расцветавшая на глазах в те достославные времена!








