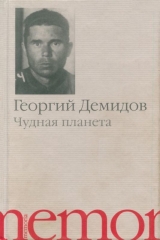
Текст книги "Чудная планета (Рассказы)"
Автор книги: Георгий Демидов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Интеллектуал
(Признак Коши)
Если при переходе через критическую точку производная функции меняет знак на отрицательный, то функция в данной точке имеет максимум.
Первый «признак Коши». Из учебника математики
На воле одни с оттенком некоторой презрительности, другие – уважения прозвали руководителя университетской кафедры математического анализа тогда еще мало известным словом «интеллектуал». Уж очень широк был у молодого профессора математики круг познаний и интересов. Он был прекрасным аналитиком и талантливым виолончелистом, игравшим в самодеятельном симфоническом оркестре при Доме ученых. Интересовался множеством предметов, не только смежных с математикой, но и весьма от нее далеких, как философия и история, например. Несмотря на то, что его можно было встретить в гимнастическом зале и в группе туристов-оборванцев где-нибудь на горной тропе, некоторые считали его «рафинированным интеллигентом», комплимент для советского человека более чем сомнительный. Прилагательное «рафинированный» не только не исключало, но скорее даже подчеркивало другое прилагательное, считавшееся почти неотторжимым от понятия «интеллигент» – эпитет «мягкотелый». Предполагалось, и нельзя сказать, не без известной доли резонности, что избыток образованности опасен для дела революции. В отличие от пролетариата, не отягощенного никакими сомнениями относительно ее исторической оправданности, русская интеллигенция, даже в лице новых своих представителей, всё еще несла на себе груз политических, этических и всяких иных сомнений. И, хотя обычно это никак не отражалось ни на практической деятельности интеллигентов, ни на их гражданской честности, угрюмо подозрительное отношение к ним особо трагическим образом сказалось на судьбе советской интеллигенции в «черном» 1937 году. Тогда погибли многие, если не все, из числа лучших ее представителей.
Оказался среди них и «Интеллектуал». Теперь, впрочем, член бригады навальщиков-откатчиков, работающих на руднике сопки Оловянной, именовался уже проще – «Ученый». Из всех знаний и умений, которыми обладал бывший профессор, теперь практически требовалось только одно – умение напрягать волю, чтобы мобилизовать до возможного предела слабеющую энергию мышц во время работы. А вне её – противостоять принижающему действию каторжного быта и не опуститься до уровня почти животного, как это происходило здесь едва ли не со всеми. Главным способом противодействия отупляющему влиянию каторги ученый считал постоянную «гимнастику ума», столь же здесь необходимую, как гимнастика в обычном понимании этого слова необходима для людей нефизического труда. Здесь он был превращен в «мускульную машину», то нагружающую кусками взорванной породы тяжелую вагонетку, то толкающую эту вагонетку по рельсам, то разбивающую кувалдой особенно крупные камни. Поэтому, занимаясь этим, Ученый придумывал для себя задачи вроде таких: какой формулой можно было бы определить объем вон того клиновидного камня? Или как выразить аналитическую кривую прихотливого изгиба рельсов на повороте откаточного пути? Решал он эти задачи обычно в уме, но в особо трудных случаях писал иногда затейливые математические знаки на стене гранитной штольни куском белой мягкой породы.
Конечно, его за это считали тут «чокнутым», как, впрочем, почти всех ученых, но не презирали и не глумились над его странностями.
Во-первых, Ученый, как оказалось, мог, когда нужно, и постоять за себя. Во-вторых, и это было самое главное, он, в отличие от большинства своих собратьев-интеллигентов, был всегда собран и подтянут, и работал лучше не только их, но и многих людей физического труда, крестьян и даже бывших шахтеров. Он пережил едва ли не всех, с кем два года назад был привезен прямо с материка в лагерь у проклятой Богом и людьми сопки Оловянной. Трудно было сказать, что помогло бывшему «рафинированному интеллигенту» побить столь трудный рекорд. То ли унаследованное от предков-крестьян необычайно выносливое сердце, то ли еще более необычная сила воли, то ли привычка смолоду к физическому труду. Государственная стипендия в середине двадцатых годов была явлением не частым, если социальное происхождение студента вуза не было кристально пролетарским. Поэтому многие зарабатывали себе на пропитание разгрузкой вагонов на железнодорожной станции, пилкой-колкой дров по дворам и тому подобным нелегким трудом. Немаловажное значение, особенно в условиях лагеря при «Сопке», как называли тут гору Оловянную, имело и увлечение Ученого в прошлом горным туризмом. Опыт, приобретенный им на Кавказе и Алтае, неожиданным образом пригодился ему на Колыме.
Скорее всего, конечно, что не какое-нибудь отдельное из этих качеств и навыков бывшего ученого, музыканта и спортсмена, а все они вместе взятые помогли ему поразительно долго не скатываться по пути наименьшего сопротивления к лагерному кладбищу. Он до конца сохранил сознательную волю к жизни там, где у большинства его товарищей по лагерю оставался уже только животный инстинкт жизни, унизительный и, чаще всего, нецелесообразный. Собирание селедочных головок по помойке, например, или питье для заглушения голода невероятного количества воды не отдаляет, а приближает смерть от дистрофии и связанных с нею болезней.
Не было, однако, таких «сивок», которых не могла бы, и скорее рано, чем поздно, укатать крутая горка под названием «Оловянная». Она была крута не только в переносном смысле расположенным в ее недрах каторжным рудником и обслуживающими этот рудник лагерями с почти невыносимыми условиями быта заключенных. «Сопка» была крута и в самом прямом смысле тем своим склоном, по которому ежедневно поднимались на ее вершину заключенные работяги рудника. Почти все входы и спуски в его многочисленные шахты, карьеры и штольни располагались на этой вершине или в непосредственной близости от нее.
С точки зрения профессионального альпиниста Оловянная отнюдь не являлась особенно трудным альпинистским «объектом». Обычная для здешних безлесных угрюмых гор, продолговатая сопка средней высоты. По вертикали от подножия до вершины эта высота едва тянула на какую-нибудь тысячу метров. Склон, по которому совершал свое ежедневное восхождение лагерный развод, был настолько «спокоен», что по нему удалось даже проложить рельсы «бремсберга», канатной железной дороги, обслуживающей рудник. Но добавьте к высоте сопки еще метров триста подъема на пути от лагеря, расположенного километрах в трех от ее подножия, оледените ее склоны осенней и весенней гололедью, завалите их сугробами снега зимой, ударьте в лицо ежедневным «покорителям Оловянной» ураганным ветром высокогорной пурги, обожгите их пятидесяти-шестидесятиградусным морозом, помножьте всё это на число дней в году, и вы получите, далеко еще не полное, представление о трудностях «рекордов», побиваемых подневольными альпинистами. Ежедневные подъемы и спуски были, конечно, только дополнением к четырнадцатичасовому каторжному труду на руднике. Впрочем, многие считали, что дело обстоит наоборот и что этот труд сам лишь дополнение к ежедневному «покорению вершины». Сумма, как известно, от перемены мест слагаемых не меняется, и даже у самых выносливых из «покорителей» окаянной сопки от непривычного высокогорного климата и непомерной нагрузки на сердце развивались болезни, связанные с его расширением. Они-то и сводили в могилу тех из «альпинистов», которые еще раньше не умерли от изнурения и недоедания и не погибли в бесчисленных катастрофах на руднике. О технике безопасности здесь знали только понаслышке и почти о ней не заботились. Было бы нелогично делать крупные производственные затраты ради тех, на чью жизнь здесь в среднем отпускалось не более полутора-двух лет. Почти ежедневно кто-нибудь из совершающих восхождение, а в иные дни и двое, и трое из них, на этот раз уже не могли «взять» вожделенной вершины. Не достигнув ее, они падали, чтобы больше никогда уже не подняться. Не помогали не только мат и угрозы конвоиров, но даже их сапоги и приклады.
Когда лагерный развод добирался до подножия Оловянной, в дни с низкой облачностью уходившей своей вершиной в серые облака, начальник конвоя выкрикивал команду сделать короткий привал. Повторять эту команду ему никогда не приходилось. Вся тысяча человек, а иногда и только триста – это зависело от числа месяцев, прошедших со времени последнего пополнения лагеря, – тут же валилась на снег или камни. И, хотя все знали, что отдых не продлится более пяти минут, большинство сразу же погружалось в сон. Хроническое недосыпание было здесь едва ли не большим бедствием, чем обычная нехватка пищи. За вычетом часов работы на руднике, времени на подъем и спуск в сопки, сборы на развод и стояние у вахты, получение хлеба и баланды, бестолковые поверки и частые «шмоны», на сон у работяг «основного производства» оставалось в иные сутки не более пяти-шести часов. Атак как о выходных днях для заключенных здесь не было речи, то возместить вечную «недоимку» по части сна удавалось только в дни освобождения от работы по болезни. Но получить такое освобождение было тут очень непросто. Для этого, как гласила невеселая лагерная шутка, надо было принести в санчасть «голову под мышкой».
Поэтому насколько охотно выполнялась команда «Садись!», настолько же неохотно люди пробуждались от мгновенно охватившего их свинцового оцепенения. Они тяжело поднимались на ноги, нередко только после конвоирского пинка ногой, и начинали мучительный подъем на гору, на который уходила едва ли не большая часть их слабеющих физических сил.
На этом участке пути конвоиры не окружали колонну заключенных, как обычно, а пропускали ее вперед, чтобы самим замыкать шествие. Если и всегда-то они были больше погонщиками, чем охранниками, то при подъемах на сопку превращались уже исключительно в погонщиков, притом невероятно свирепых. Иначе было нельзя. Развод на склоне Оловянной имел злостную тенденцию растягиваться едва ли не на всю его длину. В то время как голова «колонны» достигала уже вершины сопки, ее хвост плелся в доброй версте от этой вершины, даже при условии непрерывного понукания и толчков прикладами в спины отстающих. Тех, кто валился наземь, вохровцы методически избивали. Делалось это, собственно, не для того, чтобы заставить упавшего подняться на ноги и продолжать путь, такой надежды почти не было – а в назидание остальным. Если дышащего, как запаленная лошадь, доходягу или даже почти совсем не дышащего не дубасить сапогами и прикладами, то много найдется охотников симулировать полное бессилие или сердечный припадок, чтобы быть отправленным в санчасть. Лагерные врачи разберутся, конечно, действительно ли заключенный не мог двигаться дальше или только «придуривался». Но обратно на сопку его уже не пошлют, а это для симулянта немалый выигрыш. А вот если такая удача обойдется ему в отбитые легкие или сломанное ребро, то ни ему впредь, ни остальным зэкам заниматься подобной симуляцией будет уже неповадно. А что касается тех, кто и в самом деле не мог продолжать восхождение, то большинство таких умирало, а остальные превращались в совершенных уже инвалидов, не имеющих ни малейшей ценности как рабочая сила. Следовательно, и церемониться с ними уже нечего. В этом рассуждении была своя логика.
В течение почти года, хотя он был далеко не самым молодым из здешних заключенных, Ученый одним из первых достигал места, где лежали и хватали раскрытыми ртами разреженный воздух те, кому и на этот раз удалось одолеть подъем. Но постепенно «сепаратор сопки» отбрасывал его всё дальше от головы колонны, и теперь он плелся даже не в ее середине. Сердце, про которое он шутил прежде, что не знает толком, где оно находится, давало себя знать всё сильнее и чаще. Одолевала слабость, саднящая боль в груди, ощущение нехватки воздуха. Чем ближе к хвосту колонны он карабкался на гору, тем чаще наблюдал, как кто-нибудь рядом с ним останавливался и хватался за сердце. Потом человек медленно опускался на склон, глядя помутневшими глазами вслед тем, кто, тяжело отрывая от земли ноги, продолжал путь дальше. Чаще всего эти глаза выражали только физическую боль, но иногда еще страх и смертную тоску. В углах рта у некоторых выступала пена. Оглянувшись, Ученый видел, как к упавшему, не торопясь, подходят охранники. Теперь он уже и слышал иногда, как, пнув для начала скрючившегося на земле человека ногой, кто-нибудь из них кричал на него ненатурально грубым голосом, как пастух на скотину: «А ну, кончай придуриваться!»
Перспектива такого конца не столько страшила, сколько возмущала Ученого своей бессмысленностью. Стоило родиться на свет на редкость одаренным человеком – теперь, в своем нынешнем положении, он считал себя вправе давать себе такую оценку, – многого достигнуть и к еще большему стремиться, чтобы таким нелепым, противоестественным образом погибнуть среди угрюмых гор, где-то на самом краю света. Он всеми силами на протяжении последних двух лет старался отдалить этот конец, веря в какое-то чудо, невозможность которого отчетливо понимал. Но вера в чудо органически присуща попавшему в безвыходное положение человеческому существу, так же присуща ему, как рефлекс защиты себя ладонями от падающей скалы. Эта вера появляется не только в большом, но и в малом, подчас почти смешном своей наивностью. Разве он не знал, например, что в санчасти лагеря нет почти никаких лекарств, когда пошел вчера к лагерному лекпому, бывшему ветврачу, просить дать ему чего-нибудь против усиливающихся день ото дня перебоев сердца. Ветеринар не стал даже прикидываться, что проверяет жалобу больного выслушиванием этого сердца, и порошки дал. Такая легкость отпуска лекарств и его чем-то очень знакомый вкус навели недоверчивого пациента на мысль капнуть в свой порошок разбавленной соляной кислоты, выданной тем же лекпомом его соседу по нарам. Эта кислота, да еще отвар кедра-стланика, были в их лагере единственными медикаментами, имеющимися в достатке. Смесь бурно вспенилась. Так и есть – сода! Как у чеховских «сельских эскулапов», ставка на психотерапевтический эффект.
Но если психотерапия при помощи соды удалась, то тем более была необходима теперь его обычная «отвлекающая терапия» при помощи мышления о чем угодно, кроме, конечно, мыслей о своей судьбе. Она отвлекает от этих мыслей и помогает забыть о боли и даже о том, что физические силы неумолимо иссякают. А вот запас тем, на которые можно размышлять во время этих восхождений, продолжающихся не меньше часа, практически неиссякаем. Можно думать, например, о том, что по мере подъема на сопку становится всё яснее, что окружающие ее горы кажутся хаотическим образованием только внизу. Вообще понятие хаоса в чем-нибудь порождается всегда недостатком знаний о природе и законах этого явления. Отсюда же видно, что сопки, особенно дальние, вытянуты в цепи, как бы набегающие друг на друга и порождающие мысль о волнообразном движении. Это движение нельзя считать застывшим, так как горообразовательные процессы, особенно в этих местах, всё еще продолжаются. Его, например, даже можно было бы выразить, пусть несколько абстрагированной, математической формулой. В противовес представлению о Хаосе – признаку капитуляции разума перед непознанным, математическое отображение явления означает высшее торжество этого разума. Кажется, Лауэ сказал, что математика дарит человеку радость наслаждения истиной в ее наиболее чистом виде. Но эта истина лишена красок, звуков и всего того, с чем связана всякая реальность. Этот горный ландшафт, например. Он наводит на мысль о мертвых планетах, о чем-то глубоко чуждом и враждебном человеку. Этого не выразишь формулой. Здесь нужна музыка. Если архитектура – это «застывшая музыка», как было сказано уже очень давно, то горы имеют на такое определение еще большее право. Только симфония здесь должна неизбежно перемежаться с какофонией. И какое же из этих начал должно подчиняться другому? Это зависит уже от восприятия мира творцом музыки. В отличие от математических выкладок, абсолютно объективных по самой своей сущности, здесь возможно, и даже обязательно, субъективное начало. Без этого самое понятие искусства было лишено своего смысла.
Кому-то из мудрецов, склад ума которого, вероятно, был совсем иным, чем у физика Лауэ, принадлежит мысль, что музыка тем и хороша, что мешает логически думать. Так ли это? Вернее, так ли это всегда? Создатель проективной геометрии, математик Бальи находил законы этой геометрии, играя на скрипке. Математический и музыкальный центры мозга, по-видимому, близки друг к другу, если только не совпадают. Среди профессиональных музыкантов математиков, правда, нет. Это объясняется, вероятно, специальным характером предмета математики и трудностью освоения его техники. Зато много музыкантов-любителей высокого класса среди математиков. Оркестр, в котором он играл, почти сплошь состоял из математиков и физиков. Гениальный физик Эйнштейн прекрасно играет на скрипке. Виолончелист оркестра Дома ученых в иные периоды не сумел бы, наверное, достаточно определенно ответить на вопрос: кто в нем преобладает, математик или музыкант? В своей ранней молодости долго не мог ответить на этот вопрос и великий физик Макс Планк.
Многие, начиная со времен древних греков, пытались найти математические законы музыки. Он сам, в порядке некоего «хобби», пытался разработать, хотя бы в самом общем виде, математическое выражение фуги. Приятели шутили: «Я алгеброй гармонию проверил». Шутка казалась обидной. Приписываемая Пушкиным своему Сальери попытка подменить интуицию гениального музыканта чем-то вроде конструирования музыки по готовым формулам, всего лишь поэтический прием. Ведь и сама математика, если говорить об ее непроторенных путях, создается за счет всё той же интуиции. Представление об ее творцах как о людях сугубо рационалистического ума – плод невежественного и плоского мышления. Познание Истины ради самой Истины не носит примитивно рационалистического характера уже потому, что заранее известно: всякое открытие ставит больше проблем, чем решает их. Познание человеком законов мира часто сравнивают с открыванием ребенком куколок деревянной «матрешки». Ему такое сравнение кажется не совсем удачным. Куколки, по мере того как разбирается забавная игрушка, оказываются всё меньше по размерам. Вложенные же одна в одну загадки природы, наоборот, становятся всё масштабнее, всё глубже, всё труднее для разрешения. Может быть, следовало бы заменить ребенка в подобном сравнении, скажем, червем-древоточцем, помещенным в самую маленькую из матрешек. Пытаясь раскрыть тайну строения окружающего его «мира», этот червяк буравил бы одну за другой крепкие деревянные оболочки. И, конечно, находил бы, что они становятся всё толще, всё объемистее, всё труднее для одоления. Обладай он хмурым и дотошным умом шекспировского Гамлета, червяк-исследователь пришел бы, наверно, к тому же выводу, что и герой знаменитой трагедии: «Много есть на свете, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам…».
Однако от размышлений на отвлеченно философские темы мозг начал утомляться почти так же быстро, как «мышечный мешок» сердца от физических нагрузок. Надо занять его работой полегче. Например, вычислением энергии, затрачиваемой каждым из этого вот «развода», чтобы добраться до вершины сопки. Задача эта элементарная. Надо помножить средний вес заключенного – его можно принять равным всего пятидесяти килограммам, больше сейчас тут мало кто весит – на высоту подъема в метрах. Получится пятьдесят тысяч килограммометров механической работы. Чтобы выразить ее в привычных калориях, нужно разделить этот результат на механический эквивалент тепла, который, грубо округляя, можно считать равным четырем сотням. Получится, что восхождение на сопку только от ее подножия обходится даже предельно исхудавшему человеку более чем в тысячу двести калорий. Это больше половины калорий, заложенных в хлебном пайке, получаемом теми из заключенных, которые выполняют производственные «нормы». У не выполняющих дневной «план» их урезанный паек едва покрывает расход энергии на одно только это «восхождение». Вот почему сердце, даже у самых молодых и сильных из привезенных сюда, скоро начинает работать, как мотор, в баке которого иссякает горючее. Но это уже тема, запретная для размышлений.
На столбе справа, одном из двадцати, установленных вдоль линии «бремсберга» и несущих провода, питающие током двигатель лебедки, жирно выведен его номер – 531. Номер опоры в начале рельсового пути на сопку 517. Значит, позади остались почти две трети длины склона. Но будет правильнее определять соотношение пройденного и оставшегося пути не по его длине, а по энергии, затрачиваемой на подъем. Тогда получится куда менее благоприятный результат, сопка с высотой становится круче. Самое трудное место восхождения на нее находится между опорами 533 и 534. Склон там пересекает скальное образование, напоминающее естественный карниз или барьер, протянувшийся параллельно вершине сопки. Подъем на месте этого выступа так крут, что для спрямления линии «бремсберга» в вертикальной плоскости в нем сделана выемка. Подниматься по этой выемке было бы, конечно, гораздо легче, но заходить в нее во время восхождения на сопку целого развода заключенным не разрешается. Они могли бы задержать движение по «бремсбергу» вагонеточных «поездов».
Чертов барьер является «критическим» участком кривой подъема и с чисто математической точки зрения. Выражение функции этой кривой никому, конечно, не известно. Но несомненно, что ее первая производная где-то, именно здесь, меняет свой знак с плюса на минус. То есть удовлетворяет математическому признаку максимума всякой аналитической функции. Этот признак найден французским математиком прошлого века Коши и долго назывался его именем. Для каторжника, знающего математику и всё менее уверенного, что при очередном восхождении он сумеет преодолеть этот максимум, «признак Коши» стал с некоторого времени чем-то вроде мрачного символа. Конечно, это плод его нынешнего угрюмого праздномыслия. Но и того еще, что большинство смертей, которыми так часто сопровождается восхождение на Оловянную, происходит на этом участке подъема. Возможно, что и давно покойный маркиз Огюстен Луи Коши, имей он возможность наблюдать почти ежедневно происходящие здесь трагедии, усмотрел бы в них не только лишнюю иллюстрацию к своей теореме. Выдающийся аналитик в математике, он был крайне консервативен в своих политических взглядах. Он считал, что попытки насильственного преобразования общества, с какими бы благими намерениями они ни производились, неизменно пагубны, так как нарушают установления самого Бога. Наивная точка зрения верующего человека и клерикала. Но так ли уж далека она от истины, если рассматривать ее с не слишком предвзятой точки зрения?
Эта непредвзятая точка зрения, склонность проверять «своим умом» то, что проверять запрещено, более других людей свойственна профессионалам мыслительной работы. Вроде него самого, например. В обществах с авторитарной формой правления она считается опасным посягательством на монополию немногих думать за всех. Отсюда и извечная война единоличных диктатур и деспотий с собственной интеллигенцией. Она началась еще в древнем Египте, красной нитью прошла через историю императорского Рима, не говоря уже о средневековых полутеократических европейских государствах с их инквизицией. Но первым, кто поставил эту войну на продуманную, рационалистическую основу, был, наверное, китайский император Цинь Ши-Хуанди. Для начала эпохи абсолютно единоличного управления он повелел в своей империи умертвить всех философов. И, притом, такими способами, как утопление в нужниках, например. Это чтобы отбить охоту к критическому мышлению даже у тех, кто отягощен избытком ума и знаний. Цинь Ши-Хуанди жил более двух тысяч лет тому назад. Технические приемы старого богдыхана устарели. Но не его политические принципы. Иначе профессор математики не карабкался бы на эту сопку вместо того, чтобы заниматься теорией расходящихся рядов.
До барьера, перевал через который становится для него всё более трудным, остается всего один интервал между опорами. Всего одна двадцатая общей высоты сопки. А между тем, она равна высоте двенадцатиэтажного дома. И взбираться на эти дважды поставленные друг на друга многоэтажных дома приходится не по удобным лестницам, а по осклизлым, местами еще покрытым тающим снегом камням. Конец мая – один из самых неблагоприятных периодов для восхождения на здешние горы.
Богато иннервированный «мышечный мешок», который люди так долго считали вместилищем своей души, в общем-то, значительно трусливее ума. От одного приближения к круто вздымающемуся участку склона сердце начинает ныть особенно сильно, норовя совсем размагнититься в самый неподходящий момент. Поэтому нужно думать не о близком максимуме крутизны, в которой максимальной становится и нагрузка на почти отказывающее сердце, а о той же «музыке гор», например. С этой высоты уже совершенно очевидно, что здешняя горная система имеет ясно выраженный волнообразный характер, хотя и весьма сложный. Значит, и выражать его надлежало бы средствами полифонической музыки и среди них – фуги. При некотором напряжении воображения он уже сейчас слышит мощные, накатывающиеся друг на друга волны звуков. Вначале они должны изображать столкновение и борение между собой громадных масс мертвой материи. Затем проникновение в их первозданный хаос некоего организующего начала. Постепенно это начало переходит к своему торжеству, пока еще не окончательному. Борьба сил, слишком могучих, чтобы замечать человека, всё еще продолжается. Трагическая «тема» этого человека едва пробивается сквозь раскаты воображаемой полифонии. Сегодня она – совсем слабый, какой-то молящий звук. Это потому, что человек уже почти исчерпал свои силы в борьбе с враждебными силами. И одна из этих сил – сила тяжести, ставшая почти неодолимой. Это она не позволяет ему оторвать от скалистого грунта дрожащих, подкашивающихся ног. Это благодаря ей сердце от бешеных вибраций, когда оно, кажется, готово выскочить из своей тесной клетки, переходит к почти полным остановкам. В такие моменты не только ноги, но и всё тело, как будто обмякают, становятся ватными. В глазах темнеет, по лицу и груди как будто кто-то проводит жесткой скребницей. И всё время не хватает воздуха, хотя он дышит уже, как рыба на суше, широко открытым ртом. Мимо бредут люди, полусогнувшиеся, лишь с огромным трудом передвигающие ноги, с такими же, как у него, открытыми ртами. Ну да, он поднялся до высоты, где кривая подъема удовлетворяет признаку максимума Коши. Неужели сегодня он уже не сумеет преодолеть этот максимум? Проходят последние из карабкающихся на сопку заключенных. За ними следуют уже свирепые стражники с их винтовками.
Но, может быть, еще можно предельным усилием воли заставить себя и на этот раз преодолеть проклятый барьер? Может быть, к нему явится даже «второе дыхание», нередко выручающее спортсменов на, казалось бы, безнадежных для них соревнованиях.
Но второе дыхание не приходило. Сквозь застилавшую глаза мглу стало видно, как качается высоченная, гораздо выше Оловянной, соседняя сопка. Кто-то дал этому угрюмому, голому конусу нелепое для него название «Вакханка». Но сейчас гора как будто решила оправдать это название. Пьяно качнувшись несколько раз, она упала. Место ее бурого склона с красноватыми промоинами заняло совсем близкое, разлохмаченное облако. Ранней весной облака всегда такие тяжелые и набухшие. Ранней, конечно, по здешним понятиям. Где-то уже отцветает сирень, а здесь эти облака, осклизлый снег и что-то еще, чего он никак не может вспомнить…
Всё стремится к состоянию наименьшей энергии. Всё, кроме биологических систем, пока они живы. Он тоже жив, так как думает о том, что же является еще одним характерным признаком весны в этих проклятых краях? Ну, конечно! Добротные яловые сапоги. На них недавно сменили валенки здешние вохровцы…
– А ну, поднимайся, хватит придуриваться! – Удар носком тяжелого сапога по силе и точности не уступал удару по мячу опытного футбольного «бомбардира». Боль от него проникла даже сквозь слабеющее сознание. Но тут же и погасла вместе с этим сознанием, клочковатым, почти черным облаком наверху и высящимися рядом темными фигурами. Второй удар Ученый уже не почувствовал.
1973








