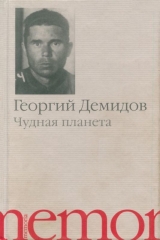
Текст книги "Чудная планета (Рассказы)"
Автор книги: Георгий Демидов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Дубарь
Унылый звон «цынги», куска рельса, подвешенного на углу лагерной вахты, слабо донесся сквозь бревенчатые стены барака и толстый слой льда на его оконцах. Старик дневальный с трудом поднялся со своего чурбака перед железной печкой и поплелся между нарами, постукивая по ним кочергой:
– Подъем, подъем, мужики!
Все мы, обитатели холодного и обшарпанного барака политических заключенных, «контриков», как нас называли жившие в куда лучших условиях уголовники и лагерные надзиратели, слышали эти ненавистные сигналы утренней побудки не в первый раз, а большинство тут даже не в тысячу первый раз. Да и всё остальное было сейчас обычным, таким же, как и во всяком другом из бесконечной вереницы таких же утр. И это наше привычное, доведенное почти до автоматизма, безропотное подчинение железному распорядку каторги и глухой, но всегда почти чисто пассивный, внутренний протест против него, давно уже воспринимаемый, как тоже ставшая привычной, застарелая боль, и двухэтажные нары «вагонного типа», и сизый полумрак барака.
Люди на каторге всегда расстаются со сном только с мучительной неохотой, так как это самое счастливое из доступных им состояний. Сон не только дает забвение от тусклой и безрадостной действительности, но и возвращает иногда в полузабытый мир «воли». Правда, обрывки смутной памяти о прошлом всегда самым причудливым образом переплетаются с куда более реалистическими видениями настоящего. Но во сне не бывает ни настоящей голодной тоски, ни мучений холода, ни страданий от непомерного мускульного усилия, постоянно ощущаемого каторжниками наяву. Поэтому они цепляются не только за каждое лишнее мгновение настоящего сна, но и того полусна, который следует непосредственно за пробуждением и обычно продолжается недолго. Однако при сильном желании и некотором усилии эту стадию полусонного оцепенения можно во много раз затянуть.
Каждый, кому с крайним нежеланием приходится подниматься спозаранку, знает, что после такого вставания можно довольно долго двигаться, что-то делать, даже произносить более или менее осмысленные фразы и все-таки еще не просыпаться окончательно. В лагере такое состояние повторяется изо дня в день, каждое утро и на протяжении многих лет. В результате вырабатывается еще одна особенность каторжанской психики, во многом и так отличной от психики свободного человека, – способность едва ли не в течение целых часов после подъема сохранять состояние полусна-полубодрствования. Вольно или невольно заключенные лагерей принудительного труда культивируют в себе эту способность, оттягивая полное пробуждение до крайнего, возможного предела. Зимой таким пределом является выход на жестокий, предрассветный мороз. Но в более теплое время года некоторые лагерники умудряются оставаться в состоянии чего-то вроде сомнамбул и на плацу во время развода и даже на протяжении всего пути до места работы, хотя этот нередко измеряется целыми километрами. Это, конечно, своего рода рекорд. Но в той или иной степени таким образом ведут себя все без исключения люди, осужденные на долгий, подневольный и безрадостный труд. И это даже в том случае, если норма официально дозволенного им ежесуточного сна сама по себе является достаточной.
Вот и сегодня мы привычно сопротивлялись наступлению настоящего бодрствования, не только когда слезали с нар и напяливали на себя свои изодранные и прожженные у лесных костров ватные доспехи, но даже когда протирали глаза пальцами, слегка смоченными водой из-под рукомойника. Каждый понимал, что с полным пробуждением приходит и отчетливое сознание действительности. А она заключается в том, что очередной из бесконечной вереницы безликих каторжных дней уже наступил, хотя сейчас только пять утра. И что он будет продолжаться бесконечно долго, пока около семи вечера мы, до изнеможения усталые, заиндевевшие и окоченевшие на жестоком морозе, снова ввалимся в этот барак. И что на протяжении этого дня будет хождение и стояние под конвоем, тяжелая и осточертевшая работа в лесу, окрики и понукания, обзывания «фашистом» и «контриком». Что не раз, наверно, посетит горькое чувство бессилия и та злая тоска неволи, от которой захочется завыть и боднуть головой ближайший лиственничный ствол.
Вообще-то в подобных мыслях и настроениях, если судить о них беспристрастно, проявлялась наша черная неблагодарность своей лагерной судьбе. Ведь мы находимся не в каком-нибудь из страшных лагерей дальстроевского «основного производства», а в лагере, обслуживающем сельское и рыболовецкое хозяйство, мечте сотен тысяч колымских каторжников, загибавшихся на здешних приисках и рудниках, по условиям труда и быта заключенных мало чем отличавшихся от финикийских. Но такой уж человек по самой своей природе. Он редко бывает вполне доволен даже более высоким уровнем жизненного благополучия, чем то, на котором находились мы, заключенные галаганского сельхозлага, приткнувшегося к прибрежным сопкам реки Товуй, почти у самого ее впадения в Охотское море.
Наша ежедневная утренняя война за сохранение свинцовой притупленности чувств и мыслей и сегодня, как всегда, шла с переменным успехом. Пробежка по морозу в столовую за получением утренней хлебной пайки и миски баланды неизбежно отгоняла благодатное оцепенение. Но до выхода на развод обычно оставалось еще некоторое время. Уже в полном «обмундировании» все мы сгрудились у печки, чтобы запастись теплом на время стояния на плацу. И все, как всегда, стоя уснули.
«Цынга» зазвякала снова. Идеально дисциплинированные арестанты должны были, согласно лагерному уставу, «вылетать» на развод уже с первыми ее ударами. Но такие арестанты существуют лишь в воображении составителей этих уставов. Реальные же заключенные, даже в свирепых «горных» лагерях, где за «резину» с выходом из барака можно схлопотать добрый удар дубинкой, эту «резину» тянут. Особенно, когда на дворе такой мороз, как сегодня. Судя по фонарям вокруг зоны, едва видным сквозь густой туман, и по колючему ощущению в легких, он перевалил сейчас далеко за пятьдесят. Здесь был крайний юг «района особого назначения». «Колымский Крым», как его называли заключенные. Но стоял уже март, время, когда даже в этом «Крыму» солнце поворачивается на лето, а зима на мороз. Для Дальнего Севера эта поговорка часто оказывалась даже более верной, чем для мест, в которых она родилась.
В нашем благодатном лагере дубинка применяется редко, а в руках у теперешнего нарядчика Митьки Савина мы никогда ее не видели. Нарядчик, однако, всюду остается нарядчиком. Вот-вот он ворвется сюда, крепкий, краснорожий парень, и сквозь клубы морозного пара – дверь в барак Митька за собой не закроет – донесется его знакомое:
– А вы тут что, мать вашу так и этак, особого приглашения дожидаетесь?
Но это и будет как раз то ежедневное «особое приглашение», после которого тянуть резину с выходом более нельзя. Оно было здесь почти так же привычным и обязательным, как звон «цынги», вставание, хождение в столовую за хлебом и это вот, унылое стояние у печки.
Митька вбежал, как всегда, стремительно, но дверь за собой почему-то закрыл. И вместо обычной, беззлобной брани – наш нарядчик был мужик неплохой, не чета придуркам-христопродавцам в горных лагерях – мы услышали от него неожиданное:
– Продолжай ночевать, мужики! День сегодня – актированный…
Что ни говори, а лагерь Галаганнах действительно курорт! В летнее время, конечно, и здесь ни о каких выходных не может быть и речи. Но зимой один-два таких дня выпадают почти в каждом месяце. Это, собственно, даже противозаконно, так как в те предвоенные годы свирепость ежовщины в местах заключения еще не была изжита и официально никаких дней отдыха для заключенных не полагалось круглый год. Отступления от этого правила делались только в лагерях подсобного производства, вроде нашего Галаганнаха, в периоды, когда не было никаких важных работ, да и то имея в виду, главным образом, санаторную функцию этих лагерей. Дело в том, что на здешние легкие, по лагерным понятиям, работы ежегодно отправлялись для поправки уцелевшие дистрофики, «доходяги» с приисков и рудников Дальстроя. Они-то и составляли основную часть мужского населения подсоблагов, подлежащую возвращению основному производству после одного-двух лет «курорта». Если, конечно, дистрофические изменения у этих людей окажутся обратимыми, что было далеко не всегда. Постоянными жителями «до конца срока» здешнего сельхозлага были только женщины, старики и инвалиды.
Ежовско-бериевский запрет на выходные дни для лагеря обходили при помощи объявления их днями общей санитарной обработки, актированными по погодным условиям, как сегодня, или по необходимости произвести крупные внутризонные работы. Это была начальническая «ложь во спасение», но только наполовину. Редкий из таких дней обходился без выхода всех отдыхающих на заготовку дров для лагеря, уборку снега и тому подобные работы. Но это случалось обычно уже после обеда. С утра можно было поспать «от пуза», что и было главной реальной удачей наших выходных дней.
После Митькиного объявления угрюмое молчание в бараке сменилось радостным галдежом, оно было, как всегда, неожиданным. Лагерное начальство опасалось обвинения в запланированных поблажках для заключенных, большая часть которых была здесь «врагами народа». Но продолжался этот галдеж очень недолго, приглашать к продолжению сна дважды здесь никого не приходилось. Торопливо раздевшись, все снова улеглись на свои набитые сенной трухой или древесными опилками матрацы и через каких-нибудь пять минут спали. После «легких» работ на повале и раскряжевке даурской лиственницы, твердой на морозе как дуб и тяжелой как камень, здешние «курортники» могли проспать вот так суток трое, делая перерывы разве что на обед. Впрочем, как уже говорилось, тут действовало еще и наше постоянное стремление «уйти в сон» при всякой, даже малейшей возможности.
Однако на этот раз я уснул менее крепко, чем обычно, и проснулся от дребезжания ведра, неловко опрокинутого дневальным. Лед на оконце пунцово рдел от разгоравшейся над близким отсюда морем зари. Вот-вот должно было взойти солнце. Значит, со времени сигнала на развод прошло уже часа полтора. Спать можно было еще долго, даже если в обед нас куда-нибудь погонят. Повернувшись на другой бок, я начал приминать слежавшиеся опилки в своем матраце по форме уже этого бока. До нового изменения положения он будет казаться мягким. Я еще продолжал свою возню с неподатливым ложем, когда в барак вошел нарядчик. Вид у Савина был несколько смущенный, как у человека, явившегося с каким-то неприятным или щепетильным поручением, которых добрый малый очень не любил. Для кого-то из жителей барака это не предвещало ничего доброго. Не закончив скульптурной обработки своего матраца, я затих на нем, натянув на голову одеяло.
Посовещавшись о чем-то с дневальным, Митька пошел по проходу между нарами, пристально и озабоченно всматриваясь в лица спящих людей. Так и есть, он искал подходящий «лоб», а может быть, и несколько «лбов» для какой-то паскудной работенки внутри лагеря, вроде колки дров для кухни, таскания воды с речки или еще чего-нибудь в этом роде. Возможно, что я был не единственным человеком, кого разбудило загремевшее ведро. Но несомненно, что все, так же как и я, еще плотнее закрыли глаза и засопели еще громче. Если уж и необходимо вкалывать в свой, в кои веки выпавший выходной день, так хоть не с утра, по крайней мере!
Нарядчик остановился напротив места Спирина, бывшего колхозника откуда-то из Вятской области. Чуть живого от изнурения, этого мужика привезли сюда прошлой осенью с небольшим этапом таких же доходяг. Как почти все перенесшие тяжелую форму дистрофии, Спирин долго не мог оправиться от животного страха перед голодом. Рискуя заночевать в карцере, он до совсем недавнего времени прятал под матрац куски выпрошенного, а то и украденного, хлеба, съесть который сразу не мог. Теперь, правда, у бывшего доходяги голодный психоз начал уже проходить.
Митька долго дергал спящего за ногу, пока тот проснулся, наконец, и испуганно вскрикнул:
– А? Чего?
– Каши пульман хочешь заработать? Вó такой!
Нарядчик показал руками размер «пульмана», огромной миски, применяемой обычно для кухонных нужд. Какую-нибудь пару месяцев тому назад за такую миску овсяной каши Спирин согласился бы вкалывать до полуночи, даже после полного рабочего дня. На это, очевидно, и рассчитывал Савин. Он хотел найти добровольца на какую-то, по-видимому, довольно тяжелую работу. Но у нарядчика было право и просто приказать любому здесь выйти на любую хозяйственную работу, притом без всякого обещания награды. А если назначенный им зэк начнет упрямиться, позвать дежурного коменданта по лагерю. С тем разговор короткий: или подчиняйся, или садись до утра в кондей! Практически, однако, применять такой способ придурки стеснялись даже в горных лагерях. Какой же ты, к черту, нарядчик или староста, если без помощи надзирателя не можешь совладать с рядовым лагерником?
Тем более неприличным было бы приглашение дежурного в барак смирных «рогатиков», да еще со стороны, в общем-то, благожелательного к ним и покладистого Митьки.
Однако его расчет на приманку обильной жратвы для недавнего дистрофика тоже, видимо, не оправдывался. Спирин выслушал предложение нарядчика безо всякого энтузиазма, глядя на него хмуро и подозрительно:
– А чего делать-то надо? – Он, впрочем, не совсем еще проснулся. Вместо прямого ответа Савин спросил вопросом:
– Ты на прииске в похоронной бригаде кантовался?
Вопрос, очевидно, был задан в целях более тонкого подхода к главной теме начатого разговора. Но сделан он был явно неудачно, так как вятский нахмурился еще больше:
– Тебе бы такой кант! Говори, что надо?
Никогда не бывший в «лагерях-доходиловках», Митька допустил весьма неловкий ход. Бригады могильщиков, подчас весьма многочисленные, комплектовались из тех, кто уже не годился более для работы на полигоне и сам был кандидатом в «дубари».
Однако и тон ответов нарядчику со стороны недавнего смиренного доходяги был неожиданно грубым и непочтительным. Савин вспыхнул было, но сдержался:
– Могилу, понимаешь, надо вырыть! Сегодня ночью в больнице какой-то штымп дуба врезал…
Худшего предисловия к такому предложению, чем напоминание невольному могильщику об его начальных обязанностях, нельзя было, вероятно, и придумать. Спирин ответил еще более грубо и зло:
– Пустой твой номер! Не буду я никакой могилы копать…
Он снова улегся на своих нарах и демонстративно натянул на голову одеяло. И без того красное лицо Савина побагровело. Слабину почувствовал, чертов штымп! После горного, где за такую непочтительность к нарядчику тут же дрына схватил бы. Смирный был, а теперь смотри, как обнаглел… Митька украдкой огляделся, не видит ли кто его конфуза? Однако храп и сопение вокруг были всеобщими и дружными. Сладив кое-как с раздражением и досадой, он опять подергал за ногу несговорчивого вятского:
– Слышь, Спирин! Выпрешь яму – завтра целый день отгула получишь… На работу не погоню, свободы не видать!
Наш благодушный нарядчик корчил из себя этакого «шибко блатного», хотя сидел за мелкую растрату в захудалом сельпо.
Однако даже обещание круглосуточного сна в дополнение к каше не соблазнило Спирина. Он только еще выше натянул на голову свое куцее одеяло, так что оголились ноги. Чтобы закрыть их, вятский должен был поджать свои острые коленки к животу.
– С дежурняком выведу! – вскипел нарядчик.
Однако упрямый мужик повторил, приподнявшись:
– Говорю, пустой твой номер! Не знаешь, что ли, что грыжа у меня на повале объявилась… А не знаешь, так у лекпома спроси!
Савин закусил губу. Он просто забыл, что уже с месяц, как Спирин, хотя он и продолжал числиться в бригаде лесорубов, занимается в лесу только работами «не бей лежачего», вроде сжигания сучьев, отгребания снега от деревьев, спиливать которые будут другие. Грыжа в лагере – это редкостная удача: от нее не помрешь и ни на какие сколько-нибудь тяжелые работы не пошлют даже в горных. Отсюда, конечно, и проскакивает наглое поведение недавно смирного мужичонки… Махнув рукой, нарядчик отошел от его места и снова принялся шарить глазами по нарам, но теперь уже более решительно и зло. За непочтительность с ним Спирина кому-то, видимо, придется отдуваться. Хмуро поводив глазами вокруг, Савин остановил свой взгляд на мне. Я плотно зажмурил прищуренные до этого глаза, но тут же, почувствовав прикосновение Митькиной руки, открыл их. Было очевидно, что мой сегодняшний выходной пропал.
У меня не было ни спасительной грыжи, ни почтенного возраста, ни даже обыкновенной «слабосиловки». На таких как я в лагере полагалось пахать, и сослаться для оправдания отказа рыть кому-то могилу мне было решительно не на что. При других обстоятельствах можно было бы рассчитывать на свойственное многим деревенским некоторое уважение к образованности. Но сейчас Митька был зол и вряд ли потерпел бы новые препирательства. Поэтому я не стал даже прикидываться, что не знаю в чем дело, а сразу же встал и начал зло натягивать на себя свои драные шмотки, отводя душу руганью. И угораздил же черт этого дубаря загнуться именно сегодня! Кстати, кто он такой?
Нарядчик, оказывается, этого не знал. Час тому назад начальник лагеря приказал по телефону нарядить одного из отдыхающих заключенных на рытье могилы. Кто такой этот дубарь и откуда попал в нашу больницу, Митька мог только предполагать; скорее всего, его привезли из какой-нибудь дальней, рыболовецкой или лесной, командировки. Из находившихся в местной больничке заключенных нашего лагеря ни одного кандидата в покойники, как будто, не было.
Смертность в этом лагере была вообще незначительной. В трудовых лагерях она и повсюду была бы ниже обычной, если бы не искусственно созданные условия работы и быта заключенных. На Колыме их косила смерть от изнурения, голода и холода, бесчисленных травм, конвоирских пуль. Там же, где ничего этого нет, лагерники умирают редко. Среди них мало престарелых и совсем нет детей, быстро и решительно пресекаются эпидемии. Прежде бичом заключенных северных лагерей была цинга. Но с тех пор как против нее стали применять отвар хвои, страшный когда-то «скорбут» почти утратил свое былое значение как фактор смертности даже за Полярным кругом.
Оставалась еще простуда. Но о ней в Галаганнахе мы мечтали как о большой удаче. Если не считать не столь уж частой возможности покалечиться, она была едва ли не единственным шансом покантоваться в бараке или лагерной больнице. Но в том-то и дело, что простуда нас почти теперь не брала. Никто даже не кашлял после целодневной работы в поле или лесу под холодным дождем, нередко вперемешку со снегом, бултыхания в ледяной воде на сплаве, спанья на мокрой холодной земле. Накапливаясь на каких-то внутренних «текущих счетах», всё это проявится потом в виде ревматизма, радикулитов, ишиасов и прочей благодати. А пока что, даже нарочитая пробежка по снегу босиком в одном белье из бани, находившейся в полукилометре от лагеря, не давала никаких непосредственных результатов.
Правда, такая сопротивляемость приходит не сразу. Ею отличаются те, кто уже прошел процесс естественного, так сказать, отбора. Отбор этот начинается уже с тюрьмы и этапа. Здорово мрут лагерники-новички поначалу даже в таких лагерях, как вот этот Галаганнах. От неприспособленности к тяжелому труду, перемены климата, недостатка витаминов, простудных воспалений легких и почек и, наверно, просто от тоски, хотя в официальных документах этот пункт и не значится. Постепенно остаются только те, кто приобрел против всего этого достаточный иммунитет.
Вереницы смертей следовали также после каждого привоза сюда доходяг из горных. Голодное изнурение на определенной стадии приводит к таким изменениям во всем почти организме дистрофика, что ни в каких условиях человек не является более жизнеспособным. К концу каждой зимы все такие были уже на кладбище. Поэтому сейчас не только смертельное, но даже просто серьезное заболевание было в нашем лагере явлением довольно заметным. Однако не только я, но даже лагерный нарядчик ничего о таких случаях не знал.
Злобствуя по адресу так некстати подвернувшегося дубаря, я не заметил сначала, что Савин дожидается, пока я оденусь, даже и не думая подыскивать мне напарника. Может, он уже нашел кого-нибудь в другом бараке? Оказалось, нет, ему приказано послать на кладбище только одного землекопа. Я изумился: как одного? Могила – это здоровенная яма сечением ноль шесть на два метра и два метра глубиной! В долине Товуя, где находится кладбище, грунт – глина вперемешку с речной галькой. Когда такая смесь замерзает, то становится прочней бетона. А мерзлая она сейчас на всю глубину ямы, так как промерзание сверху сомкнулось с вечной мерзлотой снизу. Работы там по крайней мере на две полные дневные нормы для двух землекопов! В одиночку до наступления темноты мне вряд ли удастся выбить могилу в приречной мерзлятине больше чем на третью часть ее должной глубины.
Савин и сам понимал все эти соображения, но на все мои вопросы только пожимал плечами: приказано выделить одного могильщика… Начальник сказал это ясно и добавил, что завтра же этому человеку следует предоставить отгул…
Всё было похоже на какое-то недоразумение. О каком отгуле завтра могла идти речь, если один человек провозится с ямой на кладбище по крайней мере два дня! А если так, то к чему такая срочность? Да и вообще, сейчас зима, и покойник в мертвецкой больницы может ждать погребения хоть до самой весны. Его, конечно, туда уже вынесли. Сегодня воскресенье, и у вольных тоже выходной. Выходной и у нашей спецчасти, которая оформляет умерших лагерников в «архив-три». Займется она этим только завтра, когда дубарь совсем закоченеет. Но без отпечатков пальцев, снятых с уже умершего человека, его в этот архив зачислить нельзя, будь он мертв хоть трижды. Для «игры на рояле» мертвое тело придется отогревать при комнатной температуре больше суток… Получается какая-то чепуха. Может быть, все-таки Савин что-нибудь напутал? А насчет завтрашнего отгула, обещанного якобы начальником, просто соврал для большей убедительности? Но Митька божился, что не врет: свободы не видать! Хорошо если так! А то ведь обещание заключенного нарядчика вовсе не закон для какого-нибудь Осипенко. Это был самый противный из здешних дежурных надзирателей, «комендантов», как их тут называли. Сколько раз уже бывало при утреннем обходе:
– А этот почему в бараке околачивается?
– Отгуливает за вчерашнюю работу, гражданин начальник!
– Ничего не знаю…
Чтобы умерить мое сожаление об оставленных нарах, Митька сказал, когда вдвоем с ним мы выходили из барака:
– Ты особенно не расстраивайся! Этим, – он показал через плечо на дверь, – спать только до двенадцати. С обеда приказано всех на «длясэбные» работы выгонять. Будем от зонного ограждения снег отбрасывать. Вон сколько его навалило…
«Длясэбными» в нашем лагере называли работы, которые мы выполняли летом после четырнадцатичасового рабочего дня, а зимой в такие вот редкие и куцые выходные дни. Надзиратель Осипенко, возмущаясь вялостью, с которой заключенные копошились на этих работах, ругался и говорил:
– Ну, що вы за народ? Для сэбэ и то робить не хочете!..
Так как в сверхурочном порядке нам, чаше всего, приходилось заниматься такими делами, как рытье ям под новые столбы для колючей проволоки, выпрямление покосившейся вышки или ремонт карцера, самое непосредственное отношение к нам которых действительно не вызывало сомнения, то и их прозвали «длясэбными». Заодно прозвище «Длясэбэ» получил и сам Осипенко.
Савин выдал мне лом, кирку и лопату и посоветовал не слишком уж строго придерживаться при рытье могилы ее официально установленных размеров, особенно по длине и ширине. С тех пор как вышел приказ хоронить умерших в заключении без «бушлатов», прежней необходимости в соблюдении полных габаритов лагерных могил более нет. Митька имел в виду «деревянные бушлаты» – подобие гробов, в которых умерших лагерников хоронили до прошлого года. И хотя эти гробы сколачивались, обычно, всего из нескольких старых горбылей, гулаговское начальство в Москве и их сочло для арестантов излишней роскошью. Согласно Новой инструкции по лагерным погребениям, достаточно для них и двух старых мешков. Один нахлобучивается на покойника со стороны головы, другой – ног, и оба этих мешка сшиваются по кромке. Даже если труп принадлежит какому-нибудь верзиле, то и такой не предъявит претензии, если его положат на бок или слегка подогнут ему колени. С точки зрения могильщика, новую погребальную инструкцию Главного Управления можно было только приветствовать.
Проводив меня через вахту, нарядчик передал мне еще один приказ начальника лагеря: по дороге на кладбище зайти в лагерную больницу и обратиться зачем-то к дежурному санитару. Зачем именно, Савин не знал, но высказал предположение, что в больнице я получу указание, в каком месте кладбища рыть могилу и как ее ориентировать. Дело это серьезное. Могилы заключенных всегда располагаются в строго определенном направлении и наносятся на план, хранящийся в спецчасти лагеря. Завернуть в лагерную больничку труда не составляло, она находилась почти сразу же за его зоной по дороге к кладбищу. Проходя мимо этой зоны и глядя на ее ограждение, заметенное снегом чуть не до высоко поднятых на ногах-раскоряках будок часовых, я подумал, что, может быть, и в самом деле выгадываю, отправляясь сейчас рыть могилу? Если обещание отгула за эту работу и в самом деле исходит от самого начлага, то целодневный сон послезавтра возместит мне потерю полудневного отдыха сегодня. Тем более что работа по очистке зоны от снега тоже не мед и ее хватит до позднего вечера.
Наша больница, небольшой неохраняемый барак, расположилась на самом краю здешнего поселка «вольных». Она была построена до вступления в силу здешних лагерных уставов, основанных на принципе, что заключенный – это или непременно опасный враг народа или неисправимый жулик. Впрочем, в нашем Галаганнахе от сочетания прежнего лагерного либерализма и нынешней суровости случались и куда более удивительные примеры непоследовательности в охране заключенных. На мой стук в дверь больнички вышел дежурный санитар. Я хорошо знал этого хитроватого темнилу Митина. До заключения он был следователем по уголовным делам и отличался удивительной способностью чуть не во всех действиях и поступках окружающих усматривать какой-то мелкий, низменный практицизм.
– С отгулом? – спросил он меня, поздоровавшись.
– Савин говорит, что обещал начальник… – пожал я плечами.
– Тогда тебе повезло! Работенка-то не бей лежачего…
– Это три куба мерзлоты вырубить – «не бей лежачего»?!
– Каких там три куба? Да и сам увидишь! Пошли в морг…
Санитар открыл мелкий дощатый сарайчик, стоявший чуть поодаль от больничного барака и снаружи ничем не отличавшийся от обычного дровяного. Но внутри этого сарайчика, на вбитых в землю кольях, над ней возвышались два узких, сколоченных из горбыля, настила. Они напоминали узкие и высокие столы. Один из этих столов был пуст, поперек другого лежал небольшой сверток, сделанный, по-видимому, из обрывка старой простыни.
– Вот, принимай своего дубаря! – провозгласил Митин, протягивая мне сверток с таким видом, с каким вручают имениннику приятный сюрприз-подарок. – Сегодня ты не только могильщик, но и похоронщик…
Я принял легкий пакет с недоумением:
– Что это?
В белую тряпку было завернуто что-то твердое и продолговатое, напоминающее на ощупь небольшую статуэтку. Поняв, что это, я вздрогнул от неожиданности: мертвый ребенок!
– Одна из нашей жензоны родила ночью, – пояснил довольный моим изумлением Митин. – Прошлым летом на сенокосе нагуляла… Да недоносила месяц, всего часа четыре только и пожил…
Я держал сверток одной рукой на отлете, испытывая к его содержимому чувство невольной брезгливости. Мысль о выкидыше вызвала у меня представление о чем-то уродливом и отталкивающем, а что-то в этом роде было и здесь. Впрочем, трупик несчастного недоноска был сейчас заморожен. Места же на кладбище понадобится для него немногим больше, чем для котенка. Соответственно пустяковой должна быть и глубина могилы. Митин, кажется, прав, и мне сегодня, действительно, повезло. Особенно, если я получу обещанный отгул завтра.
– Допер теперь, почему работенка блатная? – спросил меня довольный Митин. – А то: «три куба»! Тут и половины куба много будет… – Он взялся за ручку щелястой двери сарайчика. – Вот и всё, дуй теперь с ним на кладбище! Да только не на вольное гляди! Потомственному крепостному на нем не место…
В шутливой форме санитар меня предупреждал, видимо, чтобы я, соблазнившись близостью поселкового кладбища, не поленился тащить трупик на более отдаленное лагерное. Я и не думал этого делать, но шутка Митина навела меня на мысль, что покойный младенец и в самом деле имеет право быть погребенным не на тюремном кладбище.
– А что, разве его в архив три занесут? – сердито спросил я бывшего следователя.
Но он счел за благо сделать вид, что принял мой вопрос за ответную шутку, осклабился и отрицательно покрутил головой:
– В «архив» наш Дубарь еще не годится, на рояле играть не умеет… – Потом Митин посерьезнел и понизил голос, хотя ни в сарае, ни вокруг сарая никого не было: – Между нами… Начлаг с доктором договорились через загс этого рождения не оформлять… В историю болезни роженицы будет записано, что ей произведена эмбриотомия, это когда плод по кускам извлекают, понял?
Я утвердительно кивнул, дело понятное. Больнице не нужен лишний случай «летального исхода» в ее стенах, лагерю – лишнее свидетельство недостаточно строгого соблюдения в нем режима заключения. Любовная связь между лагерниками и лагерницами категорически запрещена. Не должно быть, следовательно, ни одного случая деторождения. Но это в теории. На практике же в смешанных лагерях добиться такого положения невозможно. Поэтому существовало нечто вроде негласного и неофициального предела деторождений на каждую сотню заключенных женщин. Превышение этого предела являлось одним из самых отрицательных показателей работы лагерного надзора, особенно не нравившимся вышестоящему начальству. И не только из ханжеских или чисто тюремных соображений. К ним примешивался еще и бухгалтерски меркантильный интерес. Дело в том, что прижитые в лагере дети воспитывались в специальных приютах, содержавшихся за счет бюджета соответствующего лагерного управления. И как ни жалки были эти «инкубаторы» для сирот при живых еще родителях, они, требуя известных расходов, ухудшали показатели финансового плана лагуправления со всеми последствиями для премий его руководящему персоналу. Отсюда, в немалой степени, вытекал и интерес лагерного начальства к нравственности своих подопечных. Возможно, что сокрытие появления на свет очередного «инкубаторного» ребенка, в котором участвовал и я, решало вопрос: в пределах ли «нормы» или за этими пределами находятся добродетели безбрачия в нашем лагере, скажем, за текущий квартал.








