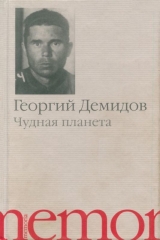
Текст книги "Чудная планета (Рассказы)"
Автор книги: Георгий Демидов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Однако более политичный ефрейтор не поддержал разговора, тем более что он был начальствующим лицом, да еще при исполнении служебных обязанностей.
– Все в машину! – Этапный газик уже спустился сверху, а его водитель затейливо ругался по поводу офицерюги-золотопогонника из берлаговского конвоя, записавшего номер его машины и посулившего написать на шофера рапорт за задержку в пути спецэтапа. А откуда ему было знать, что даже правила движения по дорогам для этого паскудного Берлага не писаны?
Если в «эпоху Сталина» Советский Союз почти не был конституционным государством, то по отношению к «государству в государстве», беззаконному царству бериевского МВД, это было верно безо всякого «почти». О какой законности могла быть речь в непрерывно разбухавшей системе лагерей принудительного труда с ее миллионами бесправных «крепостных» с одной стороны, и кучкой всевластных сатрапов с их аппаратом понуждения с другой. Это была своеобразная феодальная иерархия со всеми присущими ей пороками: бюрократическим бездушием, угодничеством перед вышестоящими, выслужничеством и тупой жестокостью по отношению к основе всей этой системы – заключенному рабу. Довлеющие над страной уродства единоличной диктатуры сконцентрировались здесь как в фокусе увеличительного стекла. Чинопочитание, подхалимаж, почти узаконенное очковтирательство сверху донизу, казенный догматизм, верноподданничество расцветали в атмосфере фактической безответственности за жизнь и достоинство людей, как анаэробные бактерии в гнилой воде.
Но самое худшее, возможно, состояло в том, что разбухавшая по свойству всякой бюрократии, генеральская и полковничья верхушка Главного лагерного управления требовала деятельности, чинов и орденов. И в этом своем стремлении она придумывала для себя всё новые объекты ложно патриотической и верноподданнической деятельности. Так, в первые послевоенные годы в недрах ГУЛАГа была изобретена некая чрезвычайная опасность, исходящая якобы от значительной части многочисленных политических заключенных. Для предотвращения этой опасности всех осужденных по тяжелым пунктам статьи о контрреволюционных преступлениях и соответствующим ей «литерам» надлежало изолировать от остальной массы лагерников в лагерях особого назначения. Вероятно, идея таких лагерей встретила высочайшее одобрение, возможно даже, что она и исходила от самого Вождя. Это было видно по преувеличенному до карикатурности усердию, с которым спецлагеря сразу же начали строиться и укомплектовываться. Паразитический аппарат МВД, начиная от гулаговских вельмож в Москве и кончая командиром и политруком охранного батальона на каком-нибудь Фартовом, получил новое и обширное поле деятельности. Патологическая жестокость и подозрительность на самом верху, сочетаясь с угодливостью, недоумием и карьеризмом снизу, породили новое детище, очередной злокачественный метастаз раковой опухоли политического угнетения.
Режим, учрежденный для спецлагерей, был суровее, чем даже режим каторжных подразделений, хотя к КТР мог за особо тяжкие преступления приговорить только суд, здесь же находились просто перемещенные из ИТЛ. Таким образом, в законное, по крайней мере по форме, решение суда вносилось кардинальное и совершенно незаконное изменение. Вряд ли где-нибудь еще надменное презрение органов тогдашнего МВД к законности вообще сказалось более ярко, чем при комплектации спецлагерей.
Производилась она по инструкции, составленной, конечно, в самом ГУЛАГе. Согласно этой инструкции, в лагеря особого режима водворялись все осужденные за контрреволюционные преступления на сроки выше десяти лет, хотя бы от этих сроков оставались только месяцы. Осужденные за шпионаж, политический террор и диверсию, а также заключенные по литеру ПШ («подозрение в шпионаже») перемещались в спец-лагеря независимо от срока. По этой ПШ были заключены, например, многие тысячи бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги, добровольно приехавшие в СССР в середине тридцатых годов. Подлежали изоляции от остальных лагерников также «политические рецидивисты», т. е. осужденные вторично.
По не слишком внятному объяснению, которое давало иногда лагерное начальство по поводу режима спецлагерей, делавшего их во многом даже хуже каторжанских подразделений, следовало, что этот режим диктуется соображениями не дополнительного угнетения заключенных, а только стремлением обезопасить от них Советское государство. Скапливались в одном месте по нескольку сотен и даже тысяч злобные враги народа, способные на политические эксцессы. Возникал, конечно, вопрос: неужели такую опасность представляют бывшие многолетние бесконвойники; женщины из Прибалтики и Западной Украины, согнанные в лагерь нередко целыми селами только потому, что возле этого села укрывалась кучка националистов; старики и инвалиды?
Ответ заключался в другом: бериевские христопродавцы, используя шизофреническое перерождение мозга верховного вождя, усилившее в нем врожденную жестокость и склонность к крутым мерам, ловили рыбку в мутной воде всеобщей подозрительности и недоверия. Что может в лучшем свете представить перед тираном его верноподданного слугу, чем неусыпное радение о государственной безопасности? Такое радение должны были проявлять теперь даже наименее усердные и внутренне скептичные из начальствующих. Кому охота быть обвиненным в преступной безмятежности? Учреждение спецлагерей расширяло деятельность МВД еще и потому, что все закончившие срок в этих лагерях по его хотению автоматически переходили под пожизненный гласный надзор того же МВД в качестве ссыльнопоселенцев в местах «весьма отдаленных». И лагеря спецрежима росли и множились на Крайнем Севере, в Сибири, Средней Азии, Дальнем Востоке и, конечно же, на Колыме.
Каждый из этих лагерей кроме номера имел еще собственное имя, отличавшееся тем, что оно не было связано, как обычно, ни с местностью, где он располагался, ни с характером его деятельности. Любой спецлагерь мог бы безо всякого ущерба поменяться именем с любым другим лагерем того же типа. Все названия были произвольно условными, даже если в них и звучал намек на географическое положение. Тот же «Береговой», например, имел такое же отношение к какому-либо берегу, как «Таежный», расположенный в степи, к лесу, а «Дубравный» – к дубам. Были еще «Минеральный», «Речной» и другие, смысл названий которых заключался в их бессмыслице и отражал разве что меру убогой фантазии своих авторов, генералов и полковников «от параши», как называли их непочтительные враги народа из лагерных интеллигентов.
Названия имели только крупные лагерные спецсоединения, охватывавшие целые районы. Их отдельные лагерные пункты именовались только по номеру, по соображениям той же конспирации, сразу же, как всегда, ставшей секретом Полишинеля. Эмвэдэвское начальство обожало секретность, даже если дело шло о наименовании металла, добываемого на золотых приисках, или выписке спецзаключенному новых штатов взамен изношенных.
Совсем иной, чем у обычных лагерей, была и рабочая организация спецлагов. Их начальники не подчинялись, как в ИТЛ, начальникам производств, которые они обслуживали. Вообще тут всячески подчеркивалось, что соображения режима и охраны заключенных ставятся гораздо выше их трудоиспользования и вообще производственных интересов. Охрана разделялась на внутреннюю, подчиненную начальнику лагеря и состоявшую из вольнонаемных надзирателей, и внешнюю, которую несли армейские подразделения войск МВД. Отношения между этими службами были определены чрезвычайно жесткими и сухими предписаниями, делавшими эти отношения чуть ли не антагонистическими. Они были основаны на казенном взаимном недоверии. Например, внутренняя и внешняя охраны обязаны были передавать друг другу заключенных непременно по строгому и сложному ритуалу, хотя бы дело шло об их ежедневном выходе на работу и возвращении в лагерь.
Все эти новшества, придуманные где-то в кабинетах ГУЛАГа, наносили делу страшный вред. Начлаг имел право по своему усмотрению, ссылаясь на соображения режима, комплектовать рабочие бригады из заключенных совсем не так, как того требовало производство. Плотников, например, направить на землекопные работы, а в бригаду строителей сунуть совершенно неквалифицированных людей. Мог он, ни перед кем не отчитываясь, под предлогом обслуживания лагерных нужд, и вообще недодать людей производству. Это, правда, противоречило финансовым интересам лагеря, который за выставленные на работу «крепостные души» получал арендную плату. А вот конвою, тому было на всё наплевать. Вооруженные подсвинки, набранные в конвойные части по признаку малограмотности и провинциальной ограниченности, были, кроме того, подвергнуты еще и специальной политической обработке. Большинство из них были уверены, что их подконвойные – это сплошь предатели Родины и гестаповские палачи, которым советское правосудие даровало жизнь лишь по неизреченной милости Вождя народов, отменившего смертную казнь вообще. Мальчишкам, с одной стороны, импонировало доверие народа, поручившего им ответственное и опасное дело охраны подлых врагов, а с другой стороны, они знали, что за малейшее упущение они отвечают головой. К этому часто добавлялось еще усердие не по разуму, а у некоторых и стремление выслужиться. В результате заключенные в пути на работу и с работы становились объектом этого усердия, действительного или показного. От них требовали неукоснительного соблюдения «строя», придираясь к малейшему его нарушению, на людей орали, записывали их номера на предмет подачи рапорта о непослушании конвою, каждые несколько минут останавливали для пересчета или просто для «выстойки» на морозе. То же было и на полигоне. Охранники мешали работать, расставляя людей так, как им было удобно, нисколько не считаясь с интересами дела. Они без конца пугались, что кого-то недостает, сбивали людей в кучи и пересчитывали.
Еще хуже обстояло дело с использованием высококвалифицированных специалистов. Формально устав спецлагерей не возбранял назначение своих заключенных на работу по специальности. Но тот же устав не допускал и мысли о чьем-либо расконвоировании или малейшем смягчении режима. Второй принцип сводил первый почти на нет. Чтобы организовать, например, работу нескольких спецлагерников-специалистов на приисковой электростанции, понадобилась бы едва ли не перестройка этой электростанции и дежурство возле нее целого взвода автоматчиков с собакой. В несколько лучшем положении оказались медики, так как их можно было использовать в лагерной зоне. Но их в подразделениях спецлага образовался такой избыток, что врачи почитали себя счастливыми, если устраивались санитарами при внутрилагерной больничке. Словом, хозяйственной и организационной деятельности МВД в целом изобретение спецлагерей причинило несомненный и существенный вред. Но вслух об этом, конечно, не говорили: политика и безопасность государства превыше всего.
А для десятков тысяч заключенных, угодивших в Берлаг на одной только Колыме, это было жесточайшим ударом, сравнимым по тяжести разве только с несправедливым и беззаконным арестом. Особенно тяжело переносили этот удар старые лагерники из тех, на честнейшем труде которых было основано становление всего технического хозяйства Дальстроя. В благодарность за целое десятилетие работы они снова подвергались жестокостям и унижениям, в сущности, противозаконного берлаговского режима. Заключенные были тут людьми под номерами, почти начисто отрезанными не только от воли, но и от своих недавних товарищей по заключению в ИТЛ. Писать домой, правда, разрешалось, но не более двух писем в год. Да и были это, собственно, не письма, а автографы, состоящие из двух-трех стандартных фраз: жив, здоров, посылаю привет… Ни о местности, где находится лагерь и даже об ее климате, ни об исполняемой работе, ни о своем настроении писать не разрешалось. Нельзя было и выражать надежду увидеться со своими близкими хотя бы в отдаленном будущем. Будущее спецлагерников заключалось в вечном поселении здесь же, в районе особого назначения. Отсюда не выпускали даже тех, кто завербовался в Дальстрой добровольно, и не впускали сюда никого, кто имел хотя бы отдаленную родственную связь с кем-нибудь из заключенных, даже бывших. Всё это в сочетании с бездушной атмосферой режимного лагеря многих из его заключенных поставило на грань отчаяния, а некоторых, давно уже уставших душевно, сломило окончательно.
Отдельный лагерный пункт № 12 Берегового лагеря при прииске Фартовом (обстоятельство, не подлежащее оглашению) принимал своих первых обитателей, прибывших с этапом из Брусничного. Происходила первая и, как всегда в таких случаях, подчеркнуто официальная и придирчивая приемка-передача особо опасных преступников внешней охраной, она же этапный конвой, внутренней охране лагеря. Машины уже ушли, и арестанты, ожидая своей очереди, сидели на снегу дороги, ведущей к лагерным воротам. Напротив этих ворот, не решетчатых, как обычно, а глухих, с массивной вышкой часового рядом, стоял столик, за которым сидели начальник лагерной УРЧ и начальник этапа. Обычного плаката со сталинским заявлением, что труд в СССР – дело чести, доблести и геройства, над воротами не было.
По обеим сторонам дороги выстроились солдаты с автоматами, и почти на каждый десяток этих солдат один держал на поводке овчарку. Позади этапа и несколько поодаль от него дорогу перекрывал пикет из нескольких солдат с винтовками и двумя «дегтярами» на рассошках.
Сидящие на земле пятерки заключенных по команде вставали, подходили к столику и становились к нему в очередь. И каждый в порядке этой очереди произносил нечто вроде рапорта, начинающегося со слов: «Заключенный, личный номер такой-то…» Затем следовала фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок и прочие «установочные данные заключенного», его «позывные», как их называли в лагере. Всё это, кроме «личного» номера, для старых лагерников было делом привычным. Но на номере, хотя его можно было считать с собственного колена или шапки, чуть не все эти люди сбивались и путались, как путались когда-то на своих «позывных». Таково действие психологического отвращения.
Однако начальник здешней учетно-распределительной части, молодой старший лейтенант с писарскими усиками, добивался, чтобы ритуал представления заключенного своему новому начальству соблюдался в точности. Свою службу в лагере бывший штабной только еще начинал, и власть над людьми, из которых многие были более чем вдвое старше его, ему явно нравилась. Сбивавшихся ретивый лейтенант заставлял отойти от стола, подойти снова и с самого начала повторить унылую тираду. Повторно у большинства она получалась еще хуже. От чувства унижения у некоторых срывался даже голос, и они начинали путать уже всё, включая статью, по которой был осужден, и год своего рождения. В таких случаях начальник УРЧ делал по адресу путаника-недотепы насмешливые замечания с явной претензией на колкость и остроумие. Когда, например, Ка-шестьсот тринадцатый, тот старый агроном, которому в дороге сулили надеть наручники, всё забывал начать свой рапорт со слова «заключенный», начальник спросил его, сколько лет он уже сидит в лагере?
– Двенадцать, – ответил агроном.
– И жалуешься, небось, что срок велик! А вот того, что находишься в заключении, никак запомнить не можешь…
Старик закусил губу, а стоявшие рядом надзиратели осклабились.
– Ничего, у нас запомнит… – протянул начальник берлаговского конвоя, тот самый, который заставил пятиться на вершину сопки итээловский газик.
После отметки в картотеке заключенных тщательно обыскивали, хотя никакой практической необходимости в этом не было, их так же тщательно уже обыскали конвойные перед посадкой в машины. Но, во-первых, это был ритуал, как бы подчеркивающий сухость и официальность отношений внутренней и внешней охраны, во-вторых, у заключенных отбирались сейчас «не положенные» в спецлаге вещи. К ним принадлежали все предметы «вольной» одежды, включая нижнее белье, все письменные принадлежности, книги и даже письма и фотографии из дому. Правда, письма и карточки отбирались с обещанием вернуть их после какого-то просмотра, но, судя по тому, как их бросали на снег, было очевидно, что все бумаги просто выбросят или сожгут.
Канитель сдачи-приема тянулась страшно медленно. Наступили сумерки, которые приблизила еще плотная шапка свинцово-серых облаков, которая к вечеру нахлобучилась еще ниже на вершины окрестных сопок. В распадке, в котором приютился ОЛП № 12, становилось почти темно, и зона вызывающе вспыхнула всеми своими огнями. Вдоль длинной еще темной полосы сидящих на дороге людей лег луч прожектора с вышки у вахты. Все заключенные сидели в одной и той же позе, уткнувшись лицом в колени, схваченные руками. В эту позу их согнули становившийся уже весьма чувствительным холод, душевная подавленность, мучительная пустота в желудке, а теперь еще и этот нахальный свет прямо в глаза.
Время от времени, по мере уменьшения числа этапников на снегу, их заставляли подниматься и на несколько шагов подходить ближе к лагерю. Соответственно короче и плотнее становились и ряды солдат по сторонам. Но если заключенные от холода всё больше сжимались, то тут от того же холода, скуки и желания поесть началось шевеление и притоптывание. В дороге было веселее, так как там почти всегда существовала возможность проявить служебное рвение при помощи окрика, размахивания «бруслетами» или автоматом. А повод для этого подневольные пассажиры грузовиков давали часто. То кто-нибудь из них из-за онемевшей ноги пытался переменить позу, то шепотом обращался к соседу, то слишком внимательно «зыркал» по сторонам. И во всех этих случаях можно было свирепым голосом прокричать номер нарушителя, считывая его с тряпки на арестантском колене или шапке. Такое развлечение сочеталось со служебной практикой и демонстрацией своей преданности долгу бойца Советской Армии. Но сейчас, хоть убей, придраться было решительно не к чему. Враги народа застыли в своих скрюченных позах чуть не под стать мертвецам. Солдаты томились.
Но вот в дальнем конце оцепления этапа партии с автоматами насторожились, а одна из собак заурчала. Из рядов сгорбленных фигур на дороге послышалось какое-то невнятное бормотание сначала одного, а потом и нескольких голосов, похожее на приглушенный спор. Никто, однако, не пошевелился. Поэтому установить, кто же именно нарушил приказ об абсолютном молчании было нельзя, и младший сержант, начальник отделения, был вынужден ограничиться только грозным окриком: «Прекратить разговоры!»
Бормотание стихло. Но через несколько минут кто-то в том же ряду резко вскочил на ноги. Соседи нарушителя, схватив его за полы бушлата, заставили опуститься на место:
– Совсем чокнулся, Кушнарев! Хочешь, чтобы из-за тебя и нас перестреляли?
Начальник отделения, однако, уже заметил его номер: «Жэ-триста восемнадцатый, выйти из строя!» Однако теперь Жэ-триста восемнадцатый съежился на своем месте и не выходил. Очевидно, это был истеричный тип, под влиянием мгновенного нервного импульса сначала совершивший нарушение, а потом испугавшийся его последствий. Но младший сержант уже выхватил из кармана наручники.
– Кому приказано, Жэ-триста восемнадцатый?
– Выходи, Кушнарев! – шипели соседи нарушителя, – выходи, хуже ведь будет…
Кушнарев робко поднялся на ноги и двинулся к краю ряда. Но тут при виде направленных на него автоматных дул его охватил новый приступ истерии.
– Стреляйте! – закричал Жэ-триста восемнадцатый, наступая на ближайшего солдата с автоматом, который от неожиданности попятился, – Мне всё равно, стреляйте!
– Ткачук, Барса! – крикнул начальник отделения. – Больной он, гражданин начальник… – попытался заступиться за Кушнарева кто-то из сидящих на снегу.
– Разговоры! Больные в больнице! – Подбежал солдат с собакой: – Барс, взять!
Огромная овчарка с глухим рычанием бросилась на нарушителя и сразу же сбила его с ног. Послышался треск раздираемой материи. Собака входила в раж и захлебывалась от злости, рвала в клочья и без того изодранный бушлат Кушнарева.
– Отставить! – Ткачук с трудом оттащил Барса. – А ну, поднимайся! – пнул сержант сапогом в бок нарушителя, лежавшего на снегу с прижатыми к лицу руками. Тот, пошатываясь, встал на ноги. – Руки! – человек завел назад руки, и начальник отделения довольно ловко защелкнул на них наручники. – Садись вон там! – Два солдата, подталкивая Кушнарева в спину прикладами, отвели его немного в сторону. Теперь одна из понурых фигур темнела на снегу уже по другую сторону шеренги конвойных. Рядом с ним рычал и скалился на поводке собаковода Барс. Эпизод был мелкий, начальство у ворот не обратило на него внимания.
Муштра и шмон продолжались, но дело подвигалось еще медленнее, чем прежде, так как теперь принимали уже новичков, только что привезенных с Материка. Большинство были нерусскими, и чтение длинного шифра своих позывных многим из них не давалось почти совсем. У людей, еще недавно живших дома, была масса недозволенных в лагере вещей, возня с которыми сильно задерживала приемку. Кроме того, в Ногаеве новичкам выдали новые бушлаты и телогрейки, но еще без номеров. Теперь один из надзирателей в тех местах, где они должны были красоваться, вырезал ножницами огромные дыры. Завтра же сами заключенные залатают эти дыры прямоугольными латками со своими номерами, которые им выдадут в зоне. Дыра на месте самовольно споротого номера неплохо его заменяла. Мало что изменила бы даже серая латка на месте прорехи, слишком показательным было бы ее место.
Мысль современных тюремщиков направлял опыт старой каторги, на которой бубновые тузы не нашивались на арестантские халаты, а вшивались в них.
Тоже уже уставший от однообразно покорного и столь же однообразно бестолкового поведения принимаемых арестантов, начальник УРЧ оживился, когда к его столу подвели последнего из сегодняшнего этапа. Вид у него был измученный и как-то по-особенному угрюмый. Изодранный Барсом бушлат третьего срока имел только одну пуговицу. Жалкий вид этого человека совсем не соответствовал надетым на него наручникам. Вся фигура Кушнарева выражала страшную подавленность, потухшие глаза глядели исподлобья, но выражали теперь только затаенную тоску и усталость.
– Нарушил строй, товарищ старший лейтенант! – доложил младший сержант. Но обращался он не к начальнику лагерной УРЧ, а к начальнику конвоя, тоже старшему лейтенанту.
– Почему нарушил? – спросил тот.
– Не знаю, товарищ старший лейтенант! Какой-то вроде малахольный…
Начальник УРЧ смотрел на нарушителя с любопытством. Даже для него было очевидно, что от этого требовать рапорта по форме – дело безнадежное. Поэтому, взглянув на его колено, старший лейтенант полез в одну из стоявших на столе длинных коробок и достал формуляр Кушнарева. Прочтя его, он присвистнул и взглянул на понурого арестанта с еще большим любопытством:
– Да это бегунец, оказывается, стреляный воробей! – Он показал карточку соседу по столу. – Глядите-ка, два раза в побеге был! По виду никак не подумаешь…
В формуляре значилось, что свой первоначальный срок, полученный им за антисоветскую агитацию, Кушнарев давно бы уже отбыл, если бы не два лагерных «довеска» за попытки побега. Одна из них была сделана еще до войны. Поэтому по статье «побег из мест заключения» беглец получил только три дополнительных года. А вот второй раз Кушнарев бежал уже в военное время, когда такое преступление квалифицировалось уже как контрреволюционный саботаж. Соответствующим был и второй, точнее третий срок – десять лет по статье пятьдесят восемь, пункт четырнадцатый.
– Все они волки в овечьей шкуре! – убежденно сказал начальник конвоя. – Может, ты опять хотел в побег уйти, Жэ-триста восемнадцатый? – сощурился на Кушнарева начальник УРЧ. – И куда же, позволь спросить?
Заключенный молчал.
– От нас, брат Жэ-триста восемнадцатый, никуда не уйдешь! – наставительно сказал старший лейтенант, – разве что вот туда… – Он ткнул пальцем в землю.
– А может, я туда и хочу! – сказал вдруг Кушнарев, и его выцветшие глаза оживились выражением.
– Ну, это дело хозяйское, – усмехнулся начальник, – нам лишь бы для отчетности не затерялся… – Он хохотнул и хлопнул рукой по своей картотеке. Кушнарев от этой шутки как-то съежился и снова сник, а старший лейтенант, сделав нужные отметки в его формуляре, сказал: – Так-то, Жэ-триста восемнадцатый! А за нарушение строя пойдешь сегодня ночевать в кондей… – Водворение в карцер было делом начальника лагеря, но его, вызванного зачем-то в Магадан в управление Берлага, и замещал как раз начальник учетно-распределительной части. Он был мужик не злой и никогда не упускал случая сбалагурить: – Надо же здешний карцер кому-то обновлять! Вот ты этим и займешься, Жэ-триста восемнадцатый…
Бывший аспирант кораблестроительного института Михаил Кушнарев за чуждые советским людям политические убеждения был арестован и осужден еще в тридцать седьмом году. Уже тогда это был постоянно хмурый молодой человек, отличавшийся притом рядом странностей. Приверженность к пессимистической философии сочеталась в нем со способностью и любовью к математике, уменье находить трезвый подход к сложной теоретической проблеме – с чуть ли не мистицизмом, когда дело доходило до его взглядов на жизнь и смерть. Правда, эти два вида увлечений в Кушнареве обычно чередовались. Когда его отпускала философская хандра, он и сам признавал, что идея бессмысленности человеческого существования логически не совместима с какой-либо деятельностью вообще, а тем более с такой, как научная. Но это только подтверждает взгляд на сознательное существование как непрерывную цепь алогизмов. Действительно, обладая Разумом, человек живет по законам Инстинкта. Привлеченный эфемерными приманками, созданными для него Природой в период, когда он не сознавал еще своего места во Вселенной, он и теперь тащится на поводу этих приманок. Это еще понятно в людях, не привыкших и не умеющих мыслить. Но и те, кто подобно Кушнареву знакомы с положениями угрюмой философии пессимизма от мудрецов древней Индии и Китая до Шпенглера и Шопенгауэра, ведут себя таким же образом. Они знают, что жизнь эфемерна, что человеческий разум бессилен, что для этого разума непостижимы ни Природа в целом, ни сам человек, что даже в лучшем случае на долю самых удачливых из людей сумма жизненных наслаждений не идет ни в какое сравнение с суммой неизбежных страданий. Практический вывод отсюда прост: жизнь – это игра, не стоящая свеч. Однако подавляющая масса людей отгораживается от этого вывода всякого рода надеждами, иллюзиями и самообманом. Преодолеть темный инстинкт жизни, добровольно шагнуть в небытие им мешает нехватка воли. Вот и тащат люди ее тяжелый воз, вытягивая шеи к клоку сена, привязанному на конце дышла.
Кушнарев не составлял исключения и периодически страдал от сознания своей рабской подчиненности деспотическим законам существования. Выводило его из этого состояния, главным образом, только занятие теоретической гидромеханикой, предметом, который он очень любил и к которому проявлял недюжинные способности. Два старых тома шопенгауэровского трактата «Мир как воля и представление», шпенглеровский «Закат Европы», книги по индийской философии и конфуцианству перемешивались в неряшливой комнате молодого аспиранта с трактатами Эйлера и Бернулли, Светлова и Чаплыгина так же беспорядочно и сумбурно, как и мысли в его постоянно думающей голове. На титульном листе сборника лекций Жуковского под эпиграфом «Человек полетит, опираясь не на силу мышц, а на силу своего Разума», рукою хозяина и, по-видимому, безо всякой связи с этим выражением, было выведено изречение из Конфуция: «Всякое существование есть страдание». Была тут и Библия, заложенная логарифмической линейкой на книге Экклезиаста. Библейский пророк импонировал убежденному атеисту Кушнареву мрачным духом своей философии безнадежности.
Его интеллектуальное уныние началось давно, еще в юношеском возрасте. Поначалу думали, что Мишины философствования на тему о бессмысленности и безысходности жизни – обычная дань мальчишеской рисовке. А рисоваться, пожалуй, было чем. Миша был начитан в таких областях, о которых его сверстники-школяры даже понятия не имели. Они, впрочем, не были сыновьями профессора юриспруденции, умершего незадолго до революции и оставившего жене и сыну богатую библиотеку, в которой было множество книг по истории и философии. Обычный подросток к этим книгам и на версту бы не подошел, а Миша рылся в них со странным, не по возрасту, интересом. Сначала ему нравилось выискивать в них удивительные мысли и выражения, нередко идущие вразрез с общепринятыми теперь представлениями, и поражать ими товарищей по школе и даже взрослых. А потом оказалось, что некоторые из этих мыслей вошли в такой резонанс с его собственным строем мышления, что стали почти навязчивой идеей на всю жизнь. Мрачным настроениям Кушнарева-подростка немного способствовала и обстановка в семье. Мать, ставшая после с трудом пережитой Гражданской войны переводчицей с французского в каком-то издательстве, вышла замуж за вузовского преподавателя диамата. Миша прочел энгельсовского «Анти-Дюринга» и «Диалектику Природы», пробовал даже читать «Капитал», но многого не понял и по мальчишеской ершистости почти ни с чем не согласился. С отчимом он вступал в частые философские споры, но вскоре сделал вывод, что тот не более чем начетчик и долдон. Диаматчик, в свою очередь, считал взгляды пасынка незрелой заумью и чепухой. Они поссорились. Уже окончивший школу, Миша ушел из дома, поступил рабочим на кораблестроительную верфь, а оттуда через два года в кораблестроительный институт. Жизнь есть жизнь. Мать его к тому времени умерла. Оказавшийся в полном одиночестве студент становился всё угрюмее. Нашлись, конечно, девушки, которые заинтересовались этим хмурым Чайльд-Гарольдом. И не только они пытались ему внушить, что с женитьбой все его упадочные настроения исчезнут. Однако принципиальный пессимист прочно сидел на своем коньке. Марк Аврелий и Конфуций, Шпенглер и Гартман, безусловно, правы, жизнь есть бессмыслица. А брак, поскольку главное назначение этого института – продолжение человеческого рода, – бессмыслица в квадрате. От угрюмого бирюка отстали.
Однако по мере роста учебной нагрузки нездоровые настроения Кушнарева постепенно спадали. Его пытливый и беспокойный ум нашел пищу в решении задач по математической интерпретации гидродинамических явлений. Способного студента заметил руководитель кафедры гидромеханики. Это был не только большой ученый, но и талантливый педагог, сумевший отвлечь унылого парня от маниакальных идей теоретическими заданиями, имеющими немалый практический интерес. Профессор понимал, что философская оболочка этих идей в данном случае – лишь форма выражения болезненной меланхолии, ослабить которую можно только переводом мыслительных способностей меланхолика в другое русло. К концу последнего курса он преуспел в этом настолько, что мог поставить вопрос об оставлении Кушнарева на кафедре. Это было непросто. Нежелательный и в рядовом инженере характер убеждений выпускника был тем более нежелателен в советском ученом. Но авторитет руководителя кафедры был весьма высок, и его ходатайство уважили. Профессор не ошибся. Когда определилась тема кандидатской диссертации Кушнарева, то она обещала быть не тривиальной, «соискательской», а по-настоящему ценной научной работой. А заодно оказалась и лучшим лекарством против черной кушнаревской меланхолии, к тому времени заметно остывшей.








