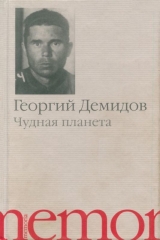
Текст книги "Чудная планета (Рассказы)"
Автор книги: Георгий Демидов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Бацилла был одним из тех, кто в таком вот состязании с лагерным начальством – кто кого переупрямит? – провел бóльшую половину своего срока. Но тут вспыхнула война, и прежнее «паньканье» с отказчиками сменилось пришиванием им дела о «контрреволюционном саботаже», предусмотренном пунктом четырнадцатым грозной пятьдесят восьмой статьи. Горев одним из первых был осужден по новому указу на новый десятилетний срок.
Казалось бы, он и до этого находился на самом дне угрюмой безнадежности. Но, видимо, это было не так. После второго осуждения Бацилла совершенно ушел в себя и почти перестал разговаривать с окружающими. Работать «на начальника» он по-прежнему отказывался, а в промежутках между многонедельными сидениями в карцере продолжал рисовать. Но только его рисунки сделались теперь еще угрюмее. Возможно, в это время у него и зародилась идея создать первое художественное произведение, в котором нашли бы свое отражение все муки лагеря и вся несправедливость мира. Вряд ли, конечно, Бацилла понимал, что его возможности для написания такого шедевра ограничены недостаточной образованностью и почти полным незнанием жизни. Что касается недостатка специального образования, то тут Бацилла мог с полным основанием надеяться на возмещение его силой своего чувства. Дети и художники-примитивисты нередко достигают в своих рисунках выразительности, недоступной живописцам с академическим образованием.
О том, что щуплый, казалось, насквозь просвечивающий от страшной худобы парень, похожий в свои двадцать два года на физически недоразвитого подростка, вынашивает свою страстную идею, я узнал, когда он попал в наш приисковый лагерь где-то в бассейне реки Неры. И как всякий интеллигент, отнесся к ней с насмешливым недоверием. Было в ней что-то общее с изобретательством вечного двигателя, которым занимался в том же лагере другой полусумасшедший невежда. Крайне заурядной была и внешность художника. Обыкновенный лагерный «фитиль». Из широкого ворота драного бушлата, свисающего с его узеньких плеч как с вешалки, торчала длинная, по-детски тонкая шея. Она казалась слишком слабой для непомерно большой, лобастой головы, всё время клонившейся на грудь, как будто ее обладатель засыпал даже на ходу. Руки Бацилла держал обычно засунутыми в рукава и сложенными на груди. Правда, на улице это было необходимо, так как у него не было ни рукавиц, ни пуговиц на бушлате. Когда однажды я его о чем-то спросил, Бацилла с трудом поднял свою тяжелую голову, посмотрел на меня отсутствующим взглядом и ничего не ответил. Это обычное поведение доходяг на грани последней стадии дистрофии. Конечно же, обыкновенный фитиль, которых в каждом бараке по десятку!
Но когда я увидел Бациллу работающим в своей «мастерской» – закуте за вешалками для онучей и промокшей одежды в барачной сушилке, – я его почти не узнал. Он сидел на низком чурбаке за неким подобием пюпитра, на котором стоял кусок фанеры, и обломком электрографита наносил на него уверенные штрихи вполне твердой рукой. Глаза художника на лице, обтянутом сухой кожей так плотно, что на нем вырисовывались почти все детали черепа, горели фанатическим воодушевлением. За его работой наблюдали поклонники таланта Бациллы из числа местных блатных. Эти люди были единственными в лагере, кто сочувствовал его идее написать обличительную картину. Правда, никто из них не знал, что это будет за сюжет, как не знал еще, наверно, и сам художник. Вся сцена сильно напоминала чью-то картину, изображавшую работу живописца-неандертальца в доисторической пещере.
Хевра опекала и охраняла своего художника. Без этого в лагере тех лет ему было бы еще труднее выжить. Изнуренным от голода или непосильной работы людям тут никто не сочувствовал. Наоборот, они вызывали злобное презрение, особенно в тех случаях, когда еще и впадали в обычное при дистрофии голодное слабоумие. Плетущегося позади всей бригады еле передвигающего ноги человека с особой злобой пинали прикладами конвоиры. В забое его непрерывно награждали толчками и ударами бригадиры и десятники, в бараке – дневальный, а то и просто те, кто был хоть немного посильнее. Доходяги раздражали своей неспособностью поднять иногда совсем небольшую тяжесть, переступить без падения низенький порог, сразу ответить на вопрос «Как твоя фамилия?» и сообразить, который талон у них на хлеб, а который на баланду. Особенно часто получали колотушки и синяки те, кто, уже падая от ветра, продолжал еще огрызаться и гундеть. И если такого, в ответ на его претензию, что черпак не полон, раздатчик баланды огревал этим черпаком по голове, никто ему не сочувствовал. А чего с ним валандаться? Начал подыхать, так и пусть подыхает, а не путается тут под ногами. То, что такое же состояние было почти неизбежным будущим почти каждого лагерного работяги, не только не уменьшало их злобы к фитилям, а скорее ее усиливало. Многое из того, что кажется в людях навсегда исчезнувшим, оказывается только прикрытым косметикой цивилизации. И когда при тяжелых жизненных встрясках этот непрочный слой осыпается, под ним обнажаются древние инстинкты хищной стаи, один из которых выражается принципом: «Смерть ослабевшему!» Он не так уж рудиментарен, если вдуматься в те ощущения, которые вызывают у нас вид дряхлых, зажившихся на свете стариков, уродцев и психически неполноценных людей. Еще не так давно человеческое общество не скрывало своей неприязни к прокаженным и другим неизлечимо больным. И объяснялось это не столько страхом перед заражением, сколько инстинктивным отвращением ко всему, что может отрицательно повлиять на существование вида. Если олени не уничтожают, подобно волкам, ослабевших или больных особей своего стада, то только потому, что за них это делают волки. В человеческом стаде инстинкт враждебности к беспомощному ближнему проявляется с особой силой там, где это стадо состоит из людей, насильно согнанных в какой-нибудь общий загон, каковым является, например, концентрационный лагерь.
Впоследствии я познакомился с некоторыми работами Бациллы. Это было не так просто, так как их хранили не только от начальственных, но и от посторонних глаз. Не то чтобы рисование считалось в лагере запрещенным делом, но слишком уж очевидной была нездоровая тенденция, проявлявшаяся в рисунках художника-блатного. Поэтому их разрознивали, маскировали и прятали. Все они были сделаны всё на тех же небольших кусках фанеры, которые легко засунуть в щель пола, в матрац, набитый стружкой или опилками, а то и просто в сугроб.
Бацилла работал в своеобразной манере, которую никак нельзя было объяснить недостатком у него живописной техники. То вытягивая фигуры как на картинах эль Греко, то слегка сплющивая их по вертикали как Гойя в некоторых из своих «Капричос», он усиливал этим их выразительность. Изображения были как бы срисованными с отображений в зеркалах «комнаты смеха», но они отнюдь не были смешными. Вот некоторые из них: чуть в стороне от оконца хлеборезки – отойти дальше у него, видимо, не хватало терпения – доходяга впился зубами в только что полученную горбушку. В его глазах жадность и голодная тоска одновременно, как у собаки, грызущей найденную на помойке кость. Через ворота лагеря выволакивают, «выставляют на работу» отказчика, привязав его за ноги к задку саней. С головы волочащегося по снегу человека свалилась шапка, его бушлат задрался до самых плеч. Было тут еще изображение «саморуба», только что отсекшего себе топором на высоком пне кисть руки; похожего на скелет покойника, с пальцев которого снимают отпечатки, необходимые для «архива-три», и многое другое в том же роде. Некоторые из картинок были покрыты красками, неизменно темными и глухими от обильной добавки в них сажи и сепии. Световые переходы на рисунках Бациллы были резкими, почти без полутеней. Даже выполненные в красках, они напоминали скорее графику, чем живопись. Работы странного художника были так же необычны, как и он сам, и их можно было бы отличить от всяких других с первого взгляда.
И всё же лагерная тематика была у него не единственной. Среди работ Бациллы были также изображения «воли». Причем, неизменно, только благополучных ее сторон. Однако почти все такие сценки получались у него какими-то беспомощными и невыразительными. Целующаяся в окне пара была, скорее всего, срисована Бациллой по памяти с виденной когда-то открытки. Сцена пирушки получилась мертвой, и главным в ней оказались не лица, а горы наваленной на столе жратвы. Взращенный в тюрьмах и лагерях, художник почти не знал жизни. Живее других он изобразил лицо усатого дядьки, пьющего пиво у станционного киоска. Лицо усача выражало блаженство, вряд ли совместимое с получаемым им рядовым удовольствием. Скорее, его вообразил изнывающий от жажды художник, наблюдавший сцену из оконца этапного вагона.
Говорили, что всё это, как и целая галерея лиц, – эскизы к будущей картине Бациллы. Я уже не сомневался в его таланте, наружность на этот раз оказалась особо обманчивой. Однако не мог себе представить, как он сумеет объединить свои эскизы в одну общую композицию, да еще включающую в себя картины довольно пошлого благополучия. Судя по этим картинам, представления художника о счастье не выходили за пределы, характерные для самого обычного блатного. Такой не сумеет осветить свое будущее произведение достаточно глубокой мыслью, без которой никакое мастерство, даже помноженное на самое сильное чувство, не может оказать существенного влияния на умы людей. В это могли верить только лагерные блатные, такие же наивные в вопросах искусства, как и их художник, и еще более темные, чем он.
Прошло уже немало времени, тусклого и тягостно монотонного, как всегда в лагере. «Горячая» война победоносно закончилась и почти сразу же сменилась войной «холодной». Колыма была районом, который, возможно, первым почувствовал ее ледяное дыхание. В бухту Ногаева больше не приходили корабли из калифорнийских и аляскинских портов. Наступила пора, куда более голодная для дальстроевских каторжников, чем последние годы войны. Мысль о хлебе насущном заслонила все остальные. Даже я, ставший к тому времени лагерным «придурком» – я работал электриком в зоне, – почти перестал интересоваться делами Бациллы, по-прежнему большую часть времени сидевшего в кондее. Говорили, что в промежутках между сидками он уже дописывает свою картину. Но ее содержание блатные хранили в тайне, только намеками давая понять, что это будет великое произведение искусства. Тоже еще знатоки!
В последний раз я видел Бациллу на утреннем разводе, на который его вывели из карцера, чтобы в тысячу первый раз спросить: не одумался ли неисправимый отказчик и не согласен ли он выйти на работу? И в тысячу первый раз он, не поднимая склоненной на грудь головы, надменно повел ею из стороны в сторону. Ворота закрылись, и обвешанный рваньем, сквозь которое во многих местах просвечивало голое тело, невероятно худой – в чем только душа держится? – упрямый фитиль остался на площадке. Утро было морозное, за сорок. Светило мартовское солнце, под которым понурая фигурка отказчика с большой головой и голой шеей, ставшей как будто еще тоньше, если это возможно, выглядела особенно жалко. Наш новый начлаг, недавно вернувшийся с фронта, человек, по-видимому, не злой, долго смотрел на Бациллу, укоризненно покачивая головой. Вероятно, он и в самом деле жалел этого мальца, потому что сказал:
– Ну, и дурак же ты, Горев! Сам себя губишь! Ну на что ты надеешься, чего ты ждешь?
И тут произошло редчайшее событие, Бацилла ответил на обращенный к нему вопрос. Правда, не сразу. Для этого, после того как он приподнял голову и как-то по-гусиному вытянул шею, молчальнику пришлось сделать несколько судорожных движений кадыком. Возможно, что перед этим в последний раз он произносил какое-нибудь слово или звук неделю, а то и две назад. Наконец, несколько раз глотнув воздух, он довольно отчетливо произнес:
– Т-т-трумэна жду!
«Ожидание Трумэна», т. е. прихода американцев, было в те годы политической ориентацией большинства блатных, сменившей их прежнюю показательную преданность «нашей» советской власти и «нашему» Сталину. Теперь Генералиссимуса и Вождя Народов они именовали не иначе как «ус», а бериевское МВД величали «советским Гестапо». Произошла эта метаморфоза в результате резкого усиления репрессий за уголовные преступления. Если во времена Ежова и в первые годы наркомства Берии уголовники числились «социально близким элементом», противопоставляемым в лагерях подлинным «врагам народа», то за годы войны они почти утратили эту привилегию. Скокари и домушники получали сроки вплоть до «сталинских четвертаков» наравне со шпионами и террористами. Поэтому «друзья народа» во время войны почти не скрывали своих пораженческих настроений, а после нее так же откровенно возлагали свои надежды на «Белый дом», противопоставляемый ими «Красному дому», т. е. Кремлю. Нередко можно было услышать, как с этапной машины или сквозь решетку кондея какой-нибудь блатной кричал надзирателю, конвоиру или даже начальнику: «Погоди, падло! Скоро наш Белый дом вашему Красному дому секир башка сделает!» Имелась в виду атомная бомба, о которой шло тогда много разговоров и которой еще не было у Советского Союза. Все эти выпады сходили блатным безнаказанно. Видимо, в какой-то степени они всё еще оставались «социально близким» элементом, несмотря на изменение знака их убогой политической философии на обратный.
Бацилла вряд ли был на уровне даже этой философии и вряд ли он чего-нибудь ждал. Скорее, его политическое «заявление» было продиктовано принципом всё той же блатняцкой солидарности.
Начальник сначала опешил, а потом побагровел, топнул ногой и высоким, бабьим голосом крикнул:
– Не дождешься!
– Д-д-дождусь! – упрямо повторил Бацилла.
Я видел его тогда в последний раз. Вскоре меня по «спецнаряду» перевели в другой лагерь того же управления. Тут тоже добывалось золото, но не приисковым способом, как почти повсюду тогда на Колыме, а шахтным. Довольно сложное хозяйство рудника требовало много электрической энергии, которую давала дизельная электростанция. Вот на нее-то и привезли меня работать в качестве линейного монтера, благо я имел специальное высшее образование и даже ученую степень.
Работа дежурного по электросети была не хитрая и не очень тяжелая, если только не происходило особенно крупных аварий. Что же касается мелких, то они были даже желательны, так как давали нам право хождения в поселок вольных. Монтер-заключенный, вернувший в дом электрический свет, всегда мог рассчитывать, что хозяева этого дома вынесут ему завернутый в газету кусок хлеба. Хочет или не хочет он есть, «мужика» из лагеря тогда не спрашивали. Особенно дежурного электромонтера, работа которого оценивается повременно, а значит и пайка ему идет второразрядная.
Чем монотоннее текут дни, тем быстрее пролетают годы. Я и не заметил, как их на новом месте прошло уже целых два. И почти уже забыл о чуднóм художнике из блатных, надумавшем удивить мир каким-то своим произведением.
Однажды в монтерскую дежурку на электростанции явился пожилой дневальный общежития мужчин-холостяков на поселке и заявил, что в этом общежитии «перегорел свет». Очередь отправляться по вызову была моя, и, захватив с собой крючья для лазания по столбам, я пошел со стариком в поселок.
Заменить перегоревшую предохранительную перемычку на столбе, врытом возле длинного приземистого строения, было делом одной минуты. Когда в подслеповатых, незанавешенных оконцах барака вновь вспыхнул свет, из него донесся радостный галдеж. Несмотря на позднее время – шел уже первый час, – многие из его обитателей еще не спали. Эта одна из характерных особенностей общежитий лагерников, которые как бы утверждали таким способом, что они теперь люди вольные. К популярному тогдашнему афоризму, что свобода есть право на бритву, водку и женщин, следовало бы добавить еще и право ложиться спать когда хочешь и даже не ложиться совсем. Во многих отношениях бараки вольняшек были даже хуже иных лагерных. Зато в них можно было хоть до утра резаться в карты, стучать костяшками домино или просто горланить, особенно когда на поселке «дают» спирт. Ни тебе отбоя, ни тебе надзирателя! Находились тут, конечно, и такие жильцы, которые ложились вовремя и хотели бы, чтобы в общежитии хотя бы ночью стояла тишина. Но это были всегда старые штымпы, считаться с которыми тут никто и не думал.
Когда я вошел в барак, чтобы проверить электропроводку – это предписывалось правилами, а более того надеждой на «горбушку», – те, кто еще не спал, возобновили прерванные темнотой занятия. За одним из двух щелястых столов, занимавших почти весь проход между двухэтажными нарами, забивали «козла». За другим, который стоял в глубине барака, играли в самодельные карты. Судя по азартным выкрикам картежников, это была «бура», та самая, в которую в тюрьмах и лагерях играли обычно под нарами. Тут такой необходимости не было – воля!
Играли, как почти всегда в таких местах, не на деньги – в кои веки у кого они тут бывают? – а на «шмутки». Поставленные «на кон» вещи лежали на скамейках рядом с игроками – вылинявшие телогрейки, кирзовые «прохоря», шапки. У большинства это было единственное, чем они обладали.
Две запыленных тусклых лампочки под потолком освещали обычную картину прилагерного, вольняшеского «дна». На пыльных, набитых сенной трухой матрацах, не раздевшись и укрывшись лагерными бушлатами, спали люди. Простыни и одеяла тут не то чтобы не полагались, но выдавать их жильцам таких вот общежитий было бы совершенно бесполезным делом. Одни пропьют или проиграют казенные вещи сами, у других их украдут для той же цели пропившиеся и проигравшиеся.
Дневальный вынес мне из своей клетушки у входа в барак небольшой кусок хлеба и кружку с кипятком. С ними я и уселся на конце стола, на другом конце которого играли в карты.
«Бура» – игра быстрая. Я не доел свой хлеб еще и до половины, как один из игроков продулся в прах. Он проиграл все свои носильные вещи, кроме оставшихся на нем штанов и рубахи. Рубаху, впрочем, он тоже с себя сорвал и с блатняцкими ругательствами, божбой и матерщиной предлагал ее партнерам в качестве последней ставки. Что они, падлы, не понимают что ли, что ему совершенно необходимо отыграться. На работу-то идти завтра не в чем! Прогул пришьют, а это новые восемь лет лагеря… А рубаха еще хоть куда, только в одном месте и залатанная!
Но «падлы» ставки не принимали, уж очень убого выглядела ветхая, отроду не стиранная рубаха. А что касается жалких слов про новый срок и прочее, то они старому каторжанину вроде и не к лицу, трусы в карты не играют…
Некоторое время проигравший сидел за столом в позе глубокого отчаяния, подперев руками голову, и не то ругался сквозь зубы, не то стонал. А потом, видимо, решившись на что-то, вскочил и побежал к своему месту на нарах. Над ним висело намалеванное на довольно большом куске фанеры, вероятно крышке от макаронного ящика, изображение русалки. Девица с голой грудью и распущенными волосами высунулась из воды до основания массивного, покрытого чешуей рыбьего хвоста. Это была обыкновенная лагерная поделка. Набивший себе руку на таких «картинах» опытный живописец справлялся с ней за один-два вечера, и больше одной буханки хлеба она не стоила.
Было странно, что владелец картины только с явным усилием заставил себя поставить ее на кон. Еще удивительнее, что он поставил ее «ва-банк» под все проигранные им ранее вещи. И уж совсем непостижимым показалось мне то, что его прижимистые партнеры приняли эту ставку не торгуясь.
Пока игроки перешвыривались картами и отрывистыми, похожими на команды, отдаваемые дрессированным собакам, картежническими терминами, картина стояла под столом, прислоненная лицевой стороной к его ножке. Там было темно, и, украдкой скашивая глаза на ее обратную сторону, я сумел разглядеть только, что на этой стороне было изображение какого-то распятия. В нем, возможно, и заключалась разгадка ценности картины, замаскированной изображением русалки на другой стороне фанерки. Но почему? Сектанты в карты не играют, а эти за столом если и поминали имя бога довольно часто, то не иначе как в сочетании с особо затейливым и злобным матом.
Именно таким матом, истово, как будто читал молитву, и выругался банкомет, швырнув на стол остаток карт. Это значило, что поставивший ва-банк выиграл. Теперь ему везло в таком же несоответствии с законами теории вероятностей, с каким прежде не везло. Вернув свои вещи, он выиграл сверх того еще засаленный полушубок и самодельный эбонитовый мундштук. При таком везении и менее азартные люди согласны обычно играть хоть до утра. Но его партнеры решили, что на сегодня хватит, пора спать.
Я давно съел свой хлеб, до дна выпил большую кружку мутной тепловатой воды и теперь делал вид, что с большим интересом слежу за игрой. На самом же деле я ждал ее конца, чтобы взглянуть на заинтриговавшую меня картину. После выигрыша парень находился в хорошем настроении, но оказался неожиданно нелюбезным:
– Вот повешу ее на стену, тогда и гляди!
Я сказал, что меня интересует не русалка, а то, что на другой стороне фанеры. Он посмотрел на меня подозрительно:
– А ты не стукач, часом? Коменданту не накапаешь?
Я заверил, что сроду стукачом не был, свободы не видать!
Я не ошибся. На другой стороне картины с русалкой было действительно изображено распятие. Но к кресту, грубо сколоченному из неостесанных, довольно тонких жердей, был пригвожден не Христос, а человек в лагерном бушлате. Бушлат был распахнут, и под ним на распятом ничего не было, кроме спустившихся на самые бедра изодранных штанов, сквозь прорехи которых просвечивали похожие на палки ноги. Над впалым, почти притянувшимся к спине животом выпирали тонкие ребра недоразвитой груди. Большая стриженая голова казненного бессильно свесилась на грудь на тоненькой, почти детской, шее. Но крест был высокий, и вообще изображение было сделано по-витийски удлиненным и в ракурсе снизу. Поэтому лицо человека на кресте было видно почти полностью. Оно не было еще лицом мертвеца. Глаза распятого смотрели из-под полузакрытых век с выражением привычного страдания и безответного вопроса: за что? Хотя кровь, скупо вытекшую из его ран, художник изобразил уже совсем запекшейся, одной только бурой, без малейшего блеска, краской. Но даже сквозь маску наступающей смерти лицо человека на кресте выражало знакомую мне смесь неодолимого упрямства и внутренней непокорности. Это было лицо Бациллы, его несомненный автопортрет, сделанный им в своей характерной манере, но с неожиданно жестокой даже для него выдумкой.
Фоном для необычной Голгофы послужил, как и следовало ожидать, довольно обычный на Колыме безжизненный пейзаж, написанный как будто смесью сажи и ржавчины, настолько он был угрюм. За распятием на первом плане виднелось множество других таких же распятий, разбросанных по склонам почти черных сопок и исчезающих в мрачной дали. Бесконечные числом, кресты далеко отстояли друг от друга, что, вероятно, символизировало внутреннее одиночество распятых на них страдальцев. Каждый умирал на своем кресте, и распятый на переднем плане был лишь одним из множества.
Картина была окаймлена как бы рамкой, составленной из серии небольших картинок, заключенных в правильные прямоугольники. Очевидно, они служили иллюстрацией к главной картине и пояснением заложенной в ней мысли художника. Подобное сочетание главного и вспомогательного сюжетов нередко можно встретить в произведениях религиозной живописи средневекового Запада и на старинных русских иконах. При всей своей примитивности этот прием полностью решал задачу композиционного объединения самых разных картин Бациллы под знаком найденной им мрачной аллегории. Поясняющие ее сюжеты были представлены каждый в двух картинках, расположенных попарно на одной горизонтали. Невидимая ось симметрии делила всю композицию на две половины. Картинки справа иллюстрировали аллегорию, слева – наводили зрителя на мысль о несправедливом устройстве мира.
Со многими из этих картинок я был уже знаком по давним эскизам Бациллы, другие видел впервые. Всё им нарисованное сюда, конечно, не вошло. Но я узнал широкоротого доходягу, жадно вгрызающегося в свою пайку. Ему противопоставлялся усач с пивной кружкой. Играющему на «рояле» дубарю соответствовало изображение приличных похорон – благостный покойник возлежал на высоком белом катафалке. На одних горизонталях были нарисованы изнемогший у своей тачки каторжник и мордастые футболисты, гоняющие мяч по черно-зеленому полю; скрючившийся в тесном деревянном «мешке» узник «бокса» и изображение южного пляжа. Оно было особенно мертвенно и беспомощно в исполнении Бациллы. Полуголые, скорее похожие на мертвецов, чем на отдыхающих, фигуры валялись на темно-коричневом песке под холодно-синим небом, на котором вырисовывались метелки пальм. На среднем плане катились тяжелые волны оливково-черного моря.
Конечно, за время, в течение которого я его не видел, ни общий кругозор художника, ни его умение рисовать картины благополучия не могли существенно измениться. А вот сюжетное и композиционное решение для своей картины он сумел найти с неожиданной для него глубиной мысли. Лишнее доказательство того, что предельная целеустремленность может мобилизовать в человеке качества, которые не только его окружающие, но подчас и сам он в себе не подозревал.
Я сказал владельцу картины, что знал написавшего ее художника. Я назвал его прозвище и лагерь, в котором содержался Бацилла. Иначе мой интерес к нему и к путям, которыми эта картина попала сюда, мог бы показаться праздным.
Парень ответил, что точно, художника звали Бациллой. Лично с ним, правда, он знаком не был, отбывал срок в другом лагере. Но знает, что это был настоящий законник, верный своему слову. Сказал, что не покорится легавым, и не покорился. Он и умер почти сразу, как только закончил эту картину.
Бацилла умер! При других обстоятельствах это известие вряд ли бы меня поразило. Удивляться приходилось скорее тому, как долго этот «фитиль» протянул. Но сейчас сообщение о смерти художника я получил в тот момент, когда держал в руках доказательство, что задуманный шедевр он все-таки создал. И почти не приходилось сомневаться, что эти два события взаимосвязаны.
Главная пружина внутри этого человека, выполнив свое назначение, распустилась.
Мой собеседник рассказал мне, что картину Бациллы, чтобы скрыть ее от глаз легавых, приколотили лицом вниз к донышку маленького чемодана. С этим чемоданом ее и вынес за зону первый же из освободившихся членов хевры. Бацилла к тому времени уже лежал на лагерном кладбище под совсем еще свежей фанерной эпитафией. На воле первый хозяин картины из первого же выигрыша в буру заказал на другой ее стороне вот эту бабу. Так, скрытая дозволенным изображением, она и провисела некоторое время в такой же вот общаге. Без стукачей, конечно, ни одна общага не обходится, но, как и здесь пока, начальству про картину они ничего не накапали – как видно, она даже стукачей пронимает. Но потом владелец шедевра «подзашел» на каком-то деле и снова загремел в лагерь. Срок он получили небольшой – дело шло о краже у какого-то фраера старых валенок – и из тюрьмы прислал своему приятелю, нынешнему хозяину картины, ксиву с наказом беречь ее до его освобождения. С тех пор тот, выполняя этот наказ, и таскает с собой произведение покойного блатного…
– А как же ты его картину на кон сегодня поставил? – задал я резонный вопрос. Парень смущенно поскреб затылок. Тут он, конечно, малость ссучился, крайность вынудила. Но больше этого не повторится, свободы не видать!
Возвращаясь на свою электростанцию, я думал, конечно, об удивительном художнике и главном творении его мученической жизни. По привычке философствовать, когда это позволяло время и относительная сытость, я пытался сделать обобщающие выводы и из этого редкого феномена. Толстой в своем «Воскресении» утверждает, что арестантами становятся большей частью люди, которые по своим моральным качествам либо ниже, либо выше обычного уровня. Разумеется, распространение выводов, сделанных на материале царской тюрьмы девятнадцатого века, на заключенных сталинско-бериевских лагерей – дело опасное. Оно усложняется еще и тем, что в одном и том же человеке могут быть смешаны качества уголовника и одержимого высокой идеей страстотерпца. Кроме того, автор «Воскресения» вывел свое заключение, изучая с одной стороны воров и мошенников, а с другой – политических и религиозных сектантов. Но и в современном уголовном мире я знал не одного такого, как Бацилла.
Конечно, надо быть темным блатным, чтобы верить, что этот самоучка создал произведение, имеющее самостоятельную художественную или хотя бы публицистическую ценность. Но тем, что принято называть «человеческим документом», аллегория Бациллы, безусловно, является. Только вряд ли этот документ на фанере сохранится сколько-нибудь долго. Нет никакой гарантии, что о картине со столь неприемлемой тенденцией не дознается местный опер или поселковый комендант – и тогда она будет немедленно уничтожена. Еще вероятнее, что ненадежный хранитель творения Бациллы проиграет его в «буру» или тоже «подзайдет» на попытке стащить что-нибудь после очередного проигрыша. А попав в равнодушные руки, картина-символ превратится просто в хорошо прогрунтованную фанерку, годящуюся в качестве покрышки для бадейки с водой или подложки для новой картины на более веселый сюжет. Теперь в повальную моду входили копии всех масштабов с шишкинских «медведей на лесозаготовке» и перовских «Охотников на привале». Лазурные же озера с лебедями и замками никогда из моды выходить и не думали.
Я брел медленно, полагая, что если за мое отсутствие и случился какой-нибудь вызов на линию, то по этому вызову уже отправился мой напарник. Идти было довольно далеко. Рудничный поселок, как и большинство рабочих поселков на Колыме, вытянулся вдоль длинного неширокого распадка. За ним, через небольшой интервал, расположился лагерь. А в самом конце распадка, у подножья замыкающей его сопки, притулилась наша дизельная электростанция – длинное строение с грибами вытяжных труб на крыше. Ровное, наводящее сон гудение машин, днем слышное только вблизи от них, сейчас разносилось на целые километры вокруг.
Стояло обычное для этих мест холодное полярное лето. Время белых ночей уже прошло, но даже в такие утра, как сегодня, когда небо было затянуто довольно плотными и низкими облаками, светало еще очень рано. Когда я подошел к электростанции, сопки, придвинувшиеся к ней совсем вплотную, были видны уже вполне явственно, хотя и в совсем иной цветности, чем при дневном свете. Их серовато-бурые, совершенно лишенные растительности склоны казались сейчас почти черными. Только местами, где проходили широкие ржавые полосы промоин, эти склоны отсвечивали красным. Но только чуть-чуть и то на ближних сопках. Дальние терялись еще в мглистой тьме – в этой стороне был север.








