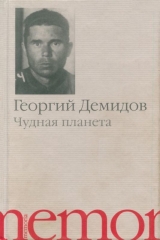
Текст книги "Чудная планета (Рассказы)"
Автор книги: Георгий Демидов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Георгий Демидов
ЧУДНАЯ ПЛАНЕТА
Рассказы



Воспоминания об отце
В моем детстве и юности отца не было, как не было его у большинства детей моего поколения. Война и тов. Сталин так основательно потрудились в этом направлении, что слово «папа», такое родное и необходимое каждому ребенку, у меня, да и у всех ребят, меня окружавших, не вызывало никаких эмоций. Для меня отец был скорее книжным персонажем, чем живым человеком. Поэтому и вопросов «кто? где? почему?» ни у кого на протяжении всей моей дошкольной и школьной жизни не возникало. Нет и нет. Ни у кого нет.
Впервые о том, что у меня есть отец и он жив, я узнала по дороге в детский сад летом 1945 года. Я хорошо помню этот день. Дорога в детсад шла через заброшенное старое кладбище, сплошь заросшее кустами сирени. Нас, ребятишек со всего двора, по очереди отводила и забирала чья-нибудь мама. В этот день была очередь моей. Она шла по тропинке и все время перечитывала какое-то письмо, а мы ошалело носились вокруг. Потом она вдруг ухватила меня за платье, притянула к себе и сказала: «Твой отец жив, только об этом не надо говорить!» – и заплакала. Я, кажется, перепугалась, но потом в детском саду весь день пританцовывала и всем повторяла: «У меня жив папа!» Как можно не говорить, когда есть папа!
Вечером мама опять читала письмо. Писала женщина, врач, которая в больнице на Колыме делала папе операцию, лечила его и, узнав его историю, без его согласия решила написать нам. (Уже будучи взрослой я узнала ее имя – Анна Леонидовна Новикова.) Мама написала отцу, но ответа не получила.
Я же довольно быстро обо всем забыла – в шесть лет долго не переживают.
А через год-два, где-то в 1947–1948 году (точно не помню), пришло второе (и последнее) известие об отце. Как-то мама вернулась с работы сама не своя, взяла меня за руку, и мы с ней поехали куда-то на трамвае – по моим тогдашним представлениям очень далеко. Потом долго шли, искали какой-то дом. Мама молчала, и мне было страшно. Кажется, это была окраина – почти деревенская, заросшая травой улочка, покосившийся домик. Помню, как заскрипела калитка. Какая-то старуха нас впустила (она мне потом долго снилась по ночам в виде ведьмы), провела в полутемную комнату, в глубине которой из вороха тряпья на кровати на нас смотрел очень бледный (мне он показался белым) человек с огромными глазами. Маме пришлось меня успокаивать, так как я очень испугалась. Меня усадили к окну на табуретку, сунули что-то в руки, а мама долго шепталась с тем человеком и все время плакала. Потом этот человек чиркнул спичкой и поджег какую-то бумажку. А мама перестала плакать и как будто окаменела. Мы и домой так вернулись, молча. И еще долго мама была такой. Я, кажется, даже шкодить меньше стала и вообще с этого времени стала ей много помогать по дому, хотя она специально меня об этом не просила.
Уже через много лет я узнала, что это было первое и единственное послание отца с Колымы с извещением о втором десятилетнем сроке и требованием (именно требованием, а не просьбой), чтобы мама официально от него отказалась и жила спокойно. Надежды выйти оттуда живым у него не было. Даже посылку, которую мама отправила, невзирая на его запрет, он вернул обратно. Такой уж он был человек. Решал раз и навсегда, как отрезал. И никогда своих решений не пересматривал.
А потом была еще и телеграмма о его смерти. Как оказалось, отправленная им самим. Мама и ей не поверила. Но мне ничего не сказала. Через много лет, когда я уже была взрослой, в своем первом письме ко мне отец написал: «Бедная моя дочурка! Я был тогда в страшной дали, по сравнению с которой Ухта (Ухта – город на севере Коми, в котором Г.Г. Демидов жил и работал с 1954 по 1972 год. – В.Д.) чуть ли не пригород Харькова, в огромной и мрачной стране – тюрьме. Я не надеялся когда-нибудь выйти из этой тюрьмы. Был уверен, что погибну в ней, мне показалось, что я только немного опережаю события, прикидываясь мертвым. (Речь идет об отправленной им телеграмме о своей смерти. – В.Д.) Делал я это для того, чтобы избавить тебя и маму от своего существования, которое я считал для вас вредным. В отношении тебя это мне удалось с помощью твоей мамы. Ее же мне обмануть не удалось…» (Письмо к дочери от 15.10.1956 года.)
Но это потом, а тогда я была слишком мала, чтобы принимать участие в этих переживаниях. Как зверек ощущала мамино состояние, но, конечно же, ничего не понимала. И больше никогда ни одного слова об отце я не слыхала от мамы до самого 1956 года. От мужа она не отказалась, хранила все его документы, включая диссертацию, все это возила с собой в эвакуацию и обратно и молчала. И я не спрашивала.
Став постарше и помня, что отец, кажется, жив, я строила совершенно фантастические планы его розыска. Но ни с кем и никогда этими планами не делилась. Лишь один раз, окончив школу и подавая документы в институт, я спросила у мамы, что написать об отце. Она подумала и сказала: «Пиши – погиб на фронте». И все.
И лишь когда стало известно о «закрытом письме» Хрущева, она заговорила. Рассказала обо всем. О том, как в обеденный перерыв побежал отец в паспортный стол выполнять какую-то формальность (так было предписано в повестке) и больше не вернулся. О том, как пришли за ней ночью и со мной, пятимесячной, увезли в харьковскую холодногорскую тюрьму, втолкнув в битком набитую камеру. И как я своим «упрямым демидовским характером» (мамино выражение) спасла и ее и себя, проорав две недели без перерыва «благим матом» на всю тюрьму. Видимо, мои вопли надоели всей охране, и маму выпустили под расписку «докормить до года», а потом, похоже, «потеряли». Она больше двух лет боялась устроиться на работу, чтобы о ней не вспомнили. (В той неразберихе вполне можно было «потерять» одного человека из миллиона арестованных. Факт остается фактом – о нас с мамой забыли!)
В Харьков из Лебедина переехали родители отца, купив на окраине домишко, и мы все вместе кое-как жили. Почти перед самой войной друзья помогли маме устроиться на работу в институт, с которым она и эвакуировалась в 1941 году.
Родители отца остались в Харькове, так как тяжело болела бабушка. Она вскоре умерла, а деда немцы расстреляли, когда помогал он нескольким бойцам выбраться из города во время окружения Харькова немцами. Он так и лежал посреди улицы вместе с этими солдатами. И немцы запрещали к ним подходить, а потом ночью свезли куда-то сами – даже могилы его нет.
Обо всем этом мама узнала от бывших соседей, вернувшись в 1944 году из эвакуации.
Ничего об отце мне мама не говорила, чтобы, не дай Бог, я, воспитанная «родной советской школой», не подумала о нем плохо. Должно было пройти столько лет, чтобы я оценила тот «тихий героизм», который она проявила. Мне кажется, что ее мужество было ничуть не меньшим, чем мужество и стойкость отца, перенесшего весь ужас колымских лагерей.
Когда начались процессы по реабилитации, маму вызвали в Военную прокуратуру, сообщили, что отец жив, что его дело пересматривается, и дали его адрес. Так мы узнали друг о друге. Мне было 19 лет, когда отец впервые приехал к нам и сразу же стал для меня самым умным, самым интересным, самым главным человеком в жизни.
Эрудирован он был необычайно, очень много знал и умел. Был прекрасным рассказчиком и великим спорщиком. Говорить он мог на любую тему, познания его были очень обширны, юношеская любознательность никогда его не покидала, и вокруг него всегда собирались интересные люди. Обладая умом настоящего ученого, где бы он ни находился, в любых самых тяжелых жизненных ситуациях, он глубоко анализировал окружающее и, рассказывая об увиденном и пережитом, давал точную оценку событиям. Уже тогда он начал устно обкатывать свои рассказы.
К сожалению, почти двадцатилетняя отцовская каторга родителей не сблизила, а отдалила. Папа жил в г. Ухте, мы в Харькове и ежегодно ездили в гости друг к другу – то он к нам, то я к нему.
«Одиночество в какой-то степени удалось мне, да и то с помощью советской власти…» – написал он мне много лет спустя.
Обо всем, что с ним произошло после ареста в феврале 1938 года, я узнала уже от него. Судил его Военный трибунал, получил он восемь лет, статья 58–10, и в сентябре этого года был уже на Колыме. Делал все – добывал руду, мыл золото, стрелял моржей и т. д. В июле 1946 года получил второй добавочный срок – 10 лет. Итого – 18 лет. Почти документально его пребывание на Колыме описал Варлам Тихонович Шаламов в рассказах «Иван Федорович» и «Житие инженера Кипреева». С ним отец провел в Центральной лагерной больнице почти два года. Он на самом деле «изобрел» заново электрическую лампочку, организовал и запустил электроламповое производство – в тех условиях вещь почти немыслимая. И, когда в награду за всё сделанное, вместо обещанного досрочного освобождения он получил коробку с «лендлизовским» американским костюмом, то швырнул ее в президиум торжественного собрания со словами «Я чужие обноски не ношу!» За что и получил те добавочные 10 лет.
В своих воспоминаниях, опубликованных в журнале «Юность» № 12 за 1988 год, В.Т. Шаламов писал, что «одним из самых достойных людей, встреченных им на Колыме, был харьковский физик Г.Г. Демидов…».
В конце 40-х – начале 50-х годов по колымским лагерям разыскивали выживших ученых-физиков и вывозили их в Москву для работы над атомным проектом. Попал под это распоряжение и Г.Г. Демидов. В письме к жене в 1956 году он написал: «…В 1951 г. меня в порядке чрезвычайной спешки отправили в Москву – „аллюр три креста“. Это было одно из самых ужасных путешествий, которое мне пришлось перенести. Оказалось, что я затребован…
4-м спецотделом МВД как физик-экспериментатор. Но Главное Управление упустило, что зачётами и скидками мой срок сокращён на несколько лет и истекает буквально через пару месяцев. Поэтому я оказался непригодным для целей этого почтенного учреждения и меня снова швырнули в лагерь добивать срок и выходить на положение ссыльного. Но отправили меня уже не обратно на Колыму, а на север республики Коми в Инту.
Весной этого года, в порядке почти полной ликвидации института административных ссыльных, мне был выдан паспорт. Права по этому паспорту (ст. 39 – ограничение права на места проживания, прописку, работу и т. д.) близки к правам евреев вне черты оседлости в старое время. Говорят, впрочем, что теперь строгости стали меньше. Вряд ли я, однако, смогу одолеть свое самолюбие и просить, чтобы мне разрешили временно прописаться. Если меня не реабилитируют, я, вероятно, никогда из этих или подобных мест не выеду. Политический горизонт сейчас очень мрачен. Барометр полицейских мероприятий может резко упасть, и мои шансы на благополучный исход разбирательства могут сильно уменьшиться…»
В те годы надежды на благополучную и быструю реабилитацию у отца почти не было. Он даже пытался шутить по этому поводу: «…У нас в ходу мрачная шутка – „юмор висельников“ – реабилитации бывают двух родов – посмертная и предсмертная». И, к сожалению, оказался провидцем. В марте 1957 года он отправил маме очень тоскливое письмо: «…сегодня я получил извещение Главной военной прокуратуры, что оснований для моей реабилитации нет. Проклятый политический флюгер сработал…»
Отец был реабилитирован только в марте 1958 года, после повторного обращения в Главную военную прокуратуру.
Из справки Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР от 20 марта 1958 года № 003 – 28/38: «Дело по обвинению Демидова Георгия Георгиевича, до ареста – 28 февраля 1938 года – доцента Харьковского электротехнического института, пересмотрено Военной коллегией Верховного Суда СССР 4 марта 1958 года.
Приговор военного трибунала Харьковского военного округа от 28 сентября 1938 года, определение Военной коллегии от 23 октября 1938 года, приговор военного трибунала войск МВД при Дальстрое от 26 июля 1946 года и определение округа от 23 октября 1946 года в отношении Демидова Г.Г. отменены и дело прекращено».
Вот так просто, без всяких лишних эмоций, без реверансов и извинений за двадцать самых лучших, полноценных и продуктивных лет человеческой жизни, отнятых у отца. Да и не только у него. Уже в 1966 году он мне написал: «…Главное, о чем я сожалею, это что не успел своевременно сделать то, что осталось на куцый и неполноценный остаток жизни. Когда при мне начинают ахать по поводу того, что совершил тот или иной большой человек за свою жизнь, я невольно сопоставляю это с тем, что попусту совершил я. И попусту не по своей вине. Но все это теперь – просто досужие размышления».
Папа был очень сильным и гордым человеком. Талантлив был удивительно. Свой первый патент на изобретение получил в 1929 году в возрасте 21 года. Разнообразие его интересов всегда поражало. С третьего курса физико-химического факультета Харьковского университета его забрал академик Ландау к себе в лабораторию. Когда его однокурсники защищали дипломные работы, он защитил кандидатскую диссертацию. По мнению специалистов, отец подавал очень большие надежды как ученый-физик. Арест и восемнадцатилетняя каторга на всем этом поставили крест. Но даже за колючей проволокой он не мог обойтись без научного творчества – изобретал, создавал, организовывал. А в благодарность получил дополнительный срок.
Когда я впервые приехала в Ухту, на центральной площади среди портретов стенда «Лучшие люди города» висел и портрет Г.Г. Демидова с подписью «Лучший изобретатель Коми АССР». О нем много писали газеты. Но и он в это время уже начал пробовать писать.
Когда-то отец сказал мне, что еще на Колыме поклялся выжить во что бы то ни стало, чтобы описать этот ад. Свое слово он сдержал и взялся за перо.
Писалось трудно – ночами, по воскресеньям, за счет всех видов отдыха. О себе говорил: «Грустно быть „вечерним“ и „воскресным“ писателем…» Когда отец понял, что писательство стало главным делом жизни, он попытался все свои внутренние творческие силы переключить только на эту работу. Нам с мамой написал: «…Мне мое творчество обходится очень дорого. Я неизбежно дохожу до болезни, хотя далеко еще не развалина. Начинаю плохо спать, теряю аппетит. Все спрашивают: „Что-нибудь случилось?“ Я мог бы ответить: „Да, случилось. Совсем недавно. Нет еще и тридцати лет. И случилось не только со мной“. В своей основной профессии я работаю с большим трудом. Впервые в жизни понял, что такое труд без вдохновения. Стараюсь перейти на рабочую должность. По крайней мере, не будет мучить совесть, что я не могу уже быть тем, кем был – инженером, ученым, способным сделать то, чего не могут многие другие. Теперь мне хвастать можно. Я говорю о покойном инженере… Покойном инженере и еще не родившемся писателе? Ведь неизданный писатель это что-то вроде внутриутробного существа, эмбриона. Утешает только возможность рождения и после смерти. Поэтому я не думаю, чтобы тебя нужно было просить беречь все, что попадает тебе от меня в моих рукописях. Случиться-то может всякое…»
И ещё на эту тему: «…О том, что я занимаюсь писательством, ты знаешь давно. Знаешь и то, что теперь у меня есть уже обработанные вещи, которые распространяются подпольным способом, как во времена Грибоедова. Шансов на их напечатание почти нет, и ничего в этом направлении я и не предпринимаю. Пусть это останется наследством, с которым поступят, как с макулатурой или с „документом эпохи“. Я пишу потому, что не могу не писать. Это отнимает у меня все время и силы. Я предпринял большие усилия, чтобы проделать карьеру по нисходящей. Я больше уже не начальник цеха, не главный специалист республики, не начальник конструкторского бюро, а просто конструктор. Но я и от этого охотно бы избавился и стал бы сторожем или обходчиком на какой-нибудь линии. Важно остаться при одной умственной нагрузке. Двойной мне не потянуть. Кроме того, я, как старый конь, могу и увлечься интересной конструкторской или исследовательской темой. А мне теперь это ни к чему. Внешне у меня все как и было. Чувствую, впрочем, что начал стареть. Поэтому и спешу. До пенсии еще далеко, да и возможно, что советская власть лет на пять передвинет возрастной ценз. Надо же ей предоставлять пенсии товарищам бывшим „операм“, тюремным надзирателям, трибунальщикам и прочим заслуженным заплечных дел мастерам в тридцать пять – сорок лет. Чтобы не „серчали“. У нас таких много. Ждут они, не дождутся своего часа. Я на них иду с пером и с этой вот машинкой, а надо бы с топором!..» (Из письма к жене 1961 года.)
А вот отрывок из письма к В.Т. Шаламову, написанного 30 июня 1965 года: «…Один из здешних руководителей общества писателей Коми сказал, что я страдаю „чесоткой“, которую, видите ли, надо прятать от людей. Он имел в виду, конечно, „писательский зуд“ – понятие тоже не из высоких. Сам он – бездарный чиновник от литературы, один из экземпляров многотиражного издания современных булгариных.
Мне трудно судить насколько имеет смысл моя писательская работа. Вероятно, только тот, на основе которого мышь обязательно грызет что-нибудь, чтобы только сточить зубы. Надежды быть напечатанным у меня, конечно, нет никакой. Впрочем, нет и особой тяги к этому. И все же „гонорары“ за писательскую деятельность я получаю неофициально в виде теплых писем от иногда совсем незнакомых людей и, конечно, в виде дружеских похвал. Мои официальные гонорары – это доносы, окрики, угрозы, прямые и замаскированные…»
Его пробовали уговорить изменить тематику, предлагали членство в Союзе писателей, большие тиражи. Специально приезжал в Ухту полковник КГБ из Москвы, целую неделю читал, душевно разговаривал и уговаривал писать на другую тему. Отец категорически отказался, а мне написал: «…Слишком тупое у меня политическое обоняние, чтобы держать нос по ветру. И плохо клюю на приманку в виде дешевой славы и гонораров писателя типа „чего изволите?“».
И вот тогда началось… Его портрет был снят с центральной площади, упоминать о его заслугах категорически не рекомендовалось. За всеми, кто бывал у него, была установлена слежка.
Выйдя на пенсию, отец поселился в Калуге. По пятнадцать-шестнадцать часов в сутки сидел за пишущей машинкой. Его произведения ходили в «самиздатовских» списках, несколько раз ему предлагали переправить их за границу, но он был против, считая, что эти произведения важнее для нашего читателя.
Понимая, что находится под пристальным вниманием КГБ, отец пять экземпляров своих сочинений (машинописных и переплетенных) отдал друзьям в другие города на сохранение. Один такой комплект – пять больших томов с дарственной надписью – был у меня. В августе 1980 года одновременно по всем этим адресам в нескольких городах были произведены обыски, и все отцовские рукописи арестованы. Забрали все до последней строчки, не осталось ни одного черновика. После такого удара он уже не оправился, и в феврале 1987 года папы не стало.
Летом 1987 года я обратилась к секретарю ЦК Александру Николаевичу Яковлеву с просьбой помочь вернуть арестованный архив. В июле 1988 года рукописи отца были мне возвращены.
Всего лишь через три года после его смерти официальный рецензент издательства «Советский писатель» Вл. Коробов напишет: «…Георгий Демидов – имя совершенно неизвестное в литературе, но это отнюдь не просто бывший интеллигентный узник, оставивший свои мемуары о сталинских лагерях (их уже немало опубликовано и на выходе в свет еще десятки). Это именно писатель, прозаик с божьим даром. Когда бы литературная судьба была бы к нему более милостива, мы бы имели сейчас художника выдающегося…»
Предлагаемые произведения – лишь небольшая часть отцовского наследия.
Валентина Демидова
ЧУДНАЯ ПЛАНЕТА
Будь проклята ты, Колыма,
Что прозвана Чудной планетой!
Сойдёшь тут в неволе с ума,
Возврата отсюда уж нету.
Арестантская песня
Вместо предисловия
«Колымо-Индигирский район особого назначения». Это название читатель не раз встретит в сборнике рассказов и повестей о Колыме Лагерной. В просторечии этот район назывался просто «Колымой», что не совсем правильно. Бассейн реки Колымы являлся, хотя и главной, но всё же только частью обширного края, территорию которого занимает теперь Магаданская область. До середины 50-х годов здесь безраздельно и почти бесконтрольно властвовал «трест строительства Дальнего севера», сокращенно «Дальстрой». Организованный ещё в первой пятилетке, этот «трест» был самой крупной из многочисленных хозяйственных организаций НКВД-МВД, основанных на эксплуатации рабского труда миллионов тогдашних заключенных. Сочетание двух видов казавшихся неисчерпаемыми богатств – золота и неоплачиваемого невольнического труда – вскоре сделало Дальстрой главным поставщиком золота в стране, и он заслуженно получил название ее «валютного цеха». К золоту присоединились затем олово, вольфрам и другие металлы. Распространилась деятельность Даль-строя и на Чукотский полуостров.
С начала 30-х и почти до середины 50-х годов сюда тянулись по Японскому и Охотскому морям – другого пути на Колыму практически не было – «невольничьи корабли» – дальстроевские пароходы, трюмы которых были до отказа набиты будущей подневольной «рабсилой». Большинство из них никогда уже не увидели дома.
Для организации гигантской, даже по масштабам сталинских времён, каторги лучшего места, чем северо-восточный угол Азиатского материка, невозможно было и придумать.
Почти необитаемые до начала бурной деятельности Даль-строя, горы и межгорья угрюмых хребтов с такими же угрюмыми названиями – Гыдан, Тас-Кыстабыт, Уляхан-Кыстай и других были отрезаны от всего мира морями Тихого и Северного Ледовитого океанов и такими же пустынными горами. Истребительская функция сталинской каторги обеспечивалась уже одним только климатом; именно здесь находился мировой полюс холода, рекорд которого был побит только космическими холодами необитаемой пока Антарктиды. Морозов Колымы не выносят даже сибирские породы: ели, сосны, кедры. Их заменяют тут другие растения, умудрившиеся приспособиться и к этим холодам. Особенности рельефа и растительности придают здешнему краю особенный колорит, иногда далеко не такой мрачный, как вид одного из отрогов Тас-Кыстабыта.
Уродливо своеобразным был на Колыме и колорит общественной жизни. До ликвидации «Особого района» всё тут подчинялось его главной функции – края жестокой каторги и вечной ссылки. Дальстрой был как бы государством в государстве, границы которого, помимо естественных преград, охраняли пограничные войска. Въезд сюда, если он не происходил на «невольничьем корабле», разрешался только по особым пропускам, а вольнонаемные, заключившие с Дальстроем трудовой договор, практически отсюда уже не выпускались, Местную «советскую власть» здесь заменяли коменданты НКВД. Не было торговли в обычном понимании этого слова. Почти всё здесь было номерными «почтовыми ящиками», но почтовых ящиков как таковых не было совсем. Уродства эпохи «культа», существовавшие тогда повсеместно, разбухли здесь до гипертрофических размеров. На фоне фактического крепостничества, абсолютного бесправия одних и произвола других в Дальстрое расцвел омерзительный сталинский феодализм местных царьков и подцарьков.
Вот эта-то искаженная почти во всех своих проявлениях жизнь людей на Колыме, ее «лагерного» периода, и составляет главную тему сборника «Чудная планета».








