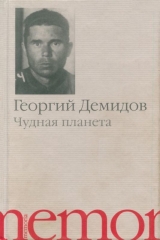
Текст книги "Чудная планета (Рассказы)"
Автор книги: Георгий Демидов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Люди гибнут за металл
Посвящается Н. М.
Годы войны на почти всей территории Советского Союза, в том числе и на его крайнем Севере, совпали с годами температурного минимума на этой части земного шара едва ли не за целое столетие. Для колымских заключенных это явление стало тяжелейшим дополнительным бедствием, унесшим множество жизней. Особенно пострадали те, чьи лагеря, подобно нашему, затерялись между прибрежных сопок реки Яны, бассейн которой уступил мировое первенство по холоду соседнему Оймякону лишь в результате скрупулезных метеорологических изысканий, да и то на какую-то пару десятых градуса. Но здесь оказался запрятанным один из богатейших кладов желтого металла, «стратегического материала номер один», который мы добывали тогда для нужд войны.
В ту предпоследнюю военную зиму морозы в этой части «района особого назначения» месяцами удерживались на уровне шестидесяти градусов. Для малочисленных тогда приисковых механизмов особо морозные дни актировали, так как нагруженные части горных машин, работающих на таком холоде, становились почти стеклянно хрупкими и часто ломались, а при острой нехватке запасных частей рисковать ими было нельзя. Другое дело заключенные работяги. На место списанных в «архив-три» в очередную навигацию пришлют новых. Колымское начальство было уверено, что здешнее «святое место» пусто быть не может. И поэтому – никаких скидок заключенным на морозы, пургу, нехватку питания, рваное обмундирование! Если миллионы полноправных и полноценных граждан страны гибнут ради победы над врагом, то почему для достижения той же цели надо дорожить жизнями каких-то преступников? В этом рассуждении дальстроевских генералов резон, несомненно, был. И их солдаты, колымские каторжники, загибались тысячами, особенно зимой, от голода и холода, бесчисленных травм и конвоирских пуль.
«Полюс холода» отнюдь не совпадает с географическим полюсом. Он расположен южнее даже северного Полярного круга. Поэтому здесь нет полярных ночей в школьном понимании этого слова. Солнце, согласно календарю, всходит над Яной и Оймяконом ежедневно, даже в декабре и январе. Другое дело, что мы, заключенные довольно большого приискового лагеря, жившие и работавшие в узком распадке между высокими сопками, могли об этом только догадываться. Непроницаемая темь двадцатичасовой ночи сменялась тут на короткое время почти такой же непроницаемой морозной мглой. Круглосуточный туман, выжимаемый на воздухе жестоким морозом, был так плотен, что когда колонна подневольных работяг, возвратившись вечером с прииска в лагерь, останавливалась перед воротами, сильный прожектор с крыши вахты мог выхватить из тумана только ее головную часть. Остальная тонула в темноте, и об ее длине можно было судить только по доносившемуся оттуда надрывному кашлю, постаныванию, кряхтению, постукиванию деревянных дощечек, заменявших в наших каторжанских «бурках» подметки. Ждать перед закрытыми воротами приходилось долго, нередко добрых полчаса. Ленивые «вахтмены» у печки в дежурке, из трубы которой вырывались искры и пламя, не торопились их открывать. Тем более что шуровать эту печку и «травить баланду» им помогали теперь наши конвоиры. Эти сытые парни, одетые в длиннополые бараньи тулупы, обутые в крепкие валенки, в меховых шапках с вязаными «подшлемниками» сразу же ныряли в блаженное тепло вахты, как только приводили нас на утоптанный плац перед ней. О своих подконвойных охранники могли не беспокоиться. Куда они здесь денутся, да еще в этакий мороз?
И нам оставалось только с тоскливой завистью поглядывать на дверь вахты, ожидая, когда же, наконец, вахтмены и наш конвой соблаговолят выйти оттуда и устроить сдачу-прием доставленного этапа? Есть же счастливцы, которые могут сидеть и стоять у раскаленной печки, испытывая на себе острое блаженство исходящего от нее тепла! Люди, постоянно страдающие от жестокого холода, мечтают, собственно, даже не о тепле, а о некоем жгучем зное, близком по силе к непосредственному действию огня. И хотя это действие вызывает у всех нормальных живых существ инстинктивный ужас, в колымских лагерях была широко распространена поговорка – «лучше сгореть, чем замерзнуть».
В тот день, как, впрочем, во все предыдущие и последующие дни, мы замерзали уже около двух третей суток кряду и столько же времени ничего не ели. Первый из двух ежедневных приемов пищи происходил у нас перед выходом на работу, в пять часов утра, теперь же было около восьми вечера. Чтобы попасть в относительное тепло лагерной столовой, получить там вечернюю пайку и вторую миску баланды, надо было перебежать только неширокую площадку за воротами. Но они оставались закрытыми. Сегодня на вахте дежурил отъевшийся на почти бездельной службе ефрейтор, бывший сверхсрочник. Этот особенно любил потешить себя властью над бесправными людьми. Обычно он выдерживал заключенных на морозе до тех пор, пока в их рядах не начинались выкрики, что стоять-де уже невтерпеж. Этого жирному коту только и нужно было. Теперь он мог мурыжить людей уже за нарушение ими дисциплины – никакие выкрики в строю не разрешаются. Вот и сейчас, когда кто-то прохрипел из скрытых в темноте рядов: «Сколько можно ждать, гражданин дежурный?» – гражданин дежурный выглянул с вахты и сказал, что сам он может ждать хоть до двенадцати ночи, когда ему надо будет сменяться. Что же касается нас, то мы будем ждать столько времени, сколько он найдет нужным. Не к теще в гости приехали! А если кому скучно, пусть слушает музыку, благо она вон как хорошо слышна на морозе…
Из зоны, со стороны барачка КВЧ, возле которого на специально врытом столбе был установлен громкоговоритель, действительно, отчетливо доносилась музыка. Магаданская радиостанция передавала в грамзаписи ежевечерний концерт. Включение радиорепродуктора на столбе составляло одну из несложных обязанностей дневального нашей культурно-воспитательной части. По прошлой профессии это был художник-мазилка, схвативший небольшой срок за продажу неприличных картинок. Теперь незадачливый торговец растлевающим товаром должен был, по идее, прямо и косвенно содействовать нравственному исправлению людей, соскользнувших на стезю преступности. Он топил в бараке КВЧ печку, мыл полы, смахивал пыль с висящих на стене почти безо всякого употребления музыкальных инструментов и изредка рисовал плакаты, восхваляющие доблестный труд заключенных-стахановцев и клеймящие позором нерадивость и лень. Ее начальник, бывший «затейник» какого-то санатория на Материке, быстро смекнул, что он нужен здесь только для заполнения соответствующей графы штатного расписания ОЛПа. В таких лагерях как этот ОЛП, обычно даже не пытались организовать из заключенных самодеятельные кружки. Истина, что на голодный желудок не запоешь, принадлежит к числу самых старых и общепонятных.
Сегодня подборка грамзаписей для концерта была сделана из популярных оперных арий, и притом весьма неплохо. Бывший протодьякон Михайлов пропел свой коронный номер, арию Сусанина «Ты взойди, моя заря»; прозвучало сопрано Обуховой, спевшей арию Марфы из «Хованщины». Затем мягкий, торжественно-слащавый баритон запел «эпиталаму» из «Нерона». Пел он хорошо, и хвала богу супружеской любви и семейного очага красиво звучала на лютом холоде, отражаясь от невидимого сейчас склона угрюмой сопки, почти вплотную подступившей к лагерному ограждению.
Нечего и говорить, что обычно почти никто из голодных и до костей промерзших людей, стоявших перед воротами, этой музыки не слушал. Да и мало здесь было таких, которые при всей ее популярности были к такой музыке приучены. Массовое зимнее вымирание зэков в нашем лагере шло уже полным ходом, а начиналось оно всегда с самых интеллигентных и образованных заключенных. И тем не менее, нашелся один, который, видимо, слушал очень внимательно. Вообще, слушавший эпиталаму молодой арестант производил впечатление куда более подтянутого и аккуратного человека, чем большинство его товарищей. Кроме самодельного воротничка его лицо защищало еще плотно обмотанное вокруг рта и носа «кашне» – оторванная от старого лагерного одеяла полоса байки. На самых красивых нотах хвалы Гименею парень в кашне непроизвольно водил в воздухе руками в рукавицах и слегка поворачивался всем корпусом. Странное впечатление производил этот с ног до головы заледеневший любитель музыки на своих соседей по ряду.
– И охота тебе, Локшин, слушать эту тягомотину! – сказал ему один из них, тоже молодой заключенный, покрепче остальных. – И чего это вам, музыкантам, нравится то, чего другим и слушать-то неохота? – Локшин сделал умоляющий жест: не мешай…
На последних нотах эпиталамы пожилой заключенный, стоявший крайним в одном из рядов со странной на таком морозе неподвижностью, покачнулся, сделал слабую попытку ухватиться за плечо впереди стоящего и свалился на утоптанный снег. Упавшего пытались поставить на ноги, но он только елозил по снегу своими деревянными подметками, невнятно мыча, и тяжело свисал с рук поддерживавших его людей.
– Переохлаждение! – уверенно поставил диагноз кто-то из окружающих, – уже третий сегодня…
Теряющего сознание человека положили на снег. Он продолжал негромко мычать, стараясь, видимо, произнести какое-то слово, слабо сучил ногами и руками в драных рукавицах – не то скреб, не то поглаживал плотный снег. Глаза старика были полуоткрыты, и в них светился тоскливый страх. Тот, который только что определил переохлаждение, сделал и прогноз:
– Хана пахану… Освободился, видать, досрочно…
Категоричность приговора имела под собой достаточные основания. Из пораженных «низкотемпературным шоком» выживали только очень немногие, хотя большинство из них агонизировало по нескольку дней.
То, что один из ожидавших впуска в зону свалился с переохлаждением, давало нам право напомнить вохровцам на вахте, что мы ожидаем благоволения. Кто-то постучал в ее дверь:
– У нас тут один дуба режет!
На крыльце показался ефрейтор в расстегнутой телогрейке и заломленной на затылок кроличьей шапке – вот как надо противостоять здешнему морозу! Вразвалку, с засунутыми в карманы руками он подошел к лежавшему на снегу старику и зачем-то потрогал его ногой. Затем сделал знак своему помощнику открывать ворота и, подумав, приказал:
– Волоки его в санчасть! – Нетяжелую ношу с трудом подняли четыре человека и на подкашивающихся ногах потащили к воротам. Вместе с заболевшим они составили ту пятерку, которая вне очереди будет пропущена в вожделенную зону.
– Первая! – отметил дежурный и тут же скомандовал: – Вторая… – «тянуть резину» с приемкой заключенных и дальше он уже не собирался, так как явно переоценил свои возможности наплевательски относиться к сегодняшнему морозу. Уже в первой шеренге какой-то из зеков поскользнулся на своих деревяшках и упал перед самыми воротами. Остальные четверо прошли в зону, а он все никак не мог подняться на негнущихся ногах, скользил и падал. Пятерка очередного ряда – шары у них повылезали, что ли? – обошла барахтавшегося на снегу человека и заслонила его от приемщика. Пришлось кулаками проделать в ней брешь, а отставшему пинком в зад помочь пересечь линию ворот.
– Шестая… Седьмая… – Дальше, как обычно, дело со счетом пятерок пошло еще хуже. В одной из них двое под руки вели третьего. Он еще не потерял сознания, как тот, которого отнесли в санчасть, но был, видимо, близок к подобному состоянию. Немногим крепче его были и те, кто попытался помочь ему добраться до ворот, троица доходяг «потеряла разгон» и замешкалась как раз тогда, когда мороз, как волк зубами, впился в правое ухо дежурного. Левой рукой он слегка двинул по загривку ближайшего к нему доходягу. Упали, однако, все трое. И даже не пытаясь подняться на ноги, на локтях и коленях ползли в зону.
– Эх, мать вашу… – досадливо поморщился ефрейтор, хватаясь руками уже за оба уха. Из репродуктора в это время насмешливый бас Мефистофеля пел свою знаменитую арию про золотого тельца. «Люди гибнут за металл!» – провозгласил он торжествующе, когда обессиленные дистрофики свалились на землю, напоминая собой неустойчиво поставленные кегли. «Гибнут, гибнут, гибнут, гибнут…» – подхватил этот возглас хор, которому визгливо вторили скрипки и флейты.
«Сатана там правит бал!» – и снова хохотал дьявольский хор: «Правит, правит, правит, правит…»
– Никак это про нашу Колыму? – изумился тот, который назвал тягомотиной рубинштейновскую эпиталаму. – А ты, Локшин, мог бы эту песню спеть, а? – Локшин нетерпеливо отмахнулся, он опять слушал.
– Чего спрашиваешь? – сказал кто-то из того же ряда. – Не слышишь что ли, что это не для его голоса…
– Разговоры! – крикнул дежурный.
Для человека, незнакомого с обычаями и нравами мест заключения, фраза «Люди-Гибнут-за-Металл» в качестве прозвища покажется, наверно, весьма странной. Но в лагерях, особенно среди уголовников, встречаются клички и почуднее. В лагере, где он умер, для места, в котором смерть является правилом, а выживание – исключением, этого заключенного помнили необычно долго. Такой чести Люди-гибнут был обязан своему голосу, редкостному по силе и красоте, которым он владел с высоким профессиональным мастерством. Что касается его посмертного прозвища, то оно не могло быть связано просто с тем, что певец умер на Колыме. В те годы почти все, кто складывал в этом краю свои кости, так или иначе «гибли за металл». Нужны были еще какие-то дополнительные, пусть и незначительные сами по себе, обстоятельства. Читатель уже догадывается, конечно, что обыденный эпизод лагерного быта, взятый к этому небольшому рассказу в качестве как бы пролога, и явился одним из таковых обстоятельств.
Валерий Локшин, бывший студент консерватории, был мобилизован на фронт с выпускного курса в суматохе первых дней войны. И вместе с целым корпусом таких же необстрелков почти сразу же угодил в один из коварных немецких «котлов». Из плена его освободили наступающие части Советской армии весной 1944 года. Тогда же он был отдан под суд как изменник и предатель Родины и одним из последних пароходов навигации доставлен на Колыму.
Корпус Локшина маленькими группами и поодиночке почти полностью сдался в плен еще до издания знаменитого сталинского указа, приравнивавшего такую сдачу к воинской измене. Возможно, что бывший военнопленный и проскочил бы сквозь плотный фильтр комиссий Особого отдела, таких военнопленных проверявшего. Но тут выяснились некоторые особенности поведения Локшина в плену, отодвинувшие на второй план такие формальные обстоятельства, как вопрос о точной дате его пленения. Несложное дознание показало, что это было поведение беспринципного приспособленца, для которого собственная шкура дороже национального и воинского достоинства. Без пяти минут выпускник высшей музыкальной школы использовал свой талант и образование для развлечения немецкой охраны лагеря военнопленных. В лагерной кордегардии и доме коменданта он давал целые концерты русской музыки, получая за это хлеб, сало и даже шнапс. Недаром Локшин оказался в числе тех немногих русских, которые не только выжили в немецком плену, но имели куда менее истощенный вид, чем их товарищи.
Говорили, что Локшин был учеником знаменитого профессора пения, сулившего ему будущность «советского Карузо», и что для этого профессора его откопал среди участников колхозной самодеятельности в каком-то селе один из энтузиастов поиска самородных талантов. И то и другое очень походило на правду. Голос Локшина и его умение владеть им говорили сами за себя. Крестьянское же происхождение несостоявшегося Карузо подтверждалось его приспособленностью к физическому труду, примитивным условиям жизни и той простотой взгляда на вещи, которая почти не встречается у интеллигентов, особенно потомственных. Отсюда же, несомненно, и готовность, с которой Локшин пользовался своим голосом для увеличения шансов выжить. Так было в немецком концлагере, так повторилось и в отечественном.
Многие люди, особенно из числа тех, перед которыми жизнь никогда не ставила подобных вопросов, склонны судить об этом с высоты чистого принципа. Конечно же, пленный советский солдат не имел морального права ублажать врагов своей родины исполнением перед ними «Меж крутых бережков» и «Вдоль по улице метелица метет», даже если дело шло о спасении его жизни. Быть столь принципиальным в условиях сытости и комфорта нормальной жизни, конечно, не трудно.
Но даже осудивший Локшина свирепый фронтовой трибунал вряд ли усмотрел бы состав преступления в том, что он повторял эти песни перед товарищами по заключению в Колымском лагере. Таким способом он тоже «сшибал» тут «куски», то есть, попросту говоря, выпрашивал пением подаяния. Устав лагерей обычного режима не то чтобы разрешал такие пения, но он их и не запрещал, особенно в промежутке между вечерней поверкой и отбоем. Тем более что на того, кто пел, нельзя было цыкнуть, что тут для этого не место, и отослать в КВЧ. Она у нас, как уже говорилось, бездействовала.
Недаром бывший студент консерватории пел и с эстрады сельского клуба, и в оперной студии. Репертуар у него был широчайший – от колхозных частушек до труднейших арий из классических опер. Пользовался этим репертуаром он весьма умело, точно учитывая уровень музыкального развития слушателей, их вкусы и настроение. В общих бараках, в которых Локшин выступал поначалу, такими слушателями являлись люди, душевному состоянию которых всего ближе была тема разлуки с любимой женщиной, семьей и родными местами. Все эти песни входили в репертуар певца, почти ежевечерне обходившего бараки работяг после ужина, хотя в течение всего дня он наравне с ними работал на приисковом полигоне.
У Локшина был сильный лирический тенор с теми особенностями звучания, которые всегда поражали людей своим таинственным действием на сознание. И не морской прибой, как в мифе об Орфее, а барачный галдеж неизменно стихал, как только от порога доносился его голос. Смолкали даже спорившие из-за места у печки или очереди получать вечернюю пайку с горбушкой. Неказистый с виду парень, казавшийся чуть приземистым в своем ватном одеянии, незаметно входил в барак, делал два-три шага вперед, разматывал одеяльный шарф, которым было тщательно укутано его горло, и сразу же, безо всяких усилий брал нужную ноту. В больших бараках ни в какие разговоры со слушателями по поводу того, что им спеть, он не вступал и песню исполнял только одну, повторяясь не чаще, чем один раз в несколько дней. Выслушивали эту песню всегда с тем вниманием, с которым слушают только то, что проникает в самое сердце. И всегда находился кто-нибудь, кто на грустных словах о женственной рябине, обреченной весь свой век качаться в разлуке с могучим, но таким же одиноким дубом, украдкой смахивал заскорузлой рукой слезы с обветренных щек. А потом такие же руки тянулись к певцу с остатками паек, нередко сэкономленных специально для него: «Спасибо… Возьми вот…» Локшин принимал их с равнодушно вежливым видом, как будто это были не куски хлеба, а букеты цветов от поклонников его таланта. И складывал эти куски в огромный карман из мешковины, собственноручно нашитый им на бушлат. К своему романтическому дару он относился с прозаическим реализмом крестьянина.
Но относительно обильным подаяние было только в первые недели его появления здесь. Вскоре наступила зима, с ее не только холодом, но и голодом. Зимой хлеба требуется намного больше, а заработать его заключенным становится намного труднее. Даже самые сильные и выносливые из подневольных работяг «садились» едва ли не на штрафной паек. Подавать певцу стало почти нечего. Он тоже начал голодать, а это, как известно, весьма вредно отражается на голосовых связках. Еще хуже действовал на них морозный воздух. Голос Локшина стал сипнуть, а на многих нотах он нередко «пускал петуха». Теперь, когда, кивнув на прощание своим слушателям, старавшимся на него не смотреть, он уходил от них с достойным видом, но пустым карманом, это была всего лишь хорошая мина при совсем плохой игре.
Надо было что-то предпринимать. Но недаром в обвинительном заключении по делу Локшина было записано, что он – изворотливый приспособленец, позорящий честь воина, советского человека и представителя артистического мира. Уразумев за месяц своего пребывания в лагере, от кого в громадной степени зависит тут жизнь рядового заключенного, он переключился на обслуживание своим пением сильных лагерного мира. Теперь его голос всё чаще слышался то из «сучьего закута» – так называлось здесь помещение для главных лагерных придурков, то из санчасти, где он пел перед лекпомом, то из лагерной кухни. Но всего чаще Локшин пел в закуте. Это было отделение, в котором жили староста, нарядчик, старший повар и старший хлеборез. Здесь было просторно, светло, тепло и чисто. А главное, старания певца никогда не оставались неоплаченными. В хлеборезке ему почти каждый день выдавали мешочек хлебных крошек, накапливающихся при разрезке буханок на мелкие пайки, в столовой он подкармливался остатками баланды и каши. Локшин быстро и заметно поправился, а его голос приобрел почти прежнюю силу и чистоту.
Переориентация на старшую лагобслугу имела для него еще одно благоприятное последствие. Теперь певец довольно часто оставался в зоне, отставленный от развода то нарядчиком, то старостой, то лекпомом, которому освободить заключенного от работы было легче всего. Повысилась-де температура, или возникло «подозрение на дизентерию». Но больше всех благоволил к Локшину здешний нарядчик, большой любитель музыки, правда, самого невысокого разряда. Он бы охотно, несмотря на изменническую статью и первую категорию трудоспособности, перевел его на работу полегче, чтобы сделать чем-то вроде постоянного придворного певца «закута». Этому мешало, однако, враждебное отношение к Локшину здешнего начальника лагеря, занудливого и злобного бурбона, каких нечасто можно встретить даже среди колымских лагерных прохиндеев. Поэтому нарядчик свой властью только изредка мог оставить певца в зоне, и то когда начлага в лагере не было.
Общеизвестно, что кто платит за музыку, тот выбирает и песню. Поэтому у придурков Локшин пел «У самовара» и «Гоп со смыком», «Валенки» «под Русланову» и очень часто еще песню про какого-то Хасана. Она исполнялась с искажением русских слов на кавказский манер и, насколько можно было понять из этих слов, была про жадного мироеда из горного аула. Этот мироед обирал и эксплуатировал своих односельчан, пока те его не раскулачили и не отправили на дальний север «пилить дрова». Вряд ли нарядчик, который обычно заказывал эту песню, любил ее за идеологическую направленность. Но он долго жил на Кавказе и, пока не загремел сюда, в довольно большом масштабе спекулировал фруктами. Лагерное прозвище нарядчика было поэтому «Почем-кишмиш». Песня с кавказским акцентом напоминала Почем-кишмишу не родной, но милый его сердцу край.
Совсем другим был репертуар Локшина, когда он пел в санчасти лагеря. «Лекарским помощником» – архаическое словосочетание, заменившее в первые годы советской власти чем-то неугодное слово «фельдшер», – в нашем лагере работал старый, опытный врач из Ленинграда, арестованный еще при Ежове. Доктор был культурным человеком, очень любившим оперную музыку. Поэтому чаще всего из санчасти слышались такие вещи, как песня индийского гостя из «Садко», песенка герцога из «Риголетто», ария Надира из «Искателей жемчуга».
Почти всякий сколько-нибудь заметный человек в лагере получает обычно прозвище. Пробовали изобрести такое прозвище и для Локшина, но при его жизни это так и не удалось, во всяком случае, если говорить о прозвище общепринятом. Быть может потому, что если не считать его удивительного голоса, Локшин как личность был, если хотите, сер. Притом отсутствием не положительных качеств, а именно отрицательных. Во всем, что не касалось искусства петь, это был рядовой, здравомыслящий, работящий и в то же время «себе на уме», штымп.
Отсутствие установившейся клички никак, конечно, не отражалось на существовании заключенного, в котором артистический талант спасительным образом сочетался с практической жизнестойкостью. Существование же это, если учесть, что Локшин продолжал оставаться на «общих», с которых к весне в нашем лагере списывали в «архив» едва ли не половину работяг, было относительно сносным. Неизменное покровительство обитателей «закута» и лагерного доктора обеспечивало ему достаточное число шансов пережить свою первую колымскую зиму. Однако само понятие «шанса» заключает в себе не уверенность в исходе события, а всего лишь некоторую его вероятность.
К заключенному Локшину, как уже было сказано, питал неприязнь начальник нашего лагеря. Эта неприязнь вначале не была особенно конкретной, и начальник и сам вряд ли бы смог ее толком объяснить. Но именно беспричинная нелюбовь к человеку имеет склонность к такому же беспричинному возрастанию. Особенно у таких людей, каким был наш начала. Начать с того, что ему не нравилось это шатание заключенного по баракам с откровенной целью подрабатывать пением себе на пропитание. Только шарманки ему недостает! Впрочем, нормы на производстве певец выполнял, и придраться было не к чему.
Но это пока. Судя по делу Локшина, он был потенциальный темнила. Только похитрее тех, кто отлынивает от работы, забиваясь под нары и обливая себе ноги кипятком. Будущее подтвердило подозрение начальника. Бывший немецкий подлипала вскоре и здесь стал «вась-вась» со всей лагобслугой и подозрительно часто спал в рабочее время, если только не распевал перед этой самой обслугой. Это был подозрительный альянс, поймать участников которого с поличным постепенно стало целью начальника лагеря. До поры это не удавалось, так как и Локшин, и его покровители были достаточно хитры. Особенно, как думал начлаг, сам этот «шарманщик». Однако ничего. Один неверный шаг – и он ответит за свое пение, столько месяцев раздражающее начальника, за дни подозрительного освобождения от работы по болезни и за то, что имеет почти законченное высшее образование, пусть даже какое-то певческое. Это-то и было главной причиной злобы старого тюремщика к исполнителю всяких там арий, хотя даже самому себе он вряд ли бы в этом признался. Начлаг сильно не любил образованных, к которым причислял всех, кто заканчивал хотя бы среднюю школу. Именно из-за их конкуренции, он, имеющий всего четыре класса образования, в сорок с лишним лет остался младшим лейтенантом и всего начальником угрюмого ОЛПа где-то на краю света. Так, по крайней мере, он думал. Но если посчитаться со своими конкурентами по службе наш начальник не мог, то ничто не мешало ему отыграться на интеллигентах, имевших несчастие попасть к нему в лагерь. Кроме неизбежных здесь, общих для всех бед, над ними постоянно довлела еще его злоба.
Однажды к начлагу была вызвана для обычного разноса за хроническое невыполнение производственных норм группа доходяг. Делался вид, что единственной причиной невыполнения этих норм является нежелание заключенных работать. В кабинет начальника незадолго до вечерней поверки один за другим входили на подкашивающихся от слабости ногах скелетообразные фигуры, обвешанные рваным тряпьем.
– Фамилия? – спрашивал начальник, заглянув в лежащую перед ним бумажку. Получив ответ, он задавал следующий стандартный вопрос: – Почему плана не выполняешь?
В ответ раздавалось невнятное бормотание о том, что нормы-де невыполнимы, на штрафной четырехсотке сил не хватает даже на то, чтобы поднять кайло или лом, а руки без рукавиц примерзают к этому самом лому…
– Ленинградские рабочие в сорок втором на ста двадцати пяти граммах производственный план выполняли! – оборвал это бормотание хозяин кабинета. – Будешь и дальше так филонить – в карцер посажу с выводом… Гони сюда следующего! – и начальник ставил напротив фамилии вызванного «галочку».
К этой галочке и сводилось, собственно говоря, всё мероприятие. Даже самые прожженные лагерные прохиндеи вроде нашего начальника понимали, что нравоучениями и угрозами острой нехватки питания не возместишь. Всякие пропесочки за «филонство» заключенных, которым до кладбищенской бирки оставались считанные недели, были всего лишь лицемерным ритуалом.
Но один раз на свой вопрос о плане начальник получил неожиданный ответ:
– На одно лишь противостояние нашему холоду, – ответил спрошенный, – требуется не менее четырех тысяч калорий в день. Я же получаю едва одну тысячу калорий…
Начальник удивленно поднял глаза и увидел доходягу в обычном рванье. Но взгляд у него был не тусклым, как почти всегда у дистрофиков, а раздражающе осмысленным и ясным. В рыбьих глазах начальника вспыхнула злоба.
– Ты кто такой? – спросил он у срывщика плана, пытающегося подвести под массовое невыполнение плана теоретическую базу.
– Шурфовщик из бригады Лазарева, – ответил спрошенный.
– Я спрашиваю: по воле ты кто?
– Преподаватель физики в институте… – с некоторым удивлением ответил невыполняющий на не идущий к делу вопрос.
– Выходит, у Вас высшее образование, – перешел начальник на «Вы», что не предвещало ничего хорошего. Бывший преподаватель пожал плечами, а начлаг, пристукнув кулаком по столу, крикнул: – А у меня низшее… Пять суток изолятора за злостное невыполнение плана! – В этом злобном выпаде и произвольном, несправедливом приговоре был наш начальник едва ли не весь.
Его лагерное прозвище было «Тащи-и-не-пущай». Получил он его главным образом за исключительное усердие в преследовании темнил. Если он не был болен и не уезжал по делам в соседний поселок, где находилось здешнее горнорудное управление, Тащи-и-не-пущай почти непременно возглавлял ежедневный утренний обход лагеря, производившийся вскоре после развода. Это, собственно, была облава на тех, кто путем обмана, невеселой игры в прятки, притворства или даже членовредительства пытался уклониться от выхода на работу. В облаве принимали участие надзиратели, почти вся лагерная обслуга, дневальные бараков и даже санитары из санчасти. Этого требовал начальник. К обнаруженным темнилам он был беспощаден. В то время как вся страна напрягает силы для борьбы с врагом, они, вместо того чтобы честным трудом искупать свою вину перед ней, пытаются даром есть свой хлеб! Речь в этом роде Тащи-и-не-пущай мог произнести не только перед «мастырщиком», вызвавшим у себя флегмону мышечной ткани путем протаскивания через нее зараженной нитки, но и перед стонущим «сявкой» – подростком, сброшенным с крыши барака прямо на камни двора. И неизвестно, чего в этих речах было больше, инквизиторского фарисейства или искренней убежденности в правоте выполняемого им дела. Ведь что касается ненависти к тем, кому мы причиняем зло, то она вытекает из самого этого зла, эта истина четко сформулирована Л. Толстым.








