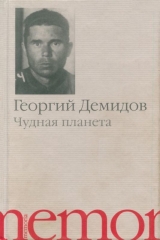
Текст книги "Чудная планета (Рассказы)"
Автор книги: Георгий Демидов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
По-видимому, это было то, что нужно. Похвала работникам советского правосудия, написанная великим поэтом и прочитанная участником художественной самодеятельности заключенных, приходилась тем более кстати, что в Галаганнахе гостил сейчас главный на Колыме лагерный прокурор. Вернее, торчал здесь, так как не мог выбраться обратно в свой Магадан. Он приехал сюда для расследования одного кляузного дела, изнасилования группой лагерников-блатных жены директора дальнего рыбсовхоза. Расследование было закончено, но прокурор пропустил последнюю баржу, уходившую отсюда в Ногаево, а снега, чтобы уехать на собачьих нартах, было еще мало. На предстоящем концерте в лагере он будет непременно. Но прежде чем вписать «Гимн» в программу этого концерта, она должна его прочесть или прослушать.
От вахты доносились звуки ударов по подвешенному рельсу.
– Разрешите, гражданин начальник, я возьму книгу, – сказал Скворцов, протягивая за ней руку. – Мне опаздывать на поверку нельзя, в кондее ночевать придется…
– А ты мне ее оставь, – попросила начальница.
Скворцов ответил, что охотно сделал бы это, но тогда он не сможет подучить стихи, которые он хотел бы прочесть со сцены. В лес же его отправят завтра с «самого ранья», как говорят в лагере. Да и чего она опасается? Ничего такого, чего нельзя было бы читать перед кем угодно в Союзе, великий пролетарский поэт написать не мог. И если гражданин начальник КВЧ утвердит «Гимн судье» для чтения на концерте и вызовет его сюда для исполнения этого стихотворения, то книгу с собой он, конечно, захватит. И по ней она сможет убедиться, что от текста этой книги Скворцов не отступил и на запятую. Что за дурак, чтобы зарабатывать себе еще и пятьдесят восьмую статью?
Всё это звучало весьма убедительно.
– Ладно! – махнула рукой начальница, вычеркивая вступление цыгана-плясуна и вписывая вместо него чтение стихотворения В. В. Маяковского. – Только не забудь принести с собой книгу!
Специально выделенных помещений для выступлений лагерной самодеятельности, показа кинокартин, когда приезжала кинопередвижка, общих собраний заключенных и прочих общественных мероприятий в лагерях, как правило, не было. Их заменяли столовые, которые, за исключением «тошниловок» самых захудалых лагерьков, были оборудованы сценами. Есть эти нехитрые дощатые сооружения не просили и почти не отнимали у столового «зала» его полезной площади. Столы и скамьи для принятия пищи могли стоять и на возвышении сцены. Так было и в лагере Галаганнах.
В дни, когда устраивались спектакли или приезжало кино, эти столы громоздили друг на друга в задней части зала, выносили их на кухню и даже во двор. И всё равно места для всех желающих побывать на редком здесь развлечении не хватало. Даже при условии, что скамьи ставили только в двух-трех первых рядах для начальства, надзирателей с женами, приглашенных с поселка и кое-кого из главных придурков. Заключенная публика занимала места в «партере», стоя на ногах и тем возрождая первоначальное значение этого слова. «Пар терра» – место для стояния на земле.
В день концерта «партер» был набит до отказа задолго до его начала. Заполнены были и скамьи. Только пять стульев, поставленные в середине первого ряда, – всё наличие здесь этого вида мебели – некоторое время пустовали и после того, как концерт следовало бы уже и начать. Это выдерживало приличествующее его рангу опоздание главное здешнее начальство: начальник лагеря и начальник совхоза. С ними явился и магаданский прокурор. Ему, как почетному гостю, было предоставлено место в центре. По одну сторону от прокурора уселся начальник лагеря, по другую его заместитель по культурно-воспитательной части. Директор совхоза уступил ей это место как даме и хозяйке сегодняшнего вечера. Пятый стул занял местный оперуполномоченный.
Из-за занавеса из крашеной мешковины с нарисованной на нем лирой вынырнул неестественно бодрый старичок – ведущий концерта.
«Искусство есть поверхность, – утверждал Оскар Уайльд, – и кто проникает под поверхность, тот отвечает за себя сам». Особенно верно это утверждение по отношению к театральному искусству. Благодушно настроенная публика в зале не хотела замечать, что мешковина, из которой сшита фрачная пара конферансье, окрашена неровно; что серости бязевой исподней рубахи, изображающей его пластрон, не может скрыть даже обильно добавленный в крахмал зубной порошок, а дряблости щек старика – толстый стой белил и румян. «Партер» встретил ведущего аплодисментами. Это был испытанный «мастер хохмы», только этим летом привезенный из Магадана, где он несколько лет работал в тамошнем «крепостном» театре.
Язык – кормилец профессиональный шутов, но он же и их враг в ещё большей степени, чем у всех других людей. Однажды, когда магаданский Дом культуры давал представление для бойцов и командиров местной вооруженной охраны, старый конферансье допустил по отношению к ним оскорбительный выпад. Оговорившись при каком-то из своих выходов, он обратился к публике со словом «товарищи». Из зала немедленно последовала реплика: «Гусь свинье не товарищ!» Но забалованный вниманием публики, из-за которого ему прощалось многое, артист позволил себе обидеться и ответить на хамский выкрик остротой, облетевшей чуть не всю Колыму. Он умолк на полуслове, несколько секунд растерянно постоял у рампы, а потом со словами: «Что ж, придется улететь…» – похлопывая себя ладонями по бедрам и погогатывая, уплыл за кулисы. Политическое руководство ВОХР потребовало удаления из дальстроевской столицы дерзкого острослова. Не помогла ни его популярность, ни бытовая статья, ни почти уже закончившийся срок. Теперь незадачливый хохмач дневалил в одном из галаганских бараков.
Объявив принятым в таких случаях неестественно напряженным голосом, что силами кружков самодеятельности заключенных галаганского ОЛПа сейчас будет дан большой концерт, конферансье опасливо оглянулся на закрытый занавес и доверительно добавил, уже «лично от себя», что за качество отдельных номеров предстоящего концерта он бы не поручился. Поэтому при исполнении этих номеров не исключены случаи засыпания отдельных слушателей. Таковых он просил не храпеть слишком громко, чтобы не мешать слушать соседям и не нервировать незадачливых исполнителей. Шутка была не ахти какая, но невзыскательная публика похлопала и такой.
Раздвинулся занавес, за которым на крохотной сцене тесно построился самодеятельный хор. Он пропел славословие Москве: «Могучая, кипучая, никем непобедимая…» За ним «Катюшу», песню про трех танкистов, «Если завтра война». Это была обязательная, патриотическая часть хоровой программы. Но хористы подготовили вещи и посложнее. Они исполнили хор караванщиков из рубинштейновского «Демона» и лысенковскую «Зозулю». На включении в концерт «Зозули» политически бдительная «кавэчиха» долго не соглашалась. Уместно ли будет петь перед заключенными, да еще колымскими, такие, например, слова: «Та й заплакалы хлопцы-молодцы, гей на чужыни, в неволи, в тюрьми…» Вряд ли бы ее удалось уломать, если бы хор пленных запорожцев-галерников странным образом не оказался разрешенным для исполнения в лагерях самого ГУЛАГа.
За выступлением хора следовал дуэт из «Запорожца за Дунаем». Он тоже отлично удался. Публике особенно понравилось, как Одарка в красно-зеленой клетчатой «плахте» из раскрашенной кистью мешковины гонялась за путающимся в широченных запорожских штанах Карасем с огромным, бутафорским рогачом в руках. Судя по тому, как исполнителям популярного дуэта аплодировал сам сдержанный начлаг, обещанная амнистия была им обеспечена. Понравились публике и спетые бывшим сельским учителем, молодым еще человеком, сидевшим за «антиколхозную агитацию», саратовские частушки. Особенно те, в которых деревенский парень сожалел об оставленных в родной избе котятах:
Уезжал – слепые были,
А теперь, поди, глядят…
Вокальное отделение концерта окончилось. Сильно волновавшаяся за него начальница КВЧ облегченно вздохнула. За инструментальное отделение она боялась меньше. Там, по крайней мере, нет слов, которые можно исказить или подать их не в той интонации. Правда, оставалось еще чтение стихов Маяковского, намеченное на промежуток между выступлениями хора и оркестра. За несколько часов до начала концерта Пантелеевой начало было казаться, что исполнитель этого номера, по своей всегдашней привычке всех и вся подводить, решил его сорвать. Несмотря на обещание начальника лесной подкомандировки отпустить Скворцова уже в середине дня, тот долго не являлся, хотя до этой подкомандировки было всего десять километров. Пришел он уже затемно, за час до открытия занавеса и заявил, что не мог отправиться в дорогу не пообедав. А обед у лесорубов бывает готов только ко времени их возвращения с работы, в четыре-пять часов, когда в лесу начинает уже темнеть. Книжку стихов Маяковского он принес. Начальница держала ее заложенной на странице «Гимна», да так до сих пор и не удосужилась хотя бы пробежать глазами эти стихотворение. То устраивала Скворцову получение на сегодняшний вечер штанов и рубахи первого срока, то бегала в поселок добывать балалаечную струну взамен лопнувшей, то привечала в качестве главного лагерного культработника заезжего прокурора. Уже сидя с ним рядом, она несколько раз пыталась раскрыть книжку, но отвлекала необходимость слушать выступление хора и солистов.
За закрытым занавесом слышалась возня, стук расставляемых скамеек и иногда бреньканье задетой струны. Это рассаживался самодеятельный оркестр. Снова появился ведущий и прокричал, что сейчас перед публикой выступит лучший исполнитель произведений великого поэта Владимира Маяковского не только на лесоповальном участке совхоза Галаганнах, но и всей окрестной тайге. Заключенный Скворцов прочтет стихотворение этого поэта, которое называется «Гимн судьям». Конферансье не читал «гимна», но считал, что «судьям» звучит лучше и больше соответствует назначению стихотворения, чем «судье». В передних рядах названию захлопали, в задних кто-то довольно громко сказал:
– Решил-таки подлизаться к начальству наш Скворцов! Фраер, он фраер и есть…
Из-за занавеса вышел долговязый малый, казавшийся еще выше из-за коротких для него летних лагерных штанов и черной сатиновой гимнастерки. Парень подождал, пока в задних рядах стихло гудение и какие-то споры, и начал:
По Красному морю плывут каторжане,
Трудом загребая галеру.
Рыком покрыв кандальное ржанье,
Орут про родину Перу.
Чтец напирал на «р», сильно его раскатывая: «Ррыком покррыв…» От этого занятные стихи казались еще занятнее и их слушали внимательно. Тем более что было совершенно непонятно, какое отношение могут иметь люди, отправляющие правосудие в Советском Союзе, к какому-то Перу, галерам и Красному морю.
О ррае Перру орррут перруанцы,
Где птицы, танцы, бабы,
Где над венцами цветов померанца
Рросли до небес баобабы…
Хотя вряд ли среди присутствующих был хоть один человек, не слышавший имени знаменитого советского поэта, о существовании у него странных стихов не знал почти никто. Разве что два-три особо грамотных книгочтея, ухмылявшихся в задних рядах. Пантелеева внимательно следила за чтением «Гимна», водя пальцем по его печатным строчкам. Чтец, если не считать сдвоения и строения «р», ни на йоту не отступал от изданного текста, но стихи от этого не становились менее странными, и чем дальше, тем больше.
Банан, ананасы, радостей груды,
Вино в запечатанной посуде…
Но вот неизвестно зачем и откуда,
На Перру наперрли судьи…
Слово «наперли» явно не подходило для торжественно хвалебной оды. Удивленно переглянувшись между собой, прокурор и опер с двух сторон склонились над книгой, которую держала на коленях начальница КВЧ.
И птиц, и танцы, и их перуанок
Кругом обложили статьями.
Глаза у судьи – пара жестянок,
Мерцают в помойной яме.
Теперь беспокойно нахмурился и начальник лагеря. Стихи были о чем-то, не имеющем прямого отношения к советской действительности. Но это мало что меняло. На каждый хлесткий эпитет в адрес омерзительного судьи из толпы заключенных сзади раздавалось одобрительное гудение. И это в присутствии самого всеколымского прокурора! Безобразие следовало бы прекратить, приказав чтецу немедленно замолчать. Но стихотворение, несомненно, было разрешенным, судя по тому, что этого не делали ни гость из Магадана, ни оперуполномоченный, ни сама эта дура, Пантелеева, следившая за ним по книжке. Не подлежит сомнению и то, что свое скандальное выступление подстроил сам Скворцов, обведя вокруг пальца неопытную «кавэчиху». Вон какой у нее растерянный и испуганный вид…
Попал павлин, оранжево-синий,
Под глаз его строгий как пост.
И вылинял моментально павлиний,
Великолепный хвост.
Летали по прерии возле Перу,
Птички такие, колибри.
Судья тех птичек поймал
И все им перышки выбрил…
Теперь уже ухмылялся и кое-кто из приглашенных на концерт вольняшек. А заключенные слушатели, чуть не все, восторженно скалились до ушей. Нечего сказать, хорошую политико-воспитательную направленность получал сегодняшний концерт!
Нет ныне ни в одной долине
Вулканов, гор огнедышащих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».
Сердитый взгляд прокурора, продолжавшего следить по книге за текстом стихотворения, скользнул вниз, где стояла дата его написания – 1916 год. Памфлет начинающего поэта Маяковского был направлен против царских судей. Но не станешь же объяснять этого тем, кто восторженным ревом, аплодисментами и выкриками «Скворцов – человек!», покрыл заключительные строфы стихотворения:
Экватор дрожит от кандальных звонов,
На Перу бесптичье, безлюдье,
И только, забившись под своды законов,
Живут там угрюмые судьи.
Подчеркнув ногтем цифру 1916 с такой силой, что чуть не прорезал при этом бумагу, возмущенный прокурор поднялся с места и направился к выходу. На вторую часть концерта он оставаться не хотел. С недовольным гостем, чтобы проводить его до вахты, пошел и начальник лагеря. Проходя через темный тамбур столовой, они слышали, как кто-то вполголоса произнес в углу: «Глаза у судьи – пара жестянок, мерцают в помойной яме».
Понявшая теперь, на чем провел ее так ловко несостоявшийся литературовед, этот коварный пакостник, которому даже виселицы было бы мало, Пантелеева через небольшую дверь сбоку сцены бросилась за кулисы. Сейчас она накричит на него, натопает ногами. Объявит во всеуслышанье, что возбудит против него дело об оскорблении работников советского правосудия, загонит, куда Макар телят не гонял, сгноит на штрафном… И только увидев перед собой нагловато усмехающуюся рожу Скворцова, собирающегося идти за занавеску, чтобы переодеться в свое рабочее одеяние, она поняла, что ничего этого она сделать не может. Нельзя наказать человека, отлично прочитавшего перед публикой раннее произведение революционного поэта. Чтец, как и обещал, не позволил себе ни малейшего отступления от печатного текста стихотворения, помещенного в советском издании. Натравить на него начальника лагеря, тоже попавшего в неловкое положение, особенно перед гостем из Магадана? Но тот и так держит Скворцова на штрафном. И гнев Мордвина, почти наверняка, обрушится не на этого заведомого негодяя, а на свою заместительницу по КВЧ, осрамившуюся так неосторожно и глупо…
Кругом прятали улыбки и отводили глаза уже освободившиеся участники концерта. Струнный оркестр на сцене громко и четко играл «коробейников». Закусив губу, Пантелеева положила томик Маяковского на подоконник и вышла через дверь, ведущую из «артистической» комнаты, в темный угол зоны. Заключенным не положено видеть, как плачет злыми слезами младший сержант – начальник культурно-воспитательной части лагеря.
А еще через несколько минут из той же двери вышел и направился в барак, в котором ему было позволено сегодня переночевать, заключенный Скворцов. Завтра с подъемом он должен был отправиться на свою лесную командировку. Вряд ли он теперь выберется со штрафных работ до конца своего срока. Но неисправимый изобретатель подвохов и каверз довольно улыбался. Сидеть в лагере ему осталось не так уж много, и игра стоила свеч. Он разыграл, как по нотам, самую тонкую, самую психологическую и самую эффектную из всех своих злых шуток.
После конфуза, связанного с оплошностью младшего сержанта Пантелеевой при составлении программы концерта, она была, по ее просьбе, разумеется, переведена на должность начальницы женской штрафной командировки. Начальником лагерной КВЧ стал бывший нормировщик из сельхоза. В отличие от своей предшественницы он считал, что главное на этой должности – не мешать работать членам самодеятельных кружков. Умения и энтузиазма у них тут более чем достаточно. А от начальника КВЧ требуется только, чтобы он умел отличить гармонь от балалайки, бас от дисканта, а женскую роль от мужской. Руководствуясь этим принципом, мудрый начальник целые дни проводил в окрестных распадках, охотясь на куропаток, а в помещение КВЧ заглядывал только вечером, да и то не каждый день. Работа, как он и рассчитывал, шла тут полным ходом. Особенно активно работал теперь драмкружок, в который входили несколько актеров-профессионалов и много опытных и высококультурных любителей. Первая пьеса, подготовленная кружком к Новому году, была намечена еще по настоянию Пантелеевой. Она была сочинена в недрах Главного управления лагерей специально для лагерной самодеятельности. В этой пьесе честные и бдительные советские люди разоблачили пробравшихся на важный оборонный завод шпионов и вредителей. Морщился руководитель драмкружка, бывший кинорежиссер, морщились исполнители ролей, а некоторые из зрителей даже плевались. Но этой данью воспитательной работе в духе всеобщей подозрительности и шпиономании кружок и ограничился. Следующей его работой были сцены из «Мертвых душ». Они имели большой успех. С не меньшим успехом была поставлена и «сцена в корчме» из «Бориса Годунова», за ней «Женитьба». Классика на лагерной сцене правилами ГУЛАГ а не возбранялась. На случай, если бы кто-нибудь задал вопрос: «Почему в драмкружке не разучиваются современные советские пьесы?» – у его руководителя был готов дипломатичный ответ: потому-де, что роли положительных героев в таких пьесах для исполнителей-небытовиков запрещены. А сколько-нибудь приличных актеров, не отягощенных пятьдесят восьмой статьей, в кружке почти нет. Но такого вопроса никто пока не задавал.
Так как бывший кинорежиссер почти всё время болел, то фактической руководительницей кружка вскоре стала его помощница, заключенная Тоггер. Эта немолодая уже женщина работала на лагерной кухне судомойкой, в прошлом же Тоггер была литературоведом и театроведом, специалисткой по истории западноевропейского театра. За труд о французской драматургии позднего Ренессанса она была приглашена Сорбонной для вручения ей какой-то специальной награды. Поездка в Париж доцента театрального института состоялась, но обошлась ей в восемь лет лагерного срока как «подозреваемой в шпионаже».
Тоггер было нетрудно уговорить покладистого начальника КВЧ и членов своего кружка подготовить к первомайским праздникам «Проделки Скапена». Роль постановщика мольеровской комедии она взяла на себя. У нее же оказался и двухтомник Мольера, присланный ей с материка.
Самыми трудными, как следовало ожидать, при подготовке «Проделок» оказались постановочные вопросы. Некоторые считали их почти неразрешимыми. В захолустном, заброшенном на край света лагере надо был изобразить людей и быт Парижа XVII века.
Выручили специальные знания, умение, изобретательность и энтузиазм. У режиссера и постановщицы оказался целый отряд бескорыстных помощников. Главными из них были бывшая костюмерша большой киностудии, бывший театральный бутафор и бывший художник-декоратор. У художника на правой руке не было ни одного пальца – отморозил на прииске, – и он писал кистью, привязанной к предплечью.
Главным материалом и у костюмерши, и у декоратора была всё та же мешковина, имевшаяся здесь в изобилии – как-никак Галаганнах был морским портом. Мешковину красили невероятными смесями состава для чернения кож, чернильного порошка и марганцовки и шили из нее камзолы, турецкие халаты, панталоны пузырями. Узоры наносили масляными красками. Узкие панталоны делали из укороченных лагерных кальсон, украшая их у колена лентами из марли, расцвеченными реванолем, брильянтгрюном, красным стрептоцидом и другими лекарственными красителями, которые можно было найти в лагерной аптеке. Неплохие старинные башмаки получались из лагерных ботинок, если нацепить на них огромные бутафорские пряжки из жести. Парики изготовляли из пакли, полученной размочаливанием корабельного каната, отмытого от смолы в керосине. В изготовлении предметов бутафории постановщикам не отказывали ни плотники, ни столяры, ни жестянщики, хотя рабочий день у всех тут даже зимой продолжался двенадцать часов. Но заключенные лагеря Галаганнах имели достаточно хлеба. Поэтому они нуждались в зрелищах, и почти все охотно помогали в их подготовке.
Спектакль «Проделки Скапена» получился веселым и ярким. Его успеху очень способствовало и то, что режиссер выдержала игру актеров в духе современного Мольеру народного театра. Не было недостатка в палочных ударах, беготне и истошных воплях. Спасаясь от разъяренного хозяина, плут Скапен взбирался даже по канату, подвешенному к потолку сцены. Театр масок у Тоггер перекликался с театром Мейерхольда.
Успех «Проделок» навел ее на мысль поставить на здешней сцене целую серию комедий Мольера. С реквизитом и бутафорией теперь будет уже полегче. Все с ней безоговорочно согласились. Была намечена и пьеса для очередной постановки – «Скупой». Но это уже на осень. Во время летних полевых работ ни о какой самодеятельности в лагере не могло быть и речи. Рабочий день тут во время посевной, уборочной, сенокоса и путины доходил до шестнадцати – восемнадцати часов в сутки.
В начале лета уволился из Дальстроя и уехал на материк многолетний начальник здешнего лагеря Мордвин. Его место занял новый начлаг, вскоре получивший нелестное прозвище «Повесь-чайник». Это был угрюмый бурбон, появление которого в сельхозлаге сразу же изменило весь строй его жизни. Потом говорили, что хуже Повесь-чайника на быте здешних заключенных отразилась только начавшаяся через год война. Он был помешан на тюремном режиме для лагерников, а в их притеснении, большей частью не нужном, а зачастую и вредном для дела, находил, по-видимому, какое-то садистское удовольствие. К музыке, песне, художественному слову, даже простой шутке новый начальник был совершенно глух. Естественно, что художественную самодеятельность заключенных он считал баловством, вредным попустительством со стороны высшего начальства. Запретить он ее, конечно, не мог, но мешал в меру тех огромных возможностей, которыми обладает начальник лагеря. Одной из таких возможностей является буквальное следование предписаниям лагерного устава. И Повесь-чайник постоянно, с дотошностью буквоеда-инквизитора, этим пользовался. Для участников самодеятельных кружков он не только не делал исключения, но и донимал их особенно злобно. При его предшественнике в этих кружках пышным цветом расцвела запретная любовь, с которой теперь велась решительная борьба. Временами чуть не половина молодых кружковцев сидела в кондее без малейшей надежды на амнистию. Своего заместителя по КВЧ начальник всячески третировал. На его просьбы о маленьких льготах для кружковцев, переводе, хотя бы временном, на более легкую работу, в другую бригаду или дневную смену, он почти неизменно отвечал отказом. Интересы самодеятельности – дело десятое. И он не собирается подчинять им интересы производства. Если начлага начинали уговаривать: «Товарищ…» – или: «Гражданин начальник…» – в ответ слышалось неизменное: «Повесь… чайник!»
И всё же, несмотря на все притеснения Повесь-чайника, «Скупой» к тринадцатой годовщине Октября был подготовлен, и даже неплохо. Выручила психологическая незамысловатость пьесы, небольшое число действующих лиц и возможность почти без переделок использовать реквизит «Проделок». Спектакль был назначен на одно из первых чисел ноября, почти точно в годовщину концерта, на котором заключенный Скворцов, ныне уже освободившийся, так ловко подстроил свинью бывшей начальнице КВЧ. В день спектакля, как и тогда, «партер» был битком набит задолго до начала представления. Но средний стул в первом ряду пустовал чуть не полчаса после того, как наступило время этого начала. Теперешний начлаг не просто демонстрировал необязательность своего прихода на спектакль без опоздания. Было очевидно, что он и тут не преминул воспользоваться возможностью помурыжить зависимых от него людей. Пусть-ка они постоят, обливаясь потом, на натруженных ногах, пока их начальник безо всякого дела сидит у себя в кабинете!
В старом ватнике защитного цвета, больше похожий на рядового охранника, чем на начальника ОЛПа, он появился, наконец, в дверях столовой. И начал проталкиваться сквозь толпу заключенных. Именно проталкиваться, хотя перед ним расступались. Как только он плюхнулся на свое место, занавес раздвинулся и спектакль начался. В зале вскоре раздались первые смешки, а за ними и всё более ширящийся смех. Особенно трудно было не смеяться, глядя на игру исполнителя главной роли. Гарпагона играл опытный профессиональный актер-комик. Прежде ему часто ставили в вину сильную склонность к переигрыванию и клоунаде, но здесь этой склонности никто не ограничивал. Руководительница драмкружка считала, что так даже лучше – ближе к постановке комедии во времена Мольера, и спектакль надежнее дойдет до большей части лагерной публики. И он доходил. Зрители хохотали, глядя как смешно ковыляет на подагрических ногах противный старый скряга с крючковатым носом и в свалявшемся белом парике. Гарпагон надтреснутым, дребезжащим голосом кричал на слуг, что они воры, мошенники, расточители его добра и неисправимые дармоеды. При этом он размахивал толстенной палкой с затейливым набалдашником, а иногда и опускал ее на спину кого-нибудь из своих лакеев. Раздавался сильный треск, секрет которого был заделан в хитрую трость одним из изобретательных самодеятельных бутафоров. За два первых акта сквалыга и жадина, тайный ростовщик и домашний деспот так восстановил против себя зрителей в зале, что когда в третьем акте у него перепрятали шкатулку с драгоценностями, все довольно смеялись, а некоторые даже хлопали. Только на хмурой и как будто заспанной физиономии начальника лагеря ни разу не появилось даже подобия улыбки. Он смотрел спектакль как человек, убежденный во вздорности и ненужности в лагере подобных затей. Здесь место наказания преступников, а не веселого времяпрепровождения!
А в глубине сцены метался на развинченных ногах несимпатичный всем Гарпагон, смешно оплакивающий потерю заветной шкатулки. С гротескными жестами, то теребя мочало своего парика, то стуча палкой об пол или потрясая ею над головой, он громко проклинал весь свет, сплошь, по его мнению, заполненный ворами и мошенниками. В конце своего монолога, когда смех в зале стал особенно громким, Скупой, как будто только сейчас услышав этот шум, подошел к рампе. Некоторое время, с выражением неприязненного удивления на физиономии Бабы-Яги, он всматривался в полутемное, наполненное людьми помещение. Затем с таким же удивлением произнес:
– Сколько здесь народу… – И вдруг закричал, затопав ногами: – И все воры, мошенники! Отдайте мне мою шкатулку!
Предание гласит, что на премьере «Скупого» на сцене дворцового театра Людовик Четырнадцатый в этом месте пьесы смеялся особенно громко. Совсем не так повел себя на ее представлении начальник лагеря. Хохот зрителей перекрыл его зычный окрик: «Отставить!» Обескураженный актер умолк на полуслове с открытым ртом и поднятой кверху палкой. Через секунду нервно задернувшийся занавес скрыл его от публики. Оборвался и смех в зале. В наступившей тишине было слышно, как начальник лагеря выговаривает своему заместителю по культурно-воспитательной работе:
– Безобразие! Совсем распустились у тебя зэки! В зале не только воры и мошенники! Здесь командование лагеря, лаг-надзор, честные советские люди!
Недовольно сопя, «командование лагеря» демонстративно направилось к выходу. Вслед ему смотрели воры, мошенники и действительно честные люди, которым и в голову не пришло оскорбляться на реплику актера со сцены. Полное отсутствие чувства юмора – уродство, по счастью, довольно редкое.
После ухода начлага спектакль все-таки доиграли до конца. Но исполнитель главной роли утратил уже всё свое вдохновение. Из гротескного олицетворения самой Скупости он превратился в просто загримированного дядю Васю, сторожа рыбного склада. Без всякого воодушевления играли теперь и остальные актеры. Пропало настроение и у публики. Когда спектакль закончился, только немногие, и то вяло, похлопали.
Руководительница драмкружка к этому времени лежала уже на нарах в своем бараке. Ее отвели туда после сердечного приступа. От дальнейшей работы в этом кружке Тоггер отказалась. Вышли из него и все ведущие актеры – кружок остался существовать почти только на бумаге. Вскоре умер в лагерной больнице и его организатор, бедняга кинорежиссер.
Захирели и другие два самодеятельных кружка. К Первому мая последнего предвоенного года они кое-как подготовили плохонький концерт. Затем началась весенняя страда, за ней война, на годы погасившая самую мысль о художественной самодеятельности даже у ее энтузиастов. В эти годы сильно голодали и заключенные галаганского сельхозлага, знаменитого прежде по всей Колыме своей сытостью. А кому же «в ум придет на желудок петь голодный!»








