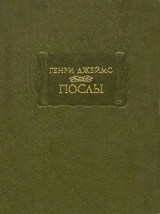
Текст книги "Послы"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
– В таком случае, вынужден заметить, у вас низменный образ мыслей.
Увы, это мнение полностью совпало с собственными размышлениями Стрезера, навеянными приятной атмосферой бульвара Мальзерб, а потому подействовало на него особенно тягостно. Если бы такую шпильку пустил он сам – даже в отношении миссис Ньюсем, – она была бы только во благо, но, пущенная Чэдом, к тому же вполне обоснованно, царапнула до крови. Нет, они не отличались низменным образом мыслей и не имели к этому ни малейшей склонности, и тем не менее пришлось признать, что действовали – да еще упоенные собой – исходя из положений, которые можно было легко обратить против них. Во всяком случае, Чэд бросил ему обвинение, и своей прелестной матушке тоже, а заодно, поворотом кисти и стремительным броском далеко летящего лассо, захлестнул и Вулет, который в своей гордыне пасся по одним верхам. Бесспорно, Вулет, и только Вулет, вбил в мальчика грубость манер; и теперь, уже вступив на иной путь, он, стоя здесь, посреди спящей улицы, упражнялся в том, что в него вбили, против тех, кто в него это вбил. И получалось так: они приписывали ему вульгарность, а он взял и одним махом ее с себя стряхнул и – так, по крайней мере, ощущал это Стрезер – стряхнул на своего американского гостя. Минуту назад Стрезер спрашивал себя, не язычник ли его молодой друг; сейчас ему впору было спросить: уж не джентльмен ли он? Мысль, что человек не может быть и тем и другим одновременно, в этот миг, по крайней мере, не пришла ему в голову. Ничто кругом не отрицало подобного сочетания; напротив, все говорило в его пользу. И Стрезеру подумалось: вот путь к пониманию самого трудного вопроса; правда, на месте одного вопроса мгновенно вставал другой. Не потому ли, что Чэд научился быть джентльменом, он овладел маневром – искусством так безупречно держаться, что язык не поворачивался говорить с ним начистоту. Где же все-таки ключ к причине всех причин? Пока, во всяком случае, Стрезеру не хватало слишком многих ключей, и среди прочих – ключей к ключам. И, значит, ничего не оставалось, как честно признаться самому себе, что в очередной раз он оказался профаном. К этому времени он уже привык получать такого рода щелчки-напоминания, в первую очередь от самого себя, о том, что он то сего, то того, то другого не знает. Но Стрезер терпел их – во-первых, потому что это оставалось его тайной, а во-вторых, потому что вносило немалый вклад. Пусть он не знал, что плохо, но – поскольку другие не догадывались, как мало он знает, – мог мириться с таким положением вещей. Но сейчас он не знал, да еще в таком важном пункте, что хорошо, и Чэд, по крайней мере, это понимал, а потому нашему другу приходилось очень туго: он чувствовал себя разоблаченным. Чэд и в самом деле постарался как можно дольше продержать его в этом неприятном состоянии – по крайней мере, до тех пор, пока не счел, что с него хватит и можно снова милостиво его выручить. Так он в конце концов весьма изящно и сделал. Но сделал так, как если бы вдруг напал на счастливую мысль, которая все могла его другу объяснить.
– О, со мною все в порядке! – бросил он.
И с тем, в полном смятении чувств, Стрезер отправился спать.
IX
Так оно, видимо, и было – судя по тому, как после того разговора вел себя Чэд. Он был преисполнен благожелательности к послу матушки, который, однако, несмотря на все знаки обрушившегося на него внимания, умудрился поддерживать и другие связи. Правда, его свидания с миссис Ньюсем, когда, вооружась пером, он беседовал с нею в своем номере, нередко нарушались, зато стали содержательнее и происходили чаще, чем когда-либо прежде; они перемежались часами, которые он посвящал Марии Гостри, хотя и по-иному, но с не меньшей серьезностью. Теперь, когда, выражаясь словами нашего друга, у него и впрямь находилось что порассказать, он, к собственному удивлению, проявлял – по части всяких неловкостей, какие могли возникнуть при подобных двойных отношениях, – одновременно и больше осмотрительности, и больше спокойствия. Он очень тонко представил в письмах к миссис Ньюсем свою полезную приятельницу; однако с некоторых пор его донимали опасения, что Чэд, который из любви к родимой матушке вновь взялся за брошенное было перо, возможно, делал это еще тоньше. Нашего друга вовсе не устраивало, чтобы сведения о нем поступали к миссис Ньюсем из рук Чэда, исключая разве те, которым надлежало именно из них поступать; меньше всего ему хотелось, чтобы в общение между матерью и сыном вкрался элемент легкомыслия. А потому, желая предвосхитить такого рода злополучную случайность, он с полной откровенностью живописал молодому человеку все подробности, в их точной последовательности, своей занятной дружбы с мисс Гостри. Рассказывая об этом мило и любезно, он именовал их знакомство «вот такой историей» и искренне полагал, что не берет греха на душу, определяя эту дружбу эпитетом «занятная» – сам он относился к ней вполне серьезно! Он льстил себя мыслью, что даже преувеличивает дерзновенную вольность, какой была отмечена его первая встреча с этой поразительной дамой, и придерживался исключительной точности в изображении нелепых обстоятельств, при которых она произошла – то есть не скрыл, что они «подцепили друг друга» чуть ли не на улице; он руководствовался мыслью – и какой тонкой! – что, выказывая удивление неосведомленностью противника, ведет войну на его территории.
Именно так, по его представлениям, следовало вести борьбу в благородном стиле; и тем основательнее была причина его выбрать, что до сих пор в благородном стиле он борьбы ни разу не вел. Итак, он избрал этот путь. Мисс Гостри знали все – как же случилось, что Чэд ее не знал? Трудно, даже невозможно избежать с ней знакомства! А утверждая это как само собой разумеющееся, Стрезер взваливал на Чэда бремя доказательства от обратного. Выбранный нашим другом тон оказался на редкость удачным; Чэд уже готов был оправдываться – разумеется, он не мог не слышать об этой прославленной даме, но познакомиться с ней ему помешало злосчастное стечение обстоятельств. Он также приводил и тот аргумент, что его светские связи отнюдь не достигают такой протяженности, какой, при все ширящемся потоке их соплеменников, ему приписывает Стрезер. И вообще давал понять, что в выборе знакомств все чаще придерживается другого принципа, из чего, видимо, следовало заключить, что он редко вращается среди членов американской «колонии». В настоящий момент его интересовало нечто совсем иное. Да, то, в чем он разбирался, – вещи глубокие. Стрезеру ничего не оставалось, как воспринимать все это именно так – пока он не был способен уяснить, насколько глубокие. Впрочем, с этим лучше было обождать! В их общих затруднениях уже наметилось многое, к чему Чэд проявлял желание отнестись с симпатией. Прежде всего он отнесся с симпатией к своему будущему отчиму. А меж тем неприязнь к себе – вот тот камень преткновения, к которому Стрезер наилучшим образом подготовился и никак не ожидал, что подлинное умонастроение молодого человека доставит ему больше хлопот, чем предполагаемое. Случилось же именно так, потому что наш друг внушил себе, будто необходимо как-то возместить донимавшее его чувство неуверенности: а достаточно ли он сам дотошен? Это – так ему представлялось – был единственный путь, на котором он мог увериться в том, что его нельзя упрекнуть в недостатке усердия. Дело заключалось в том, что, если терпимость Чэда к его усердию оказалась бы лицемерной, если он лишь прикрывался ею как наилучшим способом выиграть время, все же оставалась возможность делать вид, будто они пришли к молчаливому соглашению.
Таков, видимо, был к концу десяти дней результат обильного и беспрестанно повторяющегося обмена мнениями, во время которого Стрезер начинял своего юного друга всем, что тому полагалось знать, вводя его в полный курс фактов и цифр. Ни на минуту не урезая излияний своего гостя, Чэд неизменно держался, выглядел и говорил как человек, чувствующий себя несколько удрученно, даже мрачновато, но полностью и привычно свободным. Он не заявлял о немедленном желании покориться; он задавал умнейшие вопросы, иногда зондируя почву много глубже тех слоев, информацией о которых располагал наш друг, оправдывая тем самым мнение сородичей о своем скрытом потенциале, и при этом сохранял любезный вид, словно изо всех сил стремился вписаться в развертываемую перед ним прекрасную гармоническую картину. Он прохаживался перед нею взад и вперед, дружески беря Стрезера под руку, стоило тому прерваться, без конца вглядывался в это бесценное произведение и справа и слева, критически склонял к нему голову с разных сторон и критически дымил сигаретой, а затем уличал Стрезера то в одной неточности, то в другой. Стрезеру пришлось давать себе передышку – без передышки он временами просто изнемогал, повторяя уже сказанное; как ни крути, а приходилось признавать, что Чэд умел вести разговор. Другое дело, и в этом был главный вопрос, куда он его вел, что пока оставалось совершенно неясным. Вопросы попроще тоже пока не решались; впрочем, какое это имело значение, если все вопросы, кроме тех, какие Чэд сам задавал, отошли на задний план. Чэд был свободен – и в этом состоял весь ответ; и вряд ли могло быть что-либо нелепее того факта, что самой этой свободе предстояло указать, что тут трудно сдвинуть. Его изменившиеся манеры, его прелестная квартира, изящная обстановка, непринужденность в разговоре, сам его интерес к Стрезеру, ненасытный, а когда все было сказано, лестный – разве во всех этих существенных вещах не звучали ноты обретенной им свободы? Казалось, он дарил ее своему гостю, облекая в эти прекрасные формы, и это было главной причиной, почему его гость порою бывал слегка смущен. Стрезер вновь и вновь возвращался к мысли о необходимости пересмотреть первоначальный план. Он ловил себя на том, что бросает растерянные взгляды, устремляет робкие взоры в поисках той злой воли, той несомненно существующей противницы, которая одним ударом его сокрушила и чьим незримым присутствием он, следуя нелепой версии миссис Ньюсем, все время руководствовался в своих действиях. Не раз и не два, чуть ли не чертыхаясь, он в мыслях буквально жаждал, чтобы миссис Ньюсем сама сюда пожаловала и ее нашла.
Он не мог так сразу внушить Вулету, что подобная карьера, подобный беспутный образ жизни в юности были в конечном счете более или менее простительны, а в случае светского человека – случае, о котором идет речь, – вполне могли являться даже безнаказанными; он мог только это констатировать, тем самым подготовив себя к громовому эху. Это эхо – столь же отчетливо различимое в сухой, предгрозовой атмосфере, сколь кричащий заголовок над печатной полосой, казалось, уже звучало в его ушах, когда он сел за письмо. «Он говорит, дело не в женщине!» – миссис Ньюсем, слышалось ему, подчеркивая голосом каждое слово, сообщает это, словно газетную сенсацию, своей дочери, миссис Покок, а ответ миссис Покок вполне достоин присяжного читателя прессы. Он мысленно видел выражение глубочайшего внимания на лице младшей леди и улавливал язвительный скепсис в ее произнесенных после небольшой паузы словах: «Так в чем же тогда?» Так же как мимо него не прошло четкое резюме ее матушки: «В чем? В соблазне делать вид, что не в женщине». Отправив письмо, Стрезер представил себе всю сцену, в течение которой, что бы он ни делал, его взор не меньше, чем к матери, оставался прикован к дочери. Он догадывался, какую убежденность миссис Покок сейчас не упустит случая подтвердить – убежденность, о которой он с самого начала знал, – в его, мистера Стрезера, несостоятельности. Еще до того, как он отплыл в Европу, миссис Покок не раз старательно сверлила его взглядом, и в ее глазах всегда читалось: нет, не верю, что он найдет эту женщину. Миссис Покок питала мало, мягко говоря, доверия к его способности по части женщин. Ведь даже ее мать нашел не он, а ее мать, если уж на то пошло – насколько миссис Покок об этом, увы, было известно – сама его нашла. Да, мать отыскала этого господина – случай, частное суждение о котором миссис Покок было показательно для ее умения критически мыслить. И своим незыблемым положением в обществе этот господин в основном обязан тому факту, что «открытия» миссис Ньюсем принимаются Вулетом, но в глубине души мистер Стрезер знает… Да, наш друг знал, как неудержимо жаждет сейчас миссис Покок высказать, чего стоит его собственное положение в обществе. И вообще, предоставьте ей свободу действий – и она в два счета найдет эту женщину!
Меж тем после знакомства мисс Гостри с Чэдом Стрезеру все чаще казалось, что она держит себя до чрезвычайности настороже. Его поразило, когда вначале он никак не мог добиться от нее того, чего хотел – правда, что он в этот знаменательный момент хотел услышать, он и сам вряд ли сумел бы выразить, разве только в самых общих чертах. Вопрос: «так он вам нравится?», заданный, как мисс Гостри любила говорить, tout bêtement, [37]37
Здесь: наобум (фр.).
[Закрыть]ничего не прояснял и не определял, хотя бы потому, что Стрезеру меньше всего требовалось нагромождать свидетельства в пользу молодого человека. Но он вновь и вновь стучался к ней в дверь, чтобы еще раз повторить, что перемена, произошедшая с Чэдом, какие бы второстепенные подробности ни вызывали тут интерес, прежде всего и в первую очередь являет собой чудо, почти фантастическое. Он буквально переродился, и это его преображение было столь значительно, что вдумчивого наблюдателя ничто иное уже не могло – и впрямь не могло? – занимать.
– Они сговорились, – заявил Стрезер. – Все много сложнее, чем кажется. – И, давая волю своему воображению, заявлял: – Здесь тонкая игра – хитрый обман!
Полет его воображения нашел у мисс Гостри отклик:
– С чьей стороны?
– Ну, полагаю, всему виною судьба, которая каждым повелевает, слепой рок. Я имею в виду, что с подобным противником не просчитаешь ходы. Я располагаю лишь самим собой, своими скромными человеческими средствами. О какой атаке по правилам можно вести речь, когда штурмуешь сверхъестественное. Вся энергия уходит на то, чтобы перед ним выстоять, понять, откуда что взялось. Тут хочется, будь что будет, вы же понимаете, – сознался он, и по лицу его скользнуло странное выражение, – насладиться необычным. Да, назовем это жизнью, – нашел он решение, – назовем это милой старой проказницей-жизнью, которая предлагает нам подобные сюрпризы. Ничего не скажешь – такого рода сюрприз сбивает с ног или, по крайней мере, ошеломляет – все ошеломляет, все, что видишь, вернее, то, черт побери, что можно увидеть.
Ее молчание всегда было насыщено смыслом.
– Вы так и написали домой?
– Да, так и написал! – ответил он почти с вызовом.
Она снова помолчала, а он снова прошелся по ее коврам.
– Будьте осмотрительнее, не то они все сюда пожалуют.
– Ну нет! Я написал, что он вернется со мной.
– А он вернется? – спросила мисс Гостри.
От ее подчеркнутого тона он весь как-то собрался и посмотрел на собеседницу проницательным взглядом.
– Вы задаете мне вопрос, ради ответа на который я проявил бездну терпения и ловкости, чтобы предоставить вам, познакомив с Чэдом и всеми его обстоятельствами, максимальную возможность на него ответить. Я и сегодня пришел к вам в надежде узнать, что вы об этом думаете. Он поедет – как вы считаете?
– Нет, не поедет, – сказала она наконец. – Он несвободен.
То, как она это сказала, оглушило его:
– Как? И вы все время это знали?
– Я ничего не знала. Вернее, только то, что видела. Мне странно, – добавила она с легкой досадой, – что вы не видели того же. Достаточно было побыть с ним…
– Тогда в ложе? Да?
– Да, чтобы убедиться…
– В чем?
Она поднялась со стула, и на лице ее, яснее чем когда-либо, читалось выражение отчаяния – отчаяния от его тупости. Она даже не сразу нашлась с ответом.
– Догадайтесь! – бросила она чуть ли не с жалостью.
От этой жалости у него кровь прилила к щекам, и секунду-другую они стояли лицом к лицу, копя досаду друг на друга.
– Вам угодно сказать, что вам достало и часу, чтобы все понять? Превосходно. Но я, со своей стороны, тоже не так уж глуп, чтобы не понимать вас или в какой-то степени не понимать его.То, что он жил здесь в свое удовольствие, не вызывает у нас ни малейших сомнений. На сегодняшний день не вызывает сомнений и то, в чем он видит главное свое удовольствие. И я не имею в виду, – пояснил он сдержанным тоном, – просто какую-нибудь лоретку, которую он способен подцепить. Нет, я говорю о женщине, которая и в нынешней ситуации умеет показать характер, которая в самом деле чего-то стоит.
– Так и я о том же говорю! – воскликнула мисс Гостри, поспешно уточнив: – Я считаю, что вы считаете – или у вас в Вулете считают, – что лоретка непременно такова. А они вовсе не таковы, как раз наоборот! – горячо заявила она. – И все же какая-то женщина – хотя с виду так не кажется – за этим стоит, но только не просто лоретка. Ведь мы признаем – перед нами чудо! А кто же еще, как не женщина с характером, может сотворить подобное чудо?
Он молчал, вникая в ее слова:
– Стало быть, причина того, что произошло, – женщина.
– Да, женщина. Та или иная. Произошло то, чего не могло не произойти.
– Но вы, во всяком случае, считаете ее порядочной женщиной?
– Порядочной? – Она, смеясь, всплеснула руками. – Я назвала бы ее бесподобной.
– Почему же он тогда отпирается?
– Почему? – Мисс Гостри на мгновение задумалась. – Да потому, что она слишком порядочна. Разве вы не видите, – продолжала она, – с каким чувством ответственности она к нему относится?
Стрезер видел, и чем дальше, тем больше, а потому видел и кое-что еще.
– Нам, пожалуй, хотелось бы, чтобы чувство ответственности проявлял к ней он.
– Он и проявляет. В своей манере. Вы должны простить ему, если он не вполне откровенен. В Париже о таких делахмолчат.
Понять это Стрезер мог, но все же!..
– Даже когда речь идет о порядочной женщине?
– Даже когда мужчина порядочен. В таких делах, – уже серьезным тоном объяснила она, – лучше поостеречься: можно произвести ложное впечатление. Ничто не производит на людей такого дурного впечатления, как сверхпорядочность, внезапно и неизвестно откуда взявшаяся.
– Ну вы говорите о людях низкого пошиба, – заявил он.
– Да? Я в восторге от ваших классификаций, – отвечала она. – Хотите, я, придравшись к случаю, дам вам по этому поводу мудрейший из всех, на какие способна, совет? Не цените и не судите ее по ней самой. Цените и судите ее только по тому, что видите в нем.
У него хватило мужества вдуматься в ход ее мыслей.
– Потому что тогда она мне понравится? – спросил он с таким видом, словно, при его живом воображении, уже расположился к ней душой, хотя не мог сразу же и в полной мере не понять, насколько это не вписывается в его замыслы. – Но разве я для этого сюда приехал?
Ей пришлось подтвердить – не для этого. Однако захотелось и кое-что добавить.
– Повремените принимать решения. Тут много разного намешано. Могут обнаружиться и чрезвычайные обстоятельства. Вы и в нем еще не все разглядели.
Это Стрезер, со своей стороны, признал, но с присущей ему проницательностью почувствовал опасность:
– А что, если, чем больше я в нем разгляжу, тем больше он мне понравится?
У мисс Гостри нашлось что возразить:
– Возможно, возможно… но молчать о ней тем не менее заставляет его не только забота о ней. Тут еще и ход. – И пояснила: – Он пытается ее потопить.
– Потопить? – От такого образа Стрезер даже вздрогнул.
– Ну, в том смысле, что в нем идет борьба, которую он частично хочет от вас скрыть. Не торопитесь – это единственный путь избежать ошибки, чтобы не казниться потом; со временем вы увидите. Ему, право, хочется от нее избавиться.
К этому моменту воображение нашего друга уже настолько живо нарисовало всю картину, что у него даже прервалось дыхание.
– После всего, что она для него сделала?
Мисс Гостри устремила на собеседника взгляд, который тут же сменился чарующей улыбкой:
– Он вовсе не такой хороший, каким вы его себе представляете.
Они осели в нем, эти слова, как предостережение и обещали изрядную помощь, но содействию, которое он пытался извлечь из них, при каждой встрече с Чэдом что-то мешало. Что тут стояло поперек, какая противодействующая сила? – спрашивал он себя. Несомненно, владевшее Стрезером ощущение, что Чэд действительно был как раз хорошим, – а его поведение убеждало в этом, – таким, каким он его себе представлял. Да и как мог он не быть хорошим, когда вовсе не был так уж плох. Во всяком случае, дни шли за днями, и встречи с Чэдом – как и непосредственное благоприятное впечатление от них, а другого, казалось, и быть не могло – полностью вытеснили из сознания Стрезера все остальное. Вновь появился на сцене Крошка Билхем; но теперь Крошка Билхем, даже больше, чем вначале, воспринимался им как одно из многочисленных приложений к его отношениям с Чэдом; как их следствие, вошедшее в сознание нашего друга благодаря нескольким эпизодам, о которых речь впереди. Даже Уэймарш оказался в данной ситуации втянутым в водоворот, который полностью, хотя и временно, его поглотил, так что случались дни, когда Стрезер наталкивался на своего приятеля где-нибудь в коридоре, словно тонущий пловец, вдруг натолкнувшийся на какой-то предмет под водой. Глубоководная среда – глубоководной средой были повадки Чэда – держала их, и Стрезеру казалось, будто они, каждый углубившись в себя, двигались, минуя друг друга, и молча глядели перед собой круглыми бесстрашными рыбьими глазами. Оба, что и говорить, понимали, что Уэймарш дает Стрезеру шанс, и от этой милости Стрезера охватывала скованность, напоминавшая чувство стеснения, которое он испытывал в школе, когда члены его семьи заявлялись на публичные экзамены. Он не стеснялся отвечать при посторонних, но присутствие родственников действовало на него роковым образом, и теперь ему казалось, будто Уэймарш все равно что родственник. Он словно слышал его голос: «А ну, выкладывай!» – и содрогался в преддверии дотошной критики, которой подвергнут его дома. Он и так уже «выложил» все, что мог; Чэд в полной мере знал, чего он хочет. Тем не менее его собрат паломник ждал от него грубого насилия. Зачем? Он не утаил ничего из того, что было у него на душе! Как бы там ни было, он не мог отделаться от мысли, что Уэймарш постоянно движим желанием сказать ему: «Говорил же я вам – вы только утратите свою бессмертную душу!» Но было совершенно очевидно, что и у Стрезера есть к приятелю свои претензии, и, по существу, он тратит не больше духовных сил, наблюдая за Чэдом, чем Чэд, наблюдая за ним. Да, ради исполнения долга он опускался в глубины – только чем это было хуже того, что делал Уэймарш? По крайней мере, у него уже не было нужды сопротивляться и все отвергать, не было нужды вести, на подобных условиях, переговоры с врагом.
Прогулки, имевшие целью осмотреть что-нибудь или куда-то зайти, в Париже были неизбежны и естественны, а поздние сборища в очаровательном troisième, прелестной квартире, когда там сходились мужчины, и обстановка, благодаря табачному дыму, музыке, более или менее благозвучной, беседе, более или менее разноязыкой, в принципе мало чем отличались от времяпрепровождения в утренние и дневные часы. И ничто, – в чем не мог не признаться себе Стрезер, откинувшись на стуле и куря сигарету, – так мало походило на сцену насилия, как даже самый бурный из этих вечеров. Тем не менее вечера эти проходили в спорах, и Стрезер в жизни не слышал такого множества мнений по такому множеству проблем. В Вулете тоже не боялись высказывать разные мнения, но от силы по трем-четырем вопросам. Под стать этому было и другое отличие: в Вулете при расхождении во мнениях, пусть немногочисленных, но глубоких, их высказывали тихо, даже робко, словно стесняясь. Не то на бульваре Мальзерб: здесь спорящие отнюдь не стеснялись выражать несогласие и были крайне далеки от того, чтобы стыдиться таких вещей – впрочем, и каких бы то ни было; напротив, часто казалось, что они намеренно изобретают контрдоводы, чтобы избежать единомыслия, которое убивает вкус к беседе. В Вулете подобные контроверзы были совершенно не приняты, хотя Стрезер помнил времена, когда он, сам не понимая, почему, испытывал острое желание полемизировать. Теперь он знал почему – ему хотелось всего лишь оживить беседу.
Воспоминания эти, однако, возникали лишь попутно, в целом же его дело положительно принимало неудачный оборот; нервы у него были натянуты до предела и единственно потому, что он не умел применять насилия. Когда он задавал себе вопрос: «Неужели он ничего не добьется?» – у него был такой вид, будто ему желательно это насилие спровоцировать. Однако было бы в высшей степени нелепо, если бы в поисках облегчения он стал такого рода желаниям потакать; вполне достаточно было и того, что единственное принятое им приглашение повергло его в трепет из-за своего достоинства. Неужели он ожидал, что Чэд станет вести себя непорядочно? Стрезер мог задать ему этот вопрос, но предусмотрительно задавал его самому себе. Он смог – правда, сравнительно недавно, точнее, всего несколько дней назад – оживить в себе первородную грубость, но при первом же постороннем взгляде предпочел изгнать ее, словно незаконно приобретенную вещь, даже из собственного поля зрения. Однако отклики на это все еще продолжали поступать в письмах миссис Ньюсем, и, читая их, он порой готов был упрекнуть ее в отсутствии такта. Разумеется, он тут же краснел от стыда, правда, более в силу необходимости разъяснений, чем по причине укоров совести, вовремя спохватываясь, что при всем старании с ее стороны она вряд ли могла так быстро набраться такта, как он. Ее такт находился в зависимости от Атлантического океана, Главной почтовой конторы и крутизны глобуса.
Однажды Чэд пригласил его на чашку чаю с немногими избранными, в узком кругу, и на этот раз включавшем мисс Бэррес. С бульвара Мальзерб Стрезер ушел вместе с тем, кого в письмах к миссис Ньюсем обыкновенно именовал милым мазилкой. У нашего друга были все основания видеть в нем, как ни странно, единственного человека, с которым Чэд, по его наблюдениям, поддерживал близкие отношения. Крошке Билхему было в другую сторону, тем не менее он из любезности составил Стрезеру компанию, и отчасти благодаря этой любезности они, когда начал накрапывать дождь, продолжили разговор в приютившем их кафе. Час, только что проведенный у Чэда, оказался для Стрезера весьма насыщенным; он имел беседу с мисс Бэррес, попенявшей ему за то, что он так и не выбрался к ней; к тому же его осенила счастливая идея – как помочь Уэймаршу обрести непринужденность. Тут, пожалуй, многого удалось бы достичь, внушив адвокату, что он пользуется успехом у этой леди, чья быстрая сообразительность по части всего, что казалось ей забавным, развязывала Стрезеру руки. Впрочем, она и сама всячески старалась выяснить, не в ее ли силах облегчить ему задачу относительно его блестящего протеже, и предлагала притушить священный гнев, заронив в мозгу его приятеля мысль, что даже в этом шатком мире существует возможность завязать тесные связи. И какие связи! Которые, можно считать, послужат ему украшением и благодаря которым его будут катать в coupé [38]38
карете (фр.).
[Закрыть]с оборками и перьями и обивкой, насколько Стрезер успел разглядеть, из синей парчи. Самого Стрезера ни разу не катали – по крайней мере, в подобного рода экипаже, где лакей помещается на переднем сиденье. Ему случалось ездить с мисс Гостри в наемных кебах, с миссис Покок, раз-другой, в ее кабриолете, с миссис Ньюсем в четырехместной коляске, и, естественно, на линейке в горах, но похождения друга намного превосходили его личный опыт. И сейчас он достаточно быстро показал собеседнику, каким несостоятельным в качестве всеобщего ментора и на сей раз скорее всего чувствует себя этот странный индивид.
– В какую игру, черт возьми, он играет? – Стрезер тут же дал понять, что имеет в виду вовсе не толстого господина в кафе, увлеченно стучавшего костяшками домино, а радушного хозяина, принимавшего их час назад, на счет которого он теперь, сидя на бархатной банкетке и окончательно отбросив всякую последовательность, позволил себе роскошь нескромности. – Когда же наконец я схвачу его за руку?
Крошка Билхем в раздумье посмотрел на собеседника почти с отеческим добродушием:
– Неужели вам здесь не нравится?
Стрезер рассмеялся: вопрос и в самом деле звучал забавно, и наш друг продолжал в том же духе:
– Нравится-не нравится тут ни при чем. Единственное, что мне может нравиться – это сознание, что он прислушивается ко мне. Вот я и спрашиваю вас: как, по-вашему, так это или не так? Скажите, эта особа… – Он всячески старался показать, будто просто ищет подтверждения, – порядочна?
Его собеседник сразу принял ответственный вид, но в ответственности этой сквозила уклончивая улыбка:
– О какой особе вы говорите?
За вопросом последовала пауза: оба молча уставились друг на друга.
– Ведь это же неправда, что он свободен. Любопытно, – спросил, недоумевая, Стрезер, – как он все-таки устраивается?
– Так под «особой» вы Чэда имеете в виду? – осведомился Билхем.
На мгновение Стрезер словно ушел в себя: кажется, он вновь обретал надежду.
– Поговорим о каждом из них по порядку, – сказал он, но тотчас сам сорвался: – Так у него есть женщина? Я, естественно, разумею такую, которую он по-настоящему боится, такую, которая делает с ним все что хочет!
– Ну это просто очаровательно! – мгновенно отозвался Билхем. – Почему вы раньше меня об этом не спросили?
– Нет, не гожусь я для такого дела! – вырвалось у нашего друга. Этого непроизвольного восклицания оказалось достаточно, чтобы Крошка Билхем стал осмотрительнее.
– Чэд – недюжинная натура, – заявил он как бы в объяснение и добавил: – Он очень изменился.
– Так вы тоже это видите?
– Насколько он стал лучше? Конечно. Думаю, это каждый видит. Только я не уверен, – вздохнул Крошка Билхем, – что он мне меньше нравился таким, каким был прежде.
– Он, стало быть, теперь совсем другой?
– Как вам сказать, – не сразу приступил к ответу молодой человек. – Я не уверен, что природа предназначила ему быть таким лощеным. Знаете, все равно, как новое издание старой любимой книги, исправленное и дополненное, приведенное в соответствие с сегодняшним днем. Но она уже не такая, какой вы знали ее и любили. Впрочем, вряд ли возможно, – пустился он в рассуждения, – чтобы он – я, во всяком случае, знаете ли, так не думаю – чтобы он вел, как вы изволили выразиться, какую-то игру. Он и вправду, полагаю, хочет вернуться домой и всерьез приняться за дело. Он способен посвятить себя делу, которое еще больше обогатит его и разовьет. Правда, тогда он уже не будет, – продолжал Билхем, – тем изрядно потертым старомодным томом, который так мне мил. Но я, разумеется, человек дурных правил, и, боюсь, если мир станет жить, как мне хочется, очень забавный это будет мир. Мне, если угодно, тоже следует отправиться домой и заняться каким-то делом. Только я, пожалуй, скорее умру – умру, и все. Так что мне нетрудно ответить «нет, не поеду», и я знаю, почему не поеду, и готов защищать свои доводы перед всеми, кто бы сюда ни пожаловал. Но все равно, – закончил он, – можете быть уверены, я и слова против не скажу, – я имею в виду, Чэду, – ни слова против ему не скажу. По-моему, это лучшее, что он может сделать. Ему, как видите, не очень-то тут хорошо.








