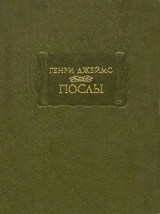
Текст книги "Послы"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 37 страниц)
– Стало быть, вы не до конца в нем уверены?
– Я как раз хотел спросить вас, что вы думаете на этот счет о мадам де Вионе.
Секунду-другую она молча смотрела на него.
– Разве хоть одна женщина может быть в чем-либо уверена до конца? Она рассказала мне, – добавила Мария, словно это пришлось к слову, – о вашей фантастической встрече за городом. После этого… à quoi se fier. [115]115
Здесь: ну что тут скажешь (фр.).
[Закрыть]
– Злосчастная случайность, немыслимая при всех мыслимых стечениях обстоятельств, – согласился Стрезер. – Да, поразительно. И все же, все же…
– И все же она не придала этому значения.
– Она ничему не придает значения.
– Ну, поскольку вы тоже, мы можем наконец перевести дух.
Он, кажется, был готов согласиться с ней, но не безоговорочно:
– Я придаю значение тому, что Чэд исчез.
– Пустое, – обронила она, – вы его вернете. Теперь вы, по крайней мере, знаете, почему я тогда уехала в Ментон.
Он дал ей весьма убедительно понять, что сделал выводы из имеющихся в его распоряжении фактов, тем не менее у нее было вполне оправданное желание внести полную ясность:
– Я не хотела, чтобы вы задали мне этот вопрос.
– Задал его вам?
– Задали вопрос о том, в чем вам пришлось… на прошлой неделе… убедиться наконец воочию. Мне не хотелось быть поставленной перед необходимостью лгать ради нее. Это уже было бы слишком! От мужчины, разумеется, такое можно требовать. Я имею в виду – солгать ради женщины. Но нельзя же требовать, чтобы это сделала женщина ради другой женщины; если только речь не идет об услуге за услугу, когда это делается как бы в целях самозащиты. Но я не нуждаюсь в защите, поэтому ничто не мешало мне «улепетнуть» – просто чтобы дать вам возможность самому увертываться от испытания. Я не хотела брать на себя ответственность. Мне удалось выиграть время: когда я возвратилась, надобность в испытании отпала.
Стрезер с невозмутимым видом принял брошенный ему вызов.
– Да, когда вы возвратились, Крошка Билхем успел уже продемонстрировать все, что требуется от джентльмена. Крошка Билхем лгал как джентльмен.
– А как кто вы ему отвечали?
– Ну, – сказал Стрезер, – это часто была номинальная ложь: он назвал их отношения добродетельными. Многое говорило в пользу такого мнения; добродетель обнаруживалась буквально на каждом шагу. Самым баснословным образом. Наконец я получил все сполна – прямо в лицо. Как видите, я до сих пор не могу опомниться.
– Вижу, вернее, видела, как вы пытались принарядить даже самое добродетель. Вы были удивительны – неподражаемы. Хотя я уже не раз имела удовольствие говорить это вам. Но если хотите знать правду, – с грустью призналась она, – я никогда не могла за вас поручиться, сказать, что у вас на уме. Порой вы казались мне крайне скептичным, порой крайне неуверенным.
– У меня были разные фазисы, – признался он. – Были и взлеты.
– Да, но для всего нужны основания.
– Основанием для меня служило то, что она прекрасна.
– Вы имеете в виду прекрасна внешне?
– Прекрасна во всем. Впечатление, которое она производит. Она так многогранна и при этом так гармонична.
Мария выслушала его с выражением дружеской терпимости, во много раз превосходившей то болезненное раздражение, которое приходилось подавлять.
– Вы, как всегда, исчерпывающе точны.
– А вы, как всегда, переводите на личности, – ответил он добродушно, – но все обстояло именно так. Я заблуждался.
– Если вы хотите сказать, – продолжала она, – что с первой минуты она была для вас самой пленительной женщиной на свете, что может быть проще. Только это странное основание.
– Для того, что я возвел на нем?
– Для того, что вы не возвели.
– Ну, для меня все это не было постоянной величиной. Содержало в себе – до сих пор содержит – столько необычного. Разница в их возрасте, ее принадлежность к другому обществу, другие традиции, связи, другие возможности, обязанности, критерии.
Его приятельница почтительно выслушала перечень всех этих несоответствий. Затем единым духом все перечеркнула:
– Все это равно нулю, когда женщина теряет голову. Это очень страшно. А она потеряла голову.
Стрезер счел справедливым приведенный довод.
– Разумеется, я видел, что она потеряла голову. То, что она потеряла голову, не давало нам покоя. Было главной нашей заботой. Я как-то не мог представить себе ее поверженной во прах. Да еще по милости нашего голубчика Чэда.
– Не явил ли ваш голубчик Чэд подлинное чудо?
Стрезер не стал этого отрицать.
– Разумеется, я обретался в мире чудес, это была фантасмагория. Но суть в том, что по большей части это было не мое дело. А я не привык вмешиваться в чужие дела. Мне и сейчас это так видится.
При этих словах его собеседница отошла от него, возможно, вновь со всей остротой ощутив, как мало обнадеживающего для нее самой содержится в его философском отношении к жизни.
– Хорошо, если бы она могла вас слышать.
– Миссис Ньюсем?
– Нет, не миссис Ньюсем. Насколько я понимаю, теперь не имеет значения, что услышит миссис Ньюсем. Мне кажется, она уже слышала все.
– Да, в основном. – Ненадолго задумавшись, он продолжал: – Вы хотите сказать, хорошо, если бы меня могла слышать мадам де Вионе?
– Да, мадам де Вионе. – Мария снова приблизилась к нему. – Она считает, что все обстоит иначе, что вы ее осуждаете.
Он попытался представить себе, как протекало объяснение между двумя этими женщинами, которые занимали в его жизни такое значительное место.
– Она могла бы знать!
– Знать, что вы не осуждаете ее? – договорила за него, так как он замолчал, мисс Гостри. – Сначала она не сомневалась, что вы не осуждаете, – продолжала Мария, поскольку он молчал. – Это казалось ей само собой разумеющимся, как, впрочем, и любой другой женщине в ее положении. Но потом она изменила мнение, она говорила, что вы верите…
– Да?
Любопытство его было возбуждено.
– В возвышенность ее чувств. И она пребывала, насколько я помню, в этой уверенности, пока на днях злосчастная случайность не открыла вам глаза. Эта случайность открыла вам глаза, – продолжала Мария, – так ведь?
– Думаю, она все еще ломает над этим голову, – размышлял он вслух.
– Стало быть, они были закрыты? Ваши глаза? Вот видите! Но раз она по-прежнему, на ваш взгляд, самая пленительная женщина на свете, все остается без изменений. И если вы хотите, чтобы я сказала ей, что она для вас все та же…
Словом, мисс Гостри предлагала свои услуги, она хотела быть ему полезной до конца. Несколько мгновений он тешил себя этой мыслью. Потом ее отбросил.
– Она прекрасно знает, какого я о ней мнения.
– Не слишком благоприятного. Она упомянула, что вы не хотите ее больше видеть. Она сказала мне, что вы расстались с ней навсегда. Она говорит – вы с ней покончили.
– Это правда.
Мария помедлила и, словно для очистки совести, проговорила:
– Она с вами не покончила, она этого не хочет. У нее такое чувство, будто она вас лишилась… При том, что она могла бы дать вам больше.
– О нет. Она дала мне достаточно! – рассмеялся он.
– Она считает, что вы могли бы, во всяком случае, стать с ней друзьями.
– Разумеется, могли бы. Поэтому, – продолжал он, смеясь, – я и уезжаю.
Мария словно наконец почувствовала после его слов, что сделала для них обоих все возможное. Но тут ей пришла в голову еще одна мысль.
– Хотите, я передам ей это?
– Нет, не надо ничего передавать.
– Хорошо. – И, переведя дух, добавила: – Бедняжка!
– Я? – Стрезер в недоумении поднял брови.
– О нет. Мария де Вионе.
Он принял к сведению эту поправку, но продолжал недоумевать:
– Вам так ее жаль?
Это заставило мисс Гостри на мгновение задуматься, заставило даже с улыбкой ответить. Но она не дрогнула.
– Мне жаль всех нас!
XXXV
Ему надо было снова без промедления связаться с Чэдом, и, узнав от мисс Гостри об исчезновении молодого человека, он тотчас заявил ей о своем намерении. Но не только – вернее, не столько – данное им обещание побуждало его к этому; его подгоняла необходимость согласовать свои действия с еще одним сделанным им заверением – та главная причина, вследствие которой, как он сказал мисс Гостри, ему надо теперь поспешить прочь. Если он должен поспешить прочь из-за неких отношений, связанных с дальнейшим пребыванием в Париже, проявление им холодности, вздумай он задержаться, можно было бы счесть просто за дезертирство. Нужно было сделать и то и другое. Нужно повидать Чэда и нужно уехать. Чем больше он думал о первом из этих обстоятельств, тем настоятельней росло стремление выполнить второе. Они одинаково неотступно присутствовали в нем, в то время пока он сидел под тентом скромного кафе, куда зашел мимоходом, покинув тихие комнатки Марии Гостри. Дождь, испортивший ему вечер, кончился; им все еще владело чувство, будто вечер испорчен, – хотя, возможно, не только по вине дождя. Было уже поздно, когда Стрезер покинул кафе, но, во всяком случае, не достаточно поздно, чтобы заставить себя пойти и сразу лечь спать, и он решил отправиться домой кружным путем – через бульвар Мальзерб. В его сознании застряло одно незначительное обстоятельство, послужившее отправной точкой весьма значительных перемен – появление на балконе troisième, когда он впервые явился туда с визитом, Крошки Билхема и воздействие, какое это памятное ему обстоятельство оказало на восприятие им всего, что еще было тогда для него впереди. Он вспомнил свое тогдашнее ожидание, свой дозор и приветствие, произнесенное юным незнакомцем откровенно наугад, заставившее его, Стрезера, внезапно остановиться, – словом, мелочи, расчистившие ему путь, облегчившие первые шаги. С тех пор ему не раз случалось проходить мимо дома не заходя, но всякий раз, когда он проходил мимо, он ощущал то воздействие, которое дом оказал на него тогда. Стоило этому дому показаться сейчас, как Стрезер замер на месте; словно последний день его пребывания в Париже странным образом повторял первый. Из окон квартиры Чэда, выходивших на балкон, два были освещены, и на балконе появился мужчина – Стрезер мог с легкостью разглядеть огонек его сигареты, – который, подобно Крошке Билхему, облокотился о перила и бросил взгляд на Стрезера. Но это отнюдь не был его вновь появившийся юный друг. Обозначившаяся в зыбких сумерках фигура была куда более крупной и принадлежала Чэду; шагнув на мостовую, подав ему знак, Стрезер мгновенно привлек его внимание, и голос, который тут же, и по всей видимости радостно, откликнулся в вечерней мгле, приветствуя Стрезера и призывая его подняться наверх, тоже принадлежал Чэду.
Поза Чэда, когда Стрезер неожиданно для себя увидел его на балконе, отчасти подтверждала сведения, полученные Стрезером от мисс Гостри, что Чэд находится в отсутствии и молчит. Переводя дыхание на каждой лестничной площадке – лифт в этот час уже не работал, – Стрезер старался постичь скрытый смысл, заключавшийся в этих фактах. Целую неделю Чэд подчеркнуто отсутствовал: он был далеко и один, но сейчас, как никогда, присутствовал здесь; состояние, в котором застал его Стрезер, означало нечто большее чем возвращение: оно безусловно означало сознательную капитуляцию. Чэд прибыл всего час назад из Лондона, Люцерна, Гамбурга – словом, не важно откуда, хотя гостю, взбиравшемуся по лестнице, желательно было бы восполнить все пробелы, – и после ванны, разговора с Батистом, легкого ужина из изысканных холодных блюд, остатки которого можно было и сейчас разглядеть там, в кругу света, падавшего от изящной ультрапарижской лампы, Чэд вышел на воздух выкурить сигарету и, когда к дому подошел Стрезер, был занят тем, что как бы заново вступал в свою привычную жизнь. Его жизнь, его жизнь! – Стрезер еще раз помедлил на ступенях последнего лестничного марша, изрядно при этом запыхавшись и окончательно представив себе, что жизнь Чэда проделывала с послом его матушки: заставляла тащиться в самое неподходящее время вверх по лестницам богатых особняков, бодрствовать далеко за полночь в конце долгих жарких дней, изменила до неузнаваемости то простое неуловимое удобно-однообразное нечто, некогда принимаемое Стрезером за его собственную жизнь. Да с какой стати должно его заботить, что у Чэда вошло в привычку курить не без приятности на балконах, есть на ужин салаты, ощущать, как его особые обстоятельства вновь утверждают себя, и обретать спокойствие в сравнениях и сопоставлениях? Стрезер не находил ответа на свой вопрос – разве только он продолжал бы следовать велению долга; пожалуй, никогда еще ему не было это так ясно. Он почувствовал себя старым, а завтра, когда он купит билет на поезд, будет чувствовать себя и вовсе стариком; а между тем в полночь, без лифта он одолел четыре марша, включая антресоли, и все это ради Чэда. Сам Чэд, услышав приближающиеся шаги – Батиста он уже отослал спать, – встретил гостя, стоя в дверях, так что Стрезер имел возможность воочию в полный рост увидеть то, во имя чего он трудился, не жалея сил, настолько, что, достигнув troisième, едва мог перевести дух.
Молодой человек, как всегда, оказал ему прием, отменно сочетавший радушие и хороший тон, за которым скрывалась почтительность, выразил надежду, что ему разрешено будет оставить у себя гостя ночевать, после чего Стрезер получил искомый ключ, коль скоро позволено назвать это так, ко всем недавним событиям. Если он только что почувствовал себя старым, то Чэду, при первом же на него взгляде, он, вероятно, показался глубоким стариком; Чэд пожелал оставить его у себя ночевать по той причине, что он был дряхлым и немощным. Стрезер и так никогда не мог пожаловаться на недостаток доброго к себе отношения со стороны хозяина этих апартаментов, хозяина, который, будь на то его воля, дал бы ему приют и готов был, по-видимому, обставить свое предложение вполне основательно. У Стрезера сложилось мнение, что при малейшем поощрении с его стороны Чэд дал бы ему приют на неопределенный срок; мнение, которое совпадало с одним из вариантов его собственных видов на будущее, и мадам де Вионе тоже хотела, чтобы он остался! – значит, все очень удачно сошлось. Он мог бы до конца своих дней находиться в chambre d’ami [116]116
гостевой комнате (фр.).
[Закрыть]молодого хозяина дома в качестве домашнего божка и длить эти дни за счет того же молодого хозяина дома, и едва ли существовал более логичный выход после невольно оказанной им моральной поддержки. Как ни странно, но ему буквально в какое-то мгновение вдруг открылось, что все его поведение – а иначе вести себя он не мог – являлось, на посторонний взгляд, крайне непоследовательным. Ну и пусть. Ведь для того, чтобы внутренний закон, которому он подчиняется, не был нарушен, нужно лишь одно: всегда, как правило, вопреки собственным интересам, стоять на часах, защищая правое дело. Все эти мысли промелькнули у него в голове за какие-то несколько минут пребывания в обществе Чэда, но, в сущности, он тут же и покончил с ними, вспомнив, с какой целью пришел. Он пришел, чтобы попрощаться, хотя этим цель его визита не исчерпывалась, и поскольку Чэд примирился с мыслью, что это его прощальный визит, вопрос о более идеальной развязке отпал сам собой, уступив место другому. Стрезер тотчас приступил к главному своему делу.
– Ты будешь законченным негодяем, слышишь, покроешь себя несмываемым позором, если когда-нибудь покинешь ее!
Слова эти, сказанные в столь торжественный час, сказанные там, где все дышало ею, были главным его делом, и едва он произнес их вслух, как сразу же почувствовал, что только теперь до конца выполнил свою миссию. Его нынешний визит тут же обрел надежное основание, и это позволило ему чуть ли не играючи орудовать в разговоре тем, что мы назвали ключом. Чэд не выказал и тени смущения, однако не скрыл, что тревожился за Стрезера после их недолгой загородной встречи, тревожился настолько, что у него появились сомнения и опасения относительно душевного состояния его старшего друга. Чэд беспокоился только о нем, Стрезере, и уехал единственно для того, чтобы снять напряжение, помочь Стрезеру собраться с духом, или, иными словами, упасть с неба на землю как можно мягче. Видя его теперь явно приунывшим, Чэд со свойственным ему добродушием готов был полностью пойти ему навстречу, и Стрезеру стало предельно ясно, что Чэд будет до последнего момента осыпать его самыми правдивыми заверениями. Вот что произошло между ними, пока Стрезер находился у Чэда в гостях: отнюдь не касаясь привычных тем, занимавший гостя хозяин дома просто жаждал с ним во всем согласиться и вовсе не счел преувеличением, что был бы «законченным негодяем».
– Еще бы… если бы я сделал что-нибудь подобное… Надеюсь, вы верите, что я и на самом деле так считаю.
– Я хочу, – сказал Стрезер, – чтобы ты запомнил это как последние обращенные к тебе слова. Не знаю, что еще я мог бы тебе сказать или что еще мог бы сделать сверх того, что уже сделал.
Чэд воспринял это, почти не притворяясь, как прямой намек.
– Вы виделись с нею?
– Да, виделся… заходил, чтобы попрощаться. И если бы я сомневался в правильности того, что тебе говорю…
– Она бы ваши сомнения развеяла. – Чэд – ну еще бы! – все понял. И это заставило его даже ненадолго замолчать, хотя он тут же спохватился. – Она, надо полагать, была бесподобна?
– О да, – откровенно признался Стрезер.
Вот и все, что было сказано между ними по поводу обстоятельств, сложившихся в результате той злосчастной случайности. Оба, вероятно, мысленно возвращались к происшедшей на прошлой неделе встрече за городом. Это стало очевидным, когда Чэд сказал:
– Не знаю, что вы на самом деле все это время думали, и не знал никогда – от вас, право, всего можно ожидать. Но естественно… естественно… – И он без тени смущения, скорее с явной снисходительностью запнулся, сделал паузу. – В конечном счете, сами понимаете, я говорил с вами так, как должен был… Иначе и не полагается – вы согласны? – говорить о подобных вещах. Однако, – он улыбнулся и с философским видом заключил, – все ведь окончилось благополучно.
Обуреваемый всевозможными мыслями, Стрезер встретился с ним глазами. Почему он сейчас, поздно ночью, после совершенного им путешествия, кажется таким обновленно, таким бесконечно молодым? Стрезер мгновенно понял почему – да потому, что он моложе, да, моложе мадам де Вионе. Стрезер не высказал вслух всего, что пришло ему в голову; он сказал совсем другое:
– Ты действительно был где-то далеко?
– Я был в Англии, – охотно, без секунды промедления ответил Чэд, но от дальнейших объяснений воздержался и лишь добавил: – Иногда необходимо поменять обстановку.
Стрезер вовсе не жаждал вдаваться в подробности, он жаждал только тем или иным образом оправдать свой вопрос.
– Разумеется, ты волен поступать как тебе заблагорассудится. Но, надеюсь, на этот раз ты уезжал не из-за меня?
– Из-за того, чтобы избавиться от стыда, зная, как мы вас замучили! Ох, мой дорогой друг, – Чэд от души рассмеялся, – чего бы только я не сделал ради вас!
Стрезер не преминул ответить, что хочет воспользоваться этим его расположением.
– Даже рискуя наскучить вам, я, как ты знаешь, оставался здесь по определенной причине.
Чэд помолчал, обдумывая его слова.
– О да… чтобы мы произвели на вас, коль скоро это возможно, еще лучшее впечатление. – И он сделал паузу, довольный, что ему наконец удалось вполне к месту обнаружить полное свое понимание. – И я в восторге, заключая из ваших слов, что нам это удалось.
Он произнес это с милой насмешливостью, которую его поглощенный своими мыслями, не желающий отклоняться от темы гость не воспринял.
– Если я проявил здравый смысл, полагая, что мне понадобится все остальное время… время их пребывания здесь, – продолжал объяснять Стрезер, – теперь мне ясно, почему оно мне понадобилось.
Он говорил серьезно, отчетливо, как лектор, обращающийся к аудитории, а Чэд внимал ему, как понятливый ученик.
– Потому что хотели испить чашу до дна?
Некоторое время Стрезер молчал, взгляд его обратился к открытому окну – к сумеречной дали.
– Я справлюсь в банке, куда им теперь переадресовывают письма; утром напишу им о своем решении, которого они, вероятно, ждут. Мой окончательный вердикт будет доставлен им без промедления.
Лицо Чэда, на которое Стрезер вновь устремил глаза, в достаточной мере отражало, как усваивается Чэдом личное местоимение во множественном числе, и Стрезер перешел к заключительной части своей лекции. Он продолжал, как бы говоря с самим собой:
– Конечно, сначала я должен обосновать то, что собираюсь сделать.
– Вы великолепно умеете обосновывать, – заявил Чэд.
– Речь не о том, что я советую тебе не уезжать, а о том, что категорически запрещаю тебе даже думать о такой возможности. Заклинаю тебя всем, что для тебя свято!
– А почему вы думаете, что я способен?.. – удивился Чэд.
– Ты был бы тогда не только, как я уже сказал, законченным негодяем, – продолжал тем же тоном его собеседник, – ты был бы хуже чем преступник!
Чэд посмотрел на него еще внимательнее, словно пытаясь оценить степень его подозрений.
– Не понимаю, из чего вы заключили, что она мне наскучила?
Стрезер сам не до конца это понимал. У восприимчивых натур подобные впечатления рождаются неуловимо, мимолетно, так что невозможно привести в их пользу убедительные доводы. Однако в том, что в ответе Чэда прозвучал намек на пресыщенность как возможный повод для разрыва, Стрезеру послышались зловещие нотки.
– Я чувствую, сколько еще она может сделать для тебя, она сделала далеко не все. Оставайся с нею, по крайней мере, до тех пор.
– И покинуть ее после? – Чэд по-прежнему улыбался, но улыбка его пропала втуне: тон его собеседника стал еще жестче.
– Не покидай ее до.Когда ты получишь от нее все, что можно получить… Надеюсь, ты не понял меня превратно, – добавил он с мрачноватой суровостью. – Я не хочу сказать, что тогда будет самое время. Но поскольку от такой женщины всегда можно еще что-нибудь получить, в моем замечании нет ничего для нее обидного. – Чэд не прерывал его, он слушал с должным почтением, слушал, пожалуй, даже с откровенным любопытством эти намеренно подчеркнутые слова. – Я помню тебя таким, каким ты был когда-то.
– Болван болваном? – Ответ последовал с такой молниеносной быстротой, словно Стрезер надавил пружинку; в молодом человеке отразился такой избыток готовности, что Стрезер вздрогнул и не сразу нашелся.
– Во всяком случае, ты едва ли тогда стоил того, что я из-за тебя перетерпел. Сам ты охарактеризовал себя более точно. Цена тебе возросла пятикратно.
– Быть может, этого достаточно? – дерзнул заметить Чэд шутливым тоном, к которому Стрезер остался глух.
– Достаточно? – переспросил он.
– А если я имею намерение жить на проценты с приобретенного капитала? – Но его собеседник по-прежнему не удостоил внимания его шутливый тон, и Чэд без труда этот тон отбросил. – Конечно, я помню, денно и нощно, чем я ей обязан. Я обязан ей всем. Поверьте, – голос его звучал вполне искренне, – она ни капельки мне не надоела.
Стрезер широко открыл глаза: подумать только, в какие слова позволяют себе нынешние молодые люди облекать свои мысли! Всякий раз только диву даешься. Чэд ведь не имел в виду ничего дурного, хотя от него всего можно было ожидать, но он произнес «надоела» так, как если бы речь шла о том, что ему надоело есть в качестве второго блюда жареную баранину.
– Мне еще ни разу, ни на одно мгновение не было с нею скучно, я ни разу не мог упрекнуть ее в отсутствии такта, в чем иногда можно упрекнуть даже самых умных женщин. Она никогда не говорит о своем такте – а женщины этим грешат, даже самые умные, – просто проявляет во всех случаях жизни. Но ни разу не проявляла его в такой мере, с таким благородством, – заключил он для большей убедительности, – как на днях. – И со всей добросовестностью присовокупил: – Она еще ни разу не была мне в тягость.
Стрезер помолчал, потом еще суровее произнес:
– Ну, если бы ты не отдавал ей должное…
– Я был бы отпетым негодяем?
В дальнейшие объяснения по этому поводу Стрезер пускаться не стал – это могло бы завести слишком далеко. И поскольку ему ничего не оставалось, как повторяться, счел за благо произнести вновь:
– Ты обязан ей всем – несравненно больше, чем она могла бы быть тебе обязана. Иными словами, твой долг перед ней безоговорочный. Не допускаю и мысли, что кто-то другой может притязать на это с большим правом.
Чэд взглянул на него с улыбкой.
– Насчет других вам, разумеется, все известно лучше, чем мне: ведь не кто иной, как вы, сообщили мне об их притязаниях.
– Не спорю… я делал все, что было в моих силах, но лишь до тех пор, пока мое место не заняла твоя сестра.
– Она его не заняла, – возразил Чэд. – Да, она пришла вам на смену, однако я с самого начала знал, что ей вас не заменить. Вас никто не может заменить… Это невозможно. Ваше место навсегда за вами.
– Да, конечно, – вздохнул Стрезер. – Я знал это. И думаю, ты прав. Никто на свете не относится к некоторым вещам так непроходимо серьезно. Ничего не поделаешь, – добавил он, снова вздохнув, словно чувствовал себя несколько странно вследствие только что изреченной истины, – таким уж я создан.
Минуту-другую Чэд обдумывал то, каким Стрезер создан, и, по-видимому, с этой целью изучающе на него смотрел. Вывод, к которому он пришел, был, судя по всему, благоприятным.
– Вам никогда не нужно было, чтобы вас улучшали. Да и не нашелся бы никто на это способный. Никому бы это не удалось, – заявил Чэд.
– Прошу прощения, удалось, – не сразу проговорил Стрезер.
– Кому же? – с сомнением и слегка забавляясь спросил Чэд.
– Женщинам, разумеется, – ответил с туманной улыбкой Стрезер.
– Женщинам? – глядя на него во все глаза, рассмеялся Чэд. – На это, по-моему, способна одна-единственная! Как бы то ни было, – добавил он, – грустно, что я должен вас лишиться.
Стрезер, который собрался было уже сняться с места, помедлил.
– Тебе не страшно?..
– Страшно?..
– Не страшно сбиться с пути, как только я спущу с тебя глаза? – Не дожидаясь, пока Чэд ему ответит, Стрезер поднялся. – Нет, я, право же, – одернув себя, рассмеялся он, – я просто поразителен.
– Да, вы неслыханно нас избаловали!
Со стороны Чэда это было едва ли не чрезмерно расточительным проявлением чувства, но за этим, совершенно очевидно, стояло желание успокоить, желание победить недоверчивость и обещание не отступаться. Схватив на ходу в передней цилиндр, он вышел вместе со своим добрым другом из квартиры, спустился с ним по лестнице, взял его на улице – как бы в знак признательности – под руку, обходясь с ним не то чтобы как с человеком дряхлым или очень пожилым, а скорее как бы с благородным чудаком, нуждающимся в бережном обращении. Не отставая ни на шаг, он шел рядом со Стрезером и дальше, квартал за кварталом. «Ничего не надо говорить, ничего не надо говорить» – снова и снова давал он почувствовать Стрезеру на протяжении всего пути. Его «ничего не надо говорить», по крайней мере сейчас, в минуту относительного расставания, означало, что не надо говорить вообще о чем бы то ни было, хоть сколько-нибудь его касающемся. Стрезер прекрасно понимал, что на самом деле происходит с Чэдом: он осознал, прочувствовал и клятвенно подтвердил свой зарок, и все это продолжалось и продолжалось, как это было тогда, в тот первый вечер, когда они возвращались в гостиницу, где стоял Стрезер. Чэд получил в этот час все, что способен был воспринять; он дал ему все, что мог, и посему чувствовал себя израсходованным так, словно издержал все до последнего гроша. Но существовала одна вещь, по поводу которой Чэд склонен был, по-видимому, прежде чем они разойдутся в разные стороны, слегка поторговаться. Как уже было сказано, он просил своего собеседника ничего ему не говорить, однако себе он позволил упомянуть, что ему удалось разузнать кое-что интересное по части искусства рекламы. Он высказался неожиданно, и Стрезер, естественно, терялся в догадках: не это ли заставило Чэда вдруг, из странной прихоти, отправиться в Лондон. Так или иначе, Чэд изучал этот вопрос и, по-видимому, сделал некое открытие: реклама, если заняться ею всерьез и по-научному, является новой могучей силой.
– Она просто творит чудеса!
Теперь, как и в первый вечер их встречи, они стояли под уличным фонарем, и Стрезер, вне всякого сомнения, казался озадаченным.
– Ты хочешь сказать, влияет на сбыт рекламируемого изделия?
– Да, влияет, и чрезвычайно. Трудно даже представить себе, до какой степени. Я, конечно, имею в виду, когда это делается так, как, очевидно, нужно делать все в наш громогласный век, – со знанием дела. Мне удалось разузнать кое-что, хотя вряд ли многим больше, чем то, что вы первоначально так ярко, так в общем-то очень похоже живописали. Словом, это искусство, как и всякое другое, и возможности его безграничны, – продолжал Чэд, словно шутки ради, словно потому, что его забавляло выражение лица его старшего друга. – Естественно, в руках мастера. Когда за это берется мастер – c’est un monde! [117]117
это целый мир! (фр.)
[Закрыть]
Стрезер смотрел на него так, как если бы он ни с того ни с сего принялся прямо на тротуаре выделывать какие-то причудливые па.
– И ты думаешь, что мог бы оказаться таким вот мастером?
Откинув полы своего светлого пиджака, засунув большие пальцы в проемы жилета, Чэд быстро перебирал остальными восемью пальцами.
– Не сами ли вы приняли меня за такого, когда сюда приехали?
Стрезеру чуть было не сделалось дурно, но он заставил себя сосредоточиться.
– О да, если исходить из твоих врожденных способностей, у тебя, несомненно, большое сходство по этой части. Но пока еще секрет успеха в рекламном деле ждет своего обнаружения. Вполне возможно, ты им овладеешь, если посвятишь себя этому делу всерьез и надолго, – так, чтобы оно закипело у тебя по всей стране. Твоя матушка претендует на тебя целиком и полностью. И это сильная ее сторона.
Пальцы Чэда продолжали порхать, но тон свой он сбавил:
– Мне казалось, вопрос этот, вопрос о моей матушке, исчерпан!
– Я был того же мнения! Но почему же ты вновь затронул эту тему?
– Чтобы кончить там, где мы начали. Я проявляю к этому чисто платонический интерес. Тем не менее факт остается фактом – правда, несвершившимся фактом. Я имею в виду, какие тут замешаны огромные деньги.
– Будь они прокляты, эти деньги! – воскликнул Стрезер и, поскольку от застывшей на лице Чэда улыбки веяло все большим холодом, добавил: – Ты что же, ради денег намерен отказаться от нее?
Чэд замер на месте – в той же позе, с тем же выражением лица.
– Не слишком-то вы добры – при всем вашем хваленом глубокомыслии. Разве я не утолил вашу жажду, не доказал вам, как высоко ценю вас? Чт оя все это время делал, чт опродолжаю делать, как не храню ей верность? Верность до самой смерти! Только хотелось бы знать, – продолжал добродушно объяснять он, – где она подстерегает тебя, эта самая смерть. Вас не должно это тревожить. Человеку желательно знать, – развивал он свою мысль, – какой куш он отшвыривает пинком.








