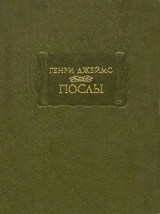
Текст книги "Послы"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 37 страниц)
– «Обозрению»? Вы выпускаете «Обозрение»?
– Точно так. В Вулете есть свое «Обозрение», и миссис Ньюсем почти полностью и с блеском его содержит, а я, правда не столь блестяще, редактирую. Мое имя значится на обложке, и я, право, обескуражен, даже обижен, что вы, очевидно, о нем ничего не слыхали.
Она пропустила упрек мимо ушей.
– И каково же это ваше «Обозрение»?
Настороженность все еще не отпускала его.
– Зеленое.
– Вы имеете в виду политическую окраску, как здесь принято говорить – направление мысли?
– Нет. Обложку. Она – зеленая, и премилого оттенка.
– А имя миссис Ньюсем там тоже есть?
Он замялся.
– О, что до этого, судите сами, насколько оно просматривается. На миссис Ньюсем держится все издание, но при ее деликатности и осмотрительности…
Мисс Гостри мгновенно все уловила.
– Да, конечно. Именно такой она и должна быть. Я, поверьте, могу оценить ее по достоинству. Она, без сомнения, большой человек.
– Да, большой человек.
– Большой человек… города Вулета – bon! [13]13
Превосходно! (фр.)
[Закрыть]Мне нравится мысль о большом человеке города Вулета. Вы, наверное, тоже большой человек, коль скоро связаны с ней.
– О нет, – сказал Стрезер, – тут действует иной механизм.
Она мгновенно подхватила:
– Иной механизм – не надо морочить мне голову! – который действует так, что вы остаетесь в тени.
– Помилуйте! Мое имя стоит на обложке! – резонно возразил он.
– Да, но вы не ради себя его туда поставили.
– Прошу прощения – именно ради себя мне и пришлось его туда поставить. Это, видите ли, в некоторой степени возмещает крушение надежд и честолюбивых помыслов, расчищает мусорные завалы разочарований и неудач – единственный зримый знак, что я существую.
Она бросила на него быстрый взгляд, словно собираясь многое сказать, но все, что она сказала, свелось к следующему:
– Ей нравится видеть его там. Из вас двоих вы – фигура крупнее. И знаете почему? Потому что не считаете себя таковой. А она себя считает. Впрочем, – продолжала мисс Гостри, – вас тоже. Во всяком случае, в ее окружении вы самое значительное лицо из всех, на кого она может наложить руку. – Мисс Гостри писала вязью, мисс Гостри усердствовала. – Я говорю об этом вовсе не потому, что хочу рассорить вас с ней, но рано или поздно отыщется кто-нибудь покрупнее…
Стрезер внимал, вскинув голову, словно любуясь своей собеседницей и поражаясь ее дерзости и счастливому дару прозрения, тогда как ее заносило все выше и выше.
– А потому вам надо крепить союз с ней, – заявила она и замолчала, словно что-то обдумывая.
– Крепить союз с ней? – повторил Стрезер.
– Да, чтобы не утратить свой шанс.
Глаза их встретились.
– Что вы понимаете под союзом?
– А в чем вы видите свой шанс? Откройтесь мне до конца, и я выложу все, что думаю. Кстати, она очень с этим делом носится?
– С чем? С «Обозрением»? – Он мешкал с ответом, не находя точного слова. И в результате произнес нечто весьма обтекаемое: – Она приносит дань своим идеалам.
– Вот как. Вы отстаиваете высокие цели.
– Мы отстаиваем то, что не пользуется общим признанием, – естественно, в той мере, в какой осмеливаемся.
– И какова эта мера?
– У нее огромна, у меня гораздо меньше. Я ей тут в подметки не гожусь. Она на три четверти – душа всего издания и целиком, как я уже вам докладывал, его оплачивает.
Перед глазами мисс Гостри почему-то возникла груда золота, а в ушах зазвенело от ссыпающихся в кассу блестящих долларов.
– Что ж, вы делаете превосходное дело!
– Только не я! Я тут ни при чем.
Она нашлась не сразу.
– Как же еще назвать дело, за которое вас любят?
– О, нас не дарят ни любовью, ни даже ненавистью. Нас просто благодушно не замечают.
Она помолчала.
– Нет, вы не доверяете мне, – снова сказала она.
– Помилуйте! Я снял перед вами последний покров, обнажил тайное из тайных.
Она вновь посмотрела ему прямо в глаза, но тут же с нетерпеливой поспешностью отвела взгляд.
– Значит, ваше «Обозрение» не раскупают? Знаете, я этому рада. – И, прежде чем он успел возразить, воскликнула: – Нет, она не только большой человек, но человек большой нравственности!
Такое определение он принял всей душой.
– Думается, вы нашли верное слово.
Это подтверждение породило, однако, в ее мыслях в высшей степени странные связи.
– А как она причесывает волосы?
Стрезер рассмеялся:
– Восхитительно!
– Ну это ни о чем не говорит. Впрочем, не важно… Я и так знаю. Она носит их совсем гладко – живой укор всем нам. И они у нее прегустые, без единой седой пряди. Вот так.
Он покраснел: его покоробила натуралистичность, его изумила верность этого описания.
– Вы сущий дьявол.
– Разумеется. А кто же еще? Разве я не сущим дьяволом впилась в вас? Но вам не стоит беспокоиться: в нашем возрасте только сущий дьявол не наводит скуки и тоски, да и от него, голубчика, если по большому счету, не ахти как весело. – И тут же, не переводя дыхания, вернула разговор к исходной теме: – Вы помогаете ей искупать грехи – нелегкая задача, коль скоро за вами их нет.
– Напротив: за ней их нет, – возразил Стрезер. – А за мной – несть числа.
– Ну-ну, – саркастически усмехнулась мисс Гостри, – какую вы из нее делаете икону! А вы? Вы обобрали вдовицу с сиротами?
– На мне достаточно грехов, – сказал Стрезер.
– Достаточно? Для кого? Или для чего?
– Для того, чтобы быть там, где я есть.
– Благодарю вас!
Их прервали: какой-то джентльмен, пропустивший часть спектакля и теперь вернувшийся к концу, протискивался между коленями сидящих и спинками кресел предыдущего ряда; воспользовавшись этим вторжением, мисс Гостри успела, пока вокруг не зашикали, сообщить в заключение, какой смысл извлекла из их беседы.
– Я так и знала, – заявила она, – вы что-то от меня утаиваете.
Это заключение, в свою очередь, побудило обоих по окончании спектакля замешкаться, словно им нужно было еще многое друг другу сказать, и они, не сговариваясь, пропускали остальную публику вперед – в их интересах было переждать. Спустившись в вестибюль, они увидели, что вечер кончился дождем, тем не менее мисс Гостри не пожелала, чтобы ее спутник провожал ее домой. Пусть просто наймет ей кеб: дождливыми лондонскими вечерами она, после бурных развлечений, любит возвращаться в кебе одна, думая свои думы. Это ее золотые мгновения, призналась она, мгновения, когда она накапливает силы. Заминка с разъездом, борьба за кебы у входных дверей давала повод присесть на банкетку в глубине вестибюля, куда с улицы не долетали порывы ледяного промозглого ветра. И здесь приятельница Стрезера вновь не обинуясь заговорила с ним о предмете, который давно уже беспрестанно занимал его собственные мысли:
– А ваш друг в Париже к вам расположен?
От подобного вопроса – да еще после перерыва – он невольно вздрогнул.
– Пожалуй, нет. Да и с какой стати?
– С какой стати? – повторила мисс Гостри. – Вы, конечно, обрушитесь на него. Но из-за этого необязательно рвать отношения.
– Вы видите в моем деле больше, чем я.
– Разумеется. Я вижу в нем вас.
– В таком случае, вы видите во мне больше…
– Чем вы сами? Вполне вероятно. Это право каждого. Но я все возвращаюсь мыслью, – добавила она, – к тому, как повлияла на вашего юного друга его среда.
– Его среда? – Стрезер не сомневался, что сейчас способен представить себе эту среду много лучше, чем три часа назад.
– Вы уверены, что ее влияние может быть только к худшему?
– Для меня это исходная точка.
– Да, но вы исходите чересчур издалека. А о чем говорят его письма?
– Ни о чем. Он обходит нас вниманием – или жалеет. Попросту не пишет.
– Вот как. Тем не менее в его положении, учитывая некоторые особенности, существуют две возможности. Одна – опошлиться и очерстветь душой. Другая – развить себя и изощрить до тонкости.
У Стрезера округлились глаза: это было для него новостью.
– Изощрить до тонкости?
– О, – произнесла она ровным голосом. – Утонченность ума и вкуса воистину существует.
То, как она это сказала, настроило Стрезера на веселый лад, и, взглянув на нее, он рассмеялся:
– В вашем случае безусловно.
– Но в некоторых своих проявлениях, – продолжала она тем же тоном, – он, пожалуй, зарекомендовал себя с дурной стороны.
Тут было над чем подумать; Стрезер сразу посерьезнел.
– Не отвечать на письма матери – это тоже от утонченности? – спросил он.
Она замялась.
– О, я бы сказала, – и еще какой!
– Хорошо, – сказал Стрезер. – Меня вполне устроит считать это проявлением утонченности, а к дурной стороне я отношу то, что, как мне известно, Чэд уверен, будто сможет делать со мной все что пожелает.
Это, видимо, ее удивило.
– Откуда вы это знаете?
– Да уж знаю. Кожей чувствую.
– Что он может сделать с вами все что пожелает?
– Нет, конечно. Но он так считает. А это может свестись почти к тому же, – засмеялся Стрезер.
Однако тут она с ним не согласилась.
– Нет, что касается вас, такое исключено.
И, вложив в эти слова особый смысл, она, по-видимому, сочла их достаточными, чтобы заговорить напрямик:
– Вы сказали – если он порвет здесь, то дома получит солидное место в деле.
– Совершенно верно. Он получит шанс – шанс, за который ухватился бы любой воспитанный в должных понятиях молодой человек. Фирма разрослась, и вакансия, о которой вряд ли могла бы идти речь три года назад, но которую его отец, считая, что она при определенных условиях может появиться, учел в своем завещании, оговорив преимущественное право на нее Чэда, – эта вакансия, поскольку условия для нее созрели, теперь его ждет. Миссис Ньюсем оставила ее за сыном и будет, несмотря на сильное противодействие, удерживать до последней возможности. Однако этот пост, поскольку он несет с собой крупный куш, большую долю в доходах, требует пребывания на месте и значительных усилий для достижения значительных результатов. Вот что я имею в виду, говоря об открывшемся шансе. Если Чэд его упустит, то не только не получит, как вы изволили выразиться, солидного места – он ничего не получит. И вот, чтобы он не упустил свой шанс, я и примчался сюда.
Она слушала, вникая.
– Иными словами, вы примчались сюда, чтобы оказать ему огромную услугу.
Стрезеру ничего не оставалось, как согласиться:
– Ну… если вам угодно.
– Стало быть, если вы уломаете его, он, как говорится, окажется в выигрыше.
– Он получит огромные выгоды. – Стрезер явно знал их все наперечет.
– Под каковыми вы, разумеется, понимаете кучу денег.
– Не только. Я вступил в эту игру ради него, имея в виду и многое другое. Всеобщее уважение, покой души, обеспеченность – прочное положение человека, ставшего на якорь с крепкой цепью. Чэд, насколько мне дано судить, нуждается в защите. В защите, я имею в виду, от жизни.
– Voilà! [14]14
Вот оно что! (фр.)
[Закрыть]– Она мгновенно схватила суть. – Ах, от жизни! Говорите уж прямо: вы жаждете вернуть его, чтобы женить.
– Да, примерно так.
– Ну, разумеется, – сказала она. – Дело нехитрое. А на ком именно?
Он улыбнулся – и, судя по виду, несколько насторожился.
– Вы все умеете вынуть.
На мгновение глаза их встретились.
– А вы – вложить!
Он принял эту дань, сообщив:
– На Мэмми Покок.
Мисс Гостри удивилась. И тотчас сдержанно, даже осторожно, словно осмысливая такую странную возможность, спросила:
– На собственной племяннице?
– Извольте сами определить, кем ему доводится Мэмми. Она – сестра его зятя. Золовка миссис Джим.
Эти сведения не оказали, видимо, на мисс Гостри смягчающего действия.
– А кто такая, собственно, миссис Джим?
– Сестра Чэда – Сара Ньюсем в девичестве. Я же вам говорил: она вышла замуж за Джима Покока.
– Ах да, – сказала она, вспоминая про себя: он много о чем говорил!.. И тут же как можно натуральнее спросила: – А кто такой, собственно, Джим Покок?
– Как кто? Муж Салли. В Вулете мы только так и отличаем друг друга, – пояснил он добродушно.
– И это очень высокое звание – быть мужем Салли?
Он задумался:
– Пожалуй, выше некуда – разве только, но тут речь о будущем – быть женой Чэда.
– Ну а как отличают вас?
– Никак – или, как я уже докладывал вам, по зеленой обложке.
Глаза их снова встретились, и она не сразу отвела свои.
– По зеленой обложке? Ах, оставьте! Ни зеленая – и никакая иная обложка – у вас со мной не пройдет. Вы мастер вести двойную игру! – Однако при всей своей жажде узнать истину она готова была простить ему этот грех. – А что, эта Мэмми считается хорошей партией?
– Лучшей в нашем городе. Очаровательнее и умнее у нас нет.
Мисс Гостри устремила на Мэмми мысленный взгляд:
– Да-да. Я ее хорошо себе представляю. И с деньгами?
– Скорее, не с очень большими – зато со многими другими достоинствами, так что об отсутствии денег мы не жалеем. Впрочем, – добавил Стрезер, – в Америке, знаете ли, вообще не слишком гоняются за деньгами, коль скоро речь идет о хорошеньких девушках.
– Пожалуй, – согласилась она. – Правда, я знаю, за чем вы гоняетесь. А вам, – спросила она, – вам самому Мэмми нравится?
Такой вопрос, подумал он про себя, можно по-разному истолковать, и тут же решил свести его к шутке.
– Как, вы еще не убедились, что мне любая хорошенькая девушка нравится?
Однако мисс Гостри не поддержала его шутливый тон: интерес к его проблемам целиком завладел ею, и она желала знать факты.
– Думается, у вас в Вулете считается обязательным, чтобы все они – то есть молодые люди, вступающие с хорошенькими девушками в брак, были, как бы это поточнее выразиться, абсолютно чисты.
– Да, я и сам так считал, – признался Стрезер. – Впрочем, вы коснулись весьма злободневного обстоятельства – того обстоятельства, что и Вулет вынужден уступать духу времени, как и все большему смягчению нравственных устоев. Все на свете меняется, и мы тоже, насколько могу судить, идем в ногу с веком. Мы, конечно, предпочли бы, чтобы наша молодежь была чиста, но приходится мириться с тем, что есть. А поскольку благодаря духу времени и смягчению устоев молодых людей все чаще заносит в Париж…
– Вы вынуждены принимать их по возвращении в свое лоно. Если они возвращаются. Bon! – И вновь, как бы охватывая услышанное мысленным взором, она на секунду задумалась. – Бедный Чэд!
– Вот уж нет, – весело возразил Стрезер. – Мэмми его спасет.
Глядя в сторону и все еще созерцая нарисованную себе картину, мисс Гостри с досадой, словно он не понял ее, бросила:
– Нет, его спасете вы. Вот кто его спасет.
– О, но с помощью Мэмми. Разве только вам угодно сказать, – добавил он, – что я достигну большего с вашей помощью!
Так! Она снова взглянула на него:
– Вы добьетесь большего, потому что вы лучше, чем все мы вместе взятые.
– Если я и лучше, то только с тех пор, как встретил вас, – храбро вернул ей комплимент Стрезер.
Тем временем вестибюль уже очистился, толпа поредела, последние из задержавшихся сравнительно спокойно разъезжались один за другим, и наша пара, приблизившись к выходной двери, смогла вступить в переговоры с посыльным, которому Стрезер поручил нанять для мисс Гостри кеб. У них оставалось еще несколько минут, которые мисс Гостри не преминула использовать.
– Вы рассказали мне о выгодах, которые – в случае вашей удачи – ждут Чэда. Но ни словом не обмолвились, что при этом выгадаете вы.
– О, мне уже нечего выгадывать, – сказал он совсем просто.
Она поняла его, пожалуй, даже слишком просто.
– Вы хотите сказать, у вас уже все «в кармане»? Что вам заплатили вперед?
– Какая там плата!.. – пробормотал он.
Что-то в его тоне остановило ее, но, пока посыльный не вернулся, у нее была возможность задать тот же вопрос с другого конца.
– А что в случае неудачи вы потеряете?
Его, однако, и это покоробило.
– Ничего! – воскликнул он и, завидев возвращающегося посыльного, закрыл эту тему, поспешив ему навстречу. Когда, выйдя на улицу под свет фонаря, он усаживал мисс Гостри в кеб, а она спросила, не нанял ли этот человек какой-нибудь экипаж и для него, он, прежде чем захлопнуть дверцу, ответил:
– А вы не возьмете меня с собой?
– Ни за что на свете.
– Стало быть, пойду пешком.
– Под дождем?
– Я люблю дождь. Доброй ночи.
Но она, не отвечая, все еще не отпускала его, и вдруг, пока его рука придерживала дверцу, вместо ответа повторила свой вопрос:
– А все-таки, что же вы потеряете?
Почему сейчас этот вопрос прозвучал для него по-иному, он вряд ли сумел бы сказать; но на этот раз ничего кроме: «Все!» – ответить не смог.
– Так я и думала. Стало быть, вы победите. А ради этого я с вами…
– О дорогая моя! – благодарно выдохнул он.
– До гроба! – заявила мисс Гостри. – Доброй ночи.
V
На второе утро в Париже Стрезер посетил банкиров на улице Скриб, куда было адресовано кредитное письмо, его сопровождал Уэймарш, в обществе которого он прибыл из Лондона два дня назад. Они поспешили на улицу Скриб сразу по приезде, но для Стрезера писем, в надежде на которые они так, так туда спешили, не оказалось. Он до сих пор не получил ни одного; в Лондоне он на это и не рассчитывал, полагая, что несколько пакетов ожидают его в Париже, и теперь, расстроенный, направился обратно, в сторону Бульваров, [15]15
…в сторону Бульваров… – Большие бульвары расположены в центральной части Парижа.
[Закрыть]испытывая чувство досады, которое, как он себя утешал, было для начала не хуже другого. Этот шип в душе, думал он, когда, остановившись в конце улицы, разглядывал раскинувшуюся перед ним величественную иноземную авеню, послужит тому, чтобы приняться за дело. Стрезер намеревался тут же приняться за дело и всю остальную часть дня напоминал себе, что дело не ждет. До самой ночи он только тем и занимался, что спрашивал себя, что бы он делал, если бы, к счастью, на нем не висело столько дел; тот же вопрос он уже задавал себе в других положениях и обстоятельствах. Его всегда вела прелестная теория, согласно которой, что бы он ни делал, все, так или иначе, будет иметь последствия для очередного задания, которое на него взвалили, или, если уж его одолевали сомнения, не пройдет впустую. На этот раз его одолевали сомнения – не отложить ли решительный шаг до получения писем, а такие привычные рассуждения их рассеивали. Даже один день почувствовать себя стоящим на собственных ногах – а он уже вкусил от этого чувства в Честере и Лондоне – представлялось ему отнюдь не лишним; в своих действиях он должен – о чем он неоднократно высказывался в частных разговорах – принимать во внимание Париж и теперь намеренно включил в сферу своего внимания эти первые часы знакомства с ним. Они непрерывно расширяли образ великого города, в чем прежде всего было их главное значение; до позднего вечера – в театре и после театра, на оживленных, запруженных толпами Бульварах – он наслаждался ощущением того, как разрастается для него Париж. В театре он был вместе с Уэймаршем, который на этот раз не отказался ему сопутствовать, и оба джентльмена, проделав пешком часть обратного пути от «Жимназ» [16]16
…обратного пути от «Жимназ»… – Парижский театр «Жимназ», построенный в 1820 г., знаменит постановками комедий и водевилей, которые писали для него лучшие французские мастера этих жанров Э. Скриб, Э. Ожье, В. Сарду, Э. Лабиш. Пик популярности театра «Жимназ» приходится на 70-е годы XIX в.
[Закрыть]до кафе «Риш», втиснулись в надежде перекусить на заполненную посетителями «террасу» этого заведения – благо ночные, вернее утренние, часы (полночь уже пробило) были мягкими, а потому многолюдными. Уэймарш, как вытекало из его разговоров со Стрезером, ставил себе в немалую заслугу, что пустился в разгул, однако за те полчаса, которые они провели за кружками с жидким пивом, не упустил ни единого случая дать понять приятелю, что считает предельным этот компромисс со своим более стойким «я».Он всячески давал это понять – и его несгибаемое «я»мрачной тенью выступало на сияющей огнями террасе – погрузившись в торжественное молчание, большую часть времени, даже ступив на плас де л’Опера, они провели в осудительном молчании – молчании, которым порицался характер их ночных похождений.
Этим утром письма уже ждали Стрезера – письма, прибывшие в Лондон, очевидно, все разом, в день его отъезда, и с некоторым опозданием последовавшие за ним; подавив в себе порыв ознакомиться с ними тут же, в приемной, которая напоминала ему почтовую контору в Вулете, а потому воспринималась как нечто вроде контрфорса трансатлантического моста, Стрезер опустил их в карман широкого серого пальто, радуясь, что они теперь там. Уэймарш, который получил письма вчера, получил их и сегодня, а потому никаких порывов при данных обстоятельствах ему подавлять не пришлось. Впрочем, менее всего его можно было бы уличить в борьбе с желанием побыстрее закончить визит на улицу Скриб. Вчера Стрезер ушел, оставив его в холле банка: Уэймаршу не терпелось просмотреть газеты и, насколько его приятелю было известно, он провел там за чтением прессы несколько часов. О конторе на улице Скриб Уэймарш говорил захлебываясь, называя ее лучшим наблюдательным пунктом; точно так же он обычно говорил о нынешней своей – будь она проклята! – судьбе, видя в ней только одно: способ скрывать от него, что происходит в мире. Европа, по его мнению, была не чем иным, как хитроумной машиной, предназначенной для отторжения томящихся на чужбине американцев от жизненно необходимых сведений, и вытерпеть ее можно было лишь благодаря рассеянным тут и там спасительным форпостам, улавливающим странствующие по свету западные веяния. Стрезер же предпочел отправиться дальше: спасительные письма лежали у него в кармане; однако, скажем прямо, как ни ждал он своей почты, стоило ему удостовериться, что на большинстве конвертов в связке стоит его имя, как им овладело беспокойство. Беспокойство это на время целиком поглотило его: он знал, что сразу, с первого взгляда, отличит то место, где сможет расположиться для беседы с главной своей корреспонденткой. В течение следующего часа он с небрежным видом косился на витрины, словно в надежде найти его там, затем спустился по залитой солнцем рю де ля Пэ и, пройдя через сад Тюильри, перешел на противоположную набережную Сены, где не раз – словно приняв решение – вдруг застревал у книжных развалов. В саду Тюильри он тоже дважды или трижды останавливался, поглядывая вокруг: казалось, сама прекрасная парижская весна заставляла его замедлить шаг. В бойком парижском утре звенела веселая нотка – в ласковом ветерке и щекочущем ноздри запахе; в порхающих по партеру сада простоволосых девушках с завязанной бантом лентой вокруг длинных коробок; в особом типе благоденствующих стариков и старушек, лепившихся по уступам террас, где потеплее; в синей униформе и медных бляхах, которые украшали простых подметальщиков и мусорщиков; в уверенности в своем предназначении широко шагавшего кюре или в своей необходимости одетого в белые гетры и красные чулки солдата. Стрезер смотрел на резвые фигурки, двигавшиеся, словно под тиканье больших парижских часов, по ровным диагоналям от точки до точки. В воздухе был разлит аромат искусства, а природа была представлена так, будто над ней потрудился шеф-повар в белом колпаке. Дворец исчез; Стрезер помнил дворец, и при виде невосполнимого зияния на месте, где тот когда-то стоял, дал волю своему историческому чувству, игре воображения – игре, при которой в Париже это чувство вибрирует как натянутый нерв. Он заполнял пустоту туманными символами далеких сцен; ловил сияние белых статуй, у подножия которых мог бы, вынув письма, расположиться на стуле с соломенным сиденьем. Но его почему-то влекло на другой берег, пока не вынесло на улицу Сены и дальше в сторону Люксембургского сада.
В Люксембургском саду он сделал остановку; здесь он наконец нашел укромный уголок и, взяв напрокат за пенни стул и усевшись так, чтобы террасы, аллеи, лужайки, фонтаны, маленькие деревца в зеленых кадках, маленькие женщины в белых шапочках и маленькие девочки, шумно игравшие в свои игры, все «компоновались» в единую солнечную картинку, провел не менее часа, в течение которого чаша его впечатлений, видимо, совсем уже переполнилась. Минула всего неделя, как он сошел с парохода, а голова ломилась от увиденного и услышанного, которого было чересчур много для нескольких дней. Внутренний голос уже не раз предостерегал, его, но сегодняшним утром предостережение прозвучало особенно грозно и, чего не случалось прежде, вылилось в форму вопроса – вопроса: что ему делать с таким непривычным чувством свободы. Это чувство еще усилилось, когда он прочел письма, и именно поэтому вопрос стал, для него неотложным. Четыре письма из связки принадлежали перу миссис Ньюсем, и ни одно не страдало краткостью; его приятельница не теряла времени и, пока он находился в пути, следовала за ним по пятам, отправляя свои излияния одно за другим, и теперь он мог установить, с какой примерно частотой ему предстоит их выслушивать. Они – эти ее депеши – должны были, по всей видимости, прибывать по нескольку штук на неделе, с каждой почтой ему следовало ожидать – и скорее всего так оно и будет – не менее одного письма. Если вчерашний день начался для него с огорчения, сегодня все было наоборот. Он прочел письма от миссис Ньюсем по порядку, очень медленно и, сунув остальные в карман, опустил стопкой на колени и еще долго не убирал. Он держал их там, погруженный в свои мысли, словно их присутствием хотел продлить то, что они ему дали, или засвидетельствовать, как они помогают ему добиться ясности. Его приятельница отменно владела пером, оно выражало ее интонации даже лучше, чем голос, – и сейчас выходило чуть ли не так, что, лишь оказавшись за тысячи миль, он смог в полной мере услышать его во всех модуляцих; тем не менее сознание различия – огромного различия – совпадало с сознанием более глубокой и тесной связи. Различие это оказалось намного большим, чем он даже мечтал увидеть; и главное, вокруг чего сейчас вращались его мысли, – какая странная закономерность привела к тому, что он чувствовал себя здесь таким свободным. Он некоторым образом считал, что обязан разобраться в своем состоянии, одобрить сам процесс, и, когда он прошел по всем ступеням и подбил все пункты, сумма должным образом сошлась. Он не ожидал – и в этом было все дело, – что вновь почувствует себя молодым, и все прожитые годы вкупе со всем пережитым, что помогло ему стать таковым, вот что сейчас входило слагаемыми в его итог. Он должен был проверить их, чтобы снять сомнения.
В основе основ лежало благородное желание миссис Ньюсем не нагружать его ничем, кроме самого существенного в порученном деле; настаивая на том, чтобы он все оставил и бросил, она обеспечила ему свободу, но так, чтобы сделать это целиком своей заслугой. Однако, дойдя в мыслях до этого пункта, Стрезер воспротивился тому образу, создание которого его приятельница, надо полагать, ставила себе в заслугу; образу – в лучшем случае, нисколько на него не похожему – бедняги Ламбера Стрезера, которого поднявшаяся волна выбросила на солнечный берег, где он, благодарный за передышку, жадно глотая воздух, набирается сил. Нет, он был иным, и ни в его внешнем виде, ни в расположении духа не было ничего шокирующего; правда, не будем скрывать, если бы сейчас он увидел приближающуюся к нему миссис Ньюсем, он инстинктивно подался бы в сторону. Позднее, придя в себя, он смело шагнул бы ей навстречу, но это стоило бы усилий. В письмах она сыпала новостями о том, что происходит дома, доказывала, как превосходно все устроила на время его отсутствия, сообщала, кто возьмет на себя это, а кто – то, чтобы продолжить именно там, где ему пришлось прерваться, и на конкретных примерах убеждала, что без него ничто не пострадает. Казалось, ее интонации заполнили собою все окрест, но на этот раз они прозвучали для него пустым и суетным гулом. Откуда такое впечатление? Он попытался найти ему оправдание и наконец сумел набрести на формулу, которую – пусть мало для него приятную – счел удачной. К этой формуле его подвело неизбежное признание того факта, что две недели назад он оказался на грани нервного истощения. Да, если был на свете человек, утомленный до предела, так это он – Ламбер Стрезер. И разве не ясно, что именно эта крайняя усталость побудила его доброго друга, миссис Ньюсем, так глубоко ему сочувствовать и так вокруг него хлопотать. Как бы там ни было, но в эти мгновения Стрезеру казалось, что если он сумеет достаточно твердо держаться найденного объяснения, оно, вполне возможно, станет его рулем и шлемом. Ему, как никогда, требовалась упрощающая теория, и ничто так не могло поддержать ее, как утверждение, что он выдохся и кончился. И если в этом свете он сейчас увидел бы остатки юности на дне своей чаши, ничего, кроме трещинки на поверхности, не грозило бы его планам. Да, он, бесспорно, выжатый лимон, но это может сослужить ему добрую службу, и если он согласится постоянно довольствоваться малым, то, пожалуй, получит все, что ему нужно.
А все, что ему было нужно, – единственное, кроме прочих, благо: простое и недосягаемое искусство принимать жизнь такой, какой она идет. Он же, как сам считал, отдал лучшие годы упоенному любованию путями, по которым она не ходит; правда, здесь, в Париже, все, видимо, обстояло иначе, и застарелая боль, надо надеяться, постепенно его отпустит. Нетрудно было предвидеть, что с того момента, как он признает неизбежность своего крушения, в обоснованиях и воспоминаниях не будет недостатка. О, если бы он пожелал подвести итог! Ни одна грифельная доска не уместила бы всех входящих в эту сумму цифр. Уже тот факт, что он считал себя круглым неудачником – неудачником, как любил выражаться, во всех отношениях и в полдюжине занятий, – обусловило и продолжало обусловливать пустоту его настоящего, хотя тем же объяснялось и его насыщенное прошлое. Несмотря на все не достигнутые им вершины, оно не было для него ни легкой ношей, ни кратчайшим путем. Сейчас перед ним словно висела оборотной стороной знакомая картина, уходил вдаль извилистый путь, серея под тенью одиночества. Это было ужасное, отрадное, общительное одиночество; одиночество целой жизни, по собственному выбору, среди людей; и хотя вокруг него теснилось немало народу, только трое, много четверо лиц занимали в нем прочное место. Одно из них принадлежало Уэймаршу, что уже само по себе определяло характер собственного его досье. Миссис Ньюсем занимала второе, и мисс Гостри, судя по всему, могла, пожалуй, претендовать на третье. Далеко-далеко за ними маячили две бледные тени, две фигуры из его подлинной юности; два существа, еще бледнее, чем он сам, он прижимал их к груди – его юная жена и его юный сын, которым он безрассудно пожертвовал. Вновь и вновь он возвращался к горькому выводу, что, возможно, сохранил бы своего мальчика, своего флегматичного мальчика – он умер от дифтерита в школе-пансионе, – если бы в ту пору не отдался целиком тоске по его матери. На совести Стрезера тяжелым бременем лежала мысль, что его маленький сын вовсе не был флегматичным – нет, был флегматичным, но только потому, что оказался покинутым и заброшенным собственным отцом, безмозглым эгоистом, поддавшимся тайной привычке к скорби, которая со временем рассеялась. Но и теперь боль все еще терзала его, и каждый раз при виде незнакомого молодого человека Стрезер содрогался от сознания утраченной возможности. Да, был ли на свете еще человек, беспрестанно спрашивал он себя, потерявший так много и, сверх того, сделавший столь многое в награду за столь малое. К тому же имелись особые причины, почему весь вчерашний день, не говоря уже о других, в его ушах непрерывно звучал, обдавая холодом, этот вопрос. Его имя, значившееся на обложке, куда он поставил его в угоду миссис Ньюсем, несомненно, достаточно представляло его, чтобы в мире, – так или иначе отличном от Вулета, – заинтересовались, кто он такой. Тем не менее он уже вызвал насмешку, и ему пришлось разъяснять уже разъясненное. Он – Ламбер Стрезер, потому что его имя стоит на обложке, тогда как, применительно к славе, все должно быть наоборот: его имя потому стоит на обложке, что он – Ламбер Стрезер. Что ж, ради миссис Ньюсем он и не на такое готов, готов стерпеть любые насмешки, для которых в данных обстоятельствах вполне мог дать повод. Иными словами, покорность судьбе – вот все, что он имел за душой в свои пятьдесят пять лет.








