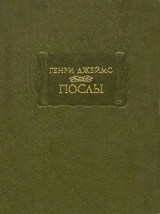
Текст книги "Послы"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)
Часть 8
XVIII
В четыре часа пополудни Стрезер так все еще не удосужился повидать своего старого друга, но, словно возмещая не состоявшуюся с ним встречу, беседовал о нем с мисс Гостри. Весь день его не было дома, отдавшись городу и собственным мыслям, он бродил, размышлял, мятущийся и в то же время сосредоточенный, – и кончил тем, что появился в квартале Марбеф, где был радушно принят.
– Уэймарш, я убежден, вел, так сказать, за моей спиной переписку с Вулетом, – поведал он мисс Гостри, осведомившейся об адвокате из Милроза, – и в результате вчера вечером я получил оттуда грозный окрик.
– Вы хотите сказать, письмо с просьбой вернуться?
– Если бы так. Телеграмму – она у меня в кармане: «Первым пароходом домой».
Собеседница Стрезера, как можно было заметить, разве что не побледнела. Но, спохватившись, на время сохранила хладнокровие. Возможно, именно это обстоятельство и помогло ей сказать с напускным равнодушием:
– И вы собираетесь?..
– Что вы почти заслуживаете, бросив меня на произвол судьбы.
Она покачала головой так, словно его упрек был не достоин ответа.
– Мое отсутствие пошло вам на пользу – достаточно взглянуть на вас. Каюсь, я сделала это намеренно, и расчет мой оправдался. Вы уже не тот, каким были. И для меня теперь главное, – она улыбнулась, – быть вам под стать. Вы уже стоите на собственных ногах.
– Сегодня я все еще чувствую, – любезно вставил он, – как вы мне нужны.
Она снова внимательно на него посмотрела.
– Обещаю впредь не бросать вас, но с тем, чтобы только слегка приглядывать за вами. Вы уже получили импульс и способны передвигаться без посторонней помощи.
– Да, пожалуй, – благоразумно согласился он, – передвигаться худо-бедно я могу. Вот что, по правде говоря, и вывело нашего друга из себя. Он – особенно глядя, как яхожу, – не может этого вынести. Последняя капля, переполнившая чашу. Он жаждет, чтобы я убрался отсюда, и, надо думать, написал в Вулет, что я нахожусь на краю гибели.
– Ах, полноте, – пробормотала она. – Но ведь это только ваша догадка.
– Догадка, вы правы. Но она все объясняет.
– А он все отрицает? Или вы еще его не спрашивали?
– У меня не было времени, – сказал Стрезер. – Только вчера вечером, сопоставив различные факты, я догадался, а с тех пор мы с ним не пересекались.
Такой ответ ее не убедил:
– Вы крайне раздражены – за себя не ручаетесь?
Он поправил очки.
– Неужели я выгляжу таким разъяренным?
– Вы выглядите лучше некуда.
– Да мне и не на что сердиться, – заявил он. – Напротив, Уэймарш оказал мне услугу.
– Доведя ситуацию до предела? – заключила она.
– Как превосходно вы все понимаете! – воскликнул он почти ворчливо. – Во всяком случае, Уэймарш не станет ни под каким видом отрицать или выкручиваться. Он действовал по глубочайшему убеждению, с чистой совестью и после многих бессонных ночей. Он признает, что это его рук дело, и будет считать, что оно ему удалось; в итоге любое наше объяснение закончится полным примирением: мы опять будем вместе, наведя мост через темный поток, который нас разделял. Наконец-то благодаря тому, что он сделал, нам будет о чем поговорить.
Она помолчала.
– Вы бесподобно это воспринимаете! Впрочем, вы всегда бесподобны.
Он тоже выдержал паузу – такую же, как она; затем на той же высокой ноте выразил полное с ней согласие:
– Вы совершенно правы. Я бесподобен, удивителен, особенно сейчас. Смею сказать, просто неподражаем и даже не удивлюсь, если окажется, что выжил из ума!
– Так расскажите мне все, – уже серьезно потребовала она. Но, поскольку он некоторое время безмолвствовал, лишь ответив взглядом на ее взгляд, который она с него не спускала, ей пришлось зайти с другого конца, где ему было легче удовлетворить ее любопытство: – Что такое мистер Уэймарш, собственно, сделал?
– Написал письмо. Одного оказалось достаточно. Он сообщил в Вулет, что за мной нужен глаз.
– В самом деле нужен? – спросила она с интересом.
– В высшей степени. И он будет мне обеспечен.
– Иными словами, ни якоря, ни рук вы не поднимаете?
– Нет, не поднимаю.
– И уже дали телеграмму?
– Нет. Но подвигнул на это Чэда.
– Что вы отказываетесь ехать?
– Что он отказывается ехать. Сегодня утром мы поговорили начистоту, и я его убедил. Он заявился ко мне, когда я еще не встал, – объявить, что готов… готов возвратиться. Ну, а после десяти минут разговора со мной ушел с намерением сообщить, что остается.
Мисс Гостри слушала, не пропуская ни слова.
– Стало быть, вы остановили его.
Стрезер вновь опустился в кресло.
– Да, остановил. На некоторое время. Вот видите, – он поискал слова более выразительные, – к чему я пришел.
– Вижу, вижу. А мистер Ньюсем? Он ведь готов был ехать.
– Да, вполне.
– И искренне считал, что вы тоже?
– По-моему, да. Более чем. Он был крайне удивлен, когда обнаружил, что рука, которая должна была тащить его домой, внезапно превратилась в механизм торможения.
Такой отчет о событиях не мог не захватить мисс Гостри.
– Он считает это превращение внезапным?
– Право, не уверен, что он так считает. Относительно него я вообще ни в чем не уверен, разве только в одном: чем больше я его вижу, тем меньше нахожу его таким, каким поначалу ожидал увидеть, Мне многое в нем непонятно; вот почему я решил ждать.
– Ждать? Чего собственно? – удивилась она.
– Ответа на его телеграмму.
– А что там – в его телеграмме?
– Не знаю, – отвечал Стрезер. Он ушел от меня с тем, что составит ее по собственному разумению. Я сказал ему: «Мне хочется остаться, а я могу сделать это только при одном условии: ты остаешься тоже». Мое желание, видимо, произвело на него сильное впечатление, ну и определило все остальное.
Мисс Гостри мысленно перебирала слово за словом:
– Стало быть, сам он тоже хочет остаться?
– И хочет и не хочет. Вернее, ему хочется ехать. Отчасти. Увещевания, которыми я досаждал ему вначале, в этом смысле оказали на него свое действие. Тем не менее, – закончил Стрезер, – он не поедет. По крайней мере до тех пор, пока я остаюсь здесь.
– Но вы же не можете остаться здесь навсегда, – возразила его собеседница. – Жаль, что не можете.
– Никоим образом. И все-таки мне хочется понаблюдать его еще немного. Ведь он совсем не то, что я ожидал, совсем иной. И тем особенно мне интересен. – Стрезер излагал свои соображения так взвешенно и ясно, словно отчитывался перед самим собой. – Я не хочу его уступать.
Мисс Гостри, однако, жаждала подтолкнуть его к еще большей ясности. Правда, тут требовались осторожность и такт.
– Уступать… вы разумеете… его матушке?
– Нет, сейчас я не ее имею в виду. Я имею в виду тот план, глашатаем которого был и который поспешил как можно убедительнее представить Чэду в первую же нашу встречу, – план, составленный вслепую, в полном неведении о переменах, которые за долгое время, что он прожил здесь, с ним произошли. А те впечатления, которые обрушились на меня – сразу же, с первого взгляда на Чэда, – впечатления, которым, я уверен, еще нет конца, – тоже ведь никогда не учитывались.
– Иными словами, – на лице мисс Гостри появилась улыбка добродушнейшего осуждения, – ваше намерение остаться вызвано – более или менее – любопытством.
– Называйте это как вам угодно! Мне решительно все равно!
– Лишь бы остаться? В таком случае, разумеется, нет. Впрочем, так или иначе, мне это доставит огромное удовольствие, – заявила мисс Гостри. – А уж зрелище того, как вы станете осуществлять ваши замыслы, сулит быть пикантнейшим в моей жизни. Нет, вас положительно можно предоставить самому себе.
Однако эта дань его самостоятельности почему-то не вызвала у него восторгов.
– Вряд ли я буду предоставлен самому себе, когда сюда пожалуют Пококи.
У нее поднялись брови:
– Сюда пожалуют Пококи?
– Таков, полагаю, будет ответ – и незамедлительный – на телеграмму Чэда. Они просто сядут на первый же пароход. Сара явится сюда, чтобы говорить от имени своей матушки – и с совсем иным результатом, чем тот хаос, который внес я.
Удивление мисс Гостри еще усилилось:
– И она увезет его домой?
– Вполне вероятно… Поживем – увидим. Во всяком случае, надо предоставить ей такую возможность, а она, без сомнения, ее не упустит.
– И вы этогохотите?
– Разумеется, – подтвердил Стрезер. – Только так. Я за честную игру.
Тут, кажется, она перестала его понимать.
– Но если игру поведут Пококи, зачем вам оставаться?
– Затем, чтобы знать: я веду честную игру – ну и отчасти, пожалуй, чтобы обязать их к тому же. – Так широко он еще никогда не раскрывался. – Я обнаружил здесь много нового – нового, которое, должен признаться, все меньше и меньше соответствует нашим старым понятиям. Все очень просто. Нужны новые понятия – столь же новые, сколь и факты, и об этом наши друзья из Вулета – мои и Чэда – уведомлены с самого начала. Если эти новые понятия можно выработать, миссис Покок их выработает и доставит в Вулет в полном объеме. Вот это и будет частью того «удовольствия», – произнес он с задумчивой улыбкой, – которое вы изволили упомянуть.
Она мгновенно уловила течение его мысли и поплыла с ним бок о бок.
– Стало быть, Мэмми – насколько я поняла из ваших слов – их козырная карта. – И поскольку его задумчивое молчание это не опровергало, многозначительно добавила: – Право, мне жаль ее.
– Мне тоже! – И, вскочив на ноги, Стрезер зашагал из угла в угол, сопровождаемый взглядом мисс Гостри. – Только тут ничего не поделаешь.
– Вы хотите сказать – с тем, что они везут ее с собой?
Он сделал еще один тур.
– Единственное средство их остановить, – сказал он, – это мне вернуться домой. Там на месте я, наверное, смог бы им воспрепятствовать. Но если поеду я…
– Да-да. – Она уже все схватила на лету. – Тогда поедет и мистер Ньюсем, а вот этого никак, – она рассмеялась, – никак нельзя допустить.
Стрезер даже не улыбнулся в ответ; он лишь устремил на нее спокойный, если не сказать безмятежный, взгляд, дававший понять, что застрахован от насмешек.
– Странно, не правда ли?
В этом разговоре о предмете, который обоих собеседников крайне интересовал, они дошли уже до критической точки, так и не произнеся заповедного имени – имени, которое, сейчас воплотившись в секундную паузу, стояло в сознании каждого. Вопрос Стрезера достаточно ясно давал понять, какое значение оно приобрело для него за время отсутствия его любезной хозяйки, и именно по этой причине один только жест с ее стороны его вполне бы удовлетворил. Но она ответила вопросом, который пришелся как нельзя более кстати:
– А мистер Ньюсем познакомит свою сестру?..
– С мадам де Вионе? – Наконец Стрезер произнес сокровенное имя. – Я буду очень удивлен, если он этого не сделает.
Она, по-видимому, взвешивала такую возможность.
– Стало быть, вы уже все обдумали и подготовились?
– Да. Обдумал и подготовился.
Теперь ее мысли целиком обратились к гостю:
– Bon! [79]79
Превосходно! (фр.)
[Закрыть]Вы великолепны!
– Великолепен? – произнес он, помолчав, чуть усталым голосом и по-прежнему стоя прямо перед ней. – Великолепен – вот каким за всю мою нудную, как мне представляется, жизнь я хотя бы на час хотел бы быть!
Два дня спустя Чэд сообщил ему, что из Вулета прибыл ответ на их столь многозначащую телеграмму: депеша была адресована Чэду и извещала о срочном отбытии Сары, Джима и Мэмми. За истекшее время Стрезер и сам уже дал телеграмму от собственного имени, лишь отложив ее до встречи с мисс Гостри и разговора с ней, который, как, знал по опыту, поможет прояснить и закрепить его понимание вещей. Его послание к миссис Ньюсем в ответ на ее телеграмму содержало следующее: «Полагаю наилучшим задержаться месяц зпт приветствую любые подкрепления». Он добавил: «подробности письмом», хотя, что и говорить, и без того регулярно писал подробно; это обыкновение, как ни странно, продолжало приносить ему облегчение и, как ничто другое, внушало сознание, будто он что-то делает; так что в последнее время перед ним нередко вставал вопрос, уж не пустился ли он под гнетом недавних впечатлений в обман, не овладел ли искусством втирать очки. Разве те страницы, которые он по-прежнему отсылал с американской почтой, не были достойны пера хваткого журналиста, мастера великой науки перетолковывать смысл слов? Разве целью его писаний не было потянуть время, а главное, показать, как сам он хорош? Иначе почему взял он себе за правило никогда не перечитывать свои послания? Только на таких условиях мог он заставить себя писать, и писать много, но все, что писал, было не более как рисовка – своего рода свист, отгоняющий страх в темноте. Более того, чувство блуждания во мраке, угнетая сильнее, побуждало свистеть все громче и задорнее. Отослав депешу, он принялся свистеть особенно долго и заливисто; он упоенно свистел во славу полученного Чэдом известия, и в прошедшие две недели это занятие поддерживало в нем бодрость духа. Что именно Сара Покок имела сказать ему по прибытии в Париж, он плохо себе представлял, хотя смутные предчувствия у него были. Во всяком случае, не в ее власти, как и ни в чьей другой, было сказать ему, что он не оказывает внимания ее матери. Возможно, прежде он писал ей свободнее, но никогда еще не писал так обильно, вполне искренне объясняя это, для ушей Вулета, тем, что жаждет заполнить образовавшуюся после отъезда Сары брешь.
Мрак, однако, сгущался, а высота, как я назвал бы это, взятого им тона повышалась, и в результате он уже почти ничего не слышал. Со временем он обнаружил, что слышит куда меньше, чем прежде, и все же продолжал двигаться по пути, на котором письма от миссис Ньюсем, по логике вещей, не могли не прекратиться. В течение многих дней от нее не пришло ни строчки, и вряд ли требовались доказательства – хотя со временем они посыпались во множестве – что, получив вызвавший ее телеграмму намек, она не коснется пером бумаги. Она не станет писать, пока Сара не увидится с ним и не доложит о нем свое мнение. Странное поведение! Хотя, пожалуй, менее странное, чем его собственное в глазах Вулета. Как бы там ни было, оно не могло пройти ему даром, особенно примечательным во всем этом было то, что характер и манеры его приятельницы, выразившиеся в этой мизерной демонстрации, чрезвычайно обострили в нем чувства. Его поразило, что никогда прежде он не жил ею столько, как в течение этого периода ее нарочитого молчания – молчания, которое воспринималось им как священное безмолвие, более тонкое и ясное средство выявить ее отличительные черты. Все эти дни он гулял с нею, сидел рядом, ездил и обедал têt-à-tête – редкий «праздник в его жизни», как он, надо полагать, не удержался бы это выразить; и если ему ни разу не приходилось наблюдать ее такой молчаливой, то, с другой стороны, он никогда не ощущал в ней столь высокой, столь почти аскетической настроенности души – чистой и, если говорить вульгарным языком, «холодной», но глубокой, преданной, тонкой, чуткой, благородной. Мысль о ней как о ярком воплощении этих качеств, в его особых обстоятельствах, завладела им целиком, превратила в навязчивую идею, и, хотя заставляла сильнее пульсировать кровь, усиливая и без того владевшее им возбуждение, бывали минуты, когда, чтобы уменьшить напряженность, он мечтал о забвении. Но самым удивительным – ни для кого, кроме Ламбера Стрезера, это не могло бы играть такую роль! – было то, что из всех городов мира именно в Париже призрак этой леди из Вулета преследовал его настойчивее любых иных – материальных и нематериальных – явлений.
Когда его вновь потянуло к мисс Гостри, им руководило желание перемены. Однако никакой перемены в итоге не произошло: в эти дни он говорил с мисс Гостри о миссис Ньюсем больше, чем когда-либо прежде. До сих пор в разговорах с ней он соблюдал осторожность и установленные пределы – соображения, которые теперь рухнули, словно его отношения с миссис Ньюсем полностью изменились. На самом деле, как он себя убеждал, они вовсе не настолько изменились; правда, миссис Ньюсем перестала ему доверять, но, с другой стороны, это еще не означало, что он не вернет себе ее доверие. Напротив, он был убежден, что перевернет мир, но обретет его вновь; и, практически, сообщая теперь о ней мисс Гостри многое такое, о чем никогда не сообщал прежде, поступал так главным образом потому, что это поддерживало в нем гордое сознание быть отмеченным такой женщиной. Его отношения с Марией, как ни странно, уже были совсем не такими, как прежде, – заключение, к которому они постепенно пришли, не слишком на это досадуя, когда по ее возвращении они стали встречаться вновь. Это заключение целиком воплотилось в том, что мисс Гостри ему тогда сказала; оно вылилось в сделанное ею всего десять минут спустя замечание, которое он не стал оспаривать. Да, он мог передвигаться самостоятельно, и это все разительно изменило. И различие это не замедлило сказаться на самом направлении их беседы; а его откровенность в отношении миссис Ньюсем довершила остальное. Время, когда он, томясь жаждой, протягивал свою кружечку к носику ведерца мисс Гостри, осталось позади. Теперь он едва касался ее ведерца; его питали другие источники, а она заняла место среди них, и в том, как она приняла этот новый статус, была своя прелесть – грустное смирение, которое глубоко его трогало.
Эта перемена отмечала для него бег времени или, как ему, не без иронии и сожаления, приятно было думать, скачок в опыте: еще позавчера он сидел у ее ног, держался за ее подол, кормился с ложечки из ее рук. Все дело в изменении пропорций, философствовал он, а пропорции во все времена определяли восприятие, обусловливали мысль. Казалось, словно мисс Гостри со своей живописной квартиркой, своими многочисленными знакомствами, своими многообразными и разнообразными занятиями, обязанностями и привязанностями, которые поглощали девять десятых ее времени и о которых он, после осторожных расспросов, получал лишь толику сведений, – словно она отошла на второй план и согласилась на эту второстепенность с присущим ей совершенным тактом. Совершенство отличало ее во всем; она обладала им от природы и в больших масштабах, чем он поначалу мог оценить; благодаря ее такту он был полностью отрешен, устранен от ее деловых интересов, как она именовала огромный круг своих всякого рода связей; и общение между ним и ею носило дружески-интимный, чисто домашний – в противоположность деловому – характер, как если бы кроме него ее никто не посещал. Вначале, каждый раз, когда он возвращался мыслями к ее квартирке, образ которой на первых порах его парижской жизни почти каждое утро вставал у него перед глазами, мисс Гостри казалась ему необыкновенной; теперь же лишь частью весьма колючего итога – хотя она, разумеется, заняла место среди тех, кому он никогда не перестанет чувствовать себя обязанным. Вряд ли ему суждено пробудить еще в ком-либо столько доброты. Она неоднократно покрывала его перед другими, и не было ничего – по крайней мере, насколько ему было известно, – что она могла бы попросить взамен. Она лишь проявляла интерес, спрашивала, слушала с уважительным, вдумчивым вниманием. Она постоянно выражала свое расположение к нему; а он уже отошел от нее, и она знала: не сегодня-завтра она его потеряет. У нее оставался лишь проблеск надежды.
Иногда он, по ее выражению, шел ей навстречу – штрих, который ему нравился, – и каждый раз начинал с тех же слов:
– Что, плохо кончу?
– Плохо… Ну ничего, я вас подлатаю.
– Ох, если уж по мне ударят, то сокрушительно – латать будет нечего.
– Вы всерьез считаете, что это вас убьет?
– Хуже. Сделает стариком.
– Ну уж нет – вот чего не может быть. Самое удивительное и необыкновенное в вас именно то, что вы сейчас молоды. – И далее добавляла какое-нибудь замечание из того же ряда, которые уже окончательно перестала украшать сомнениями или извинениями и которые, более того, несмотря на их чрезмерную прямоту, уже не вызывали в нем ни малейшего смущения. В ее исполнении они звучали для него так убедительно, что казались беспристрастными, как сама истина. – В этом ваше особое обаяние.
Его ответы также не отличались разнообразием.
– Да, я молод – молод для поездки в Европу. Я вернул себе молодость или, по крайней мере, стал пользоваться ее благами с того момента, когда встретил вас в Честере, и так это тянется по сей день. В молодости я никогда не пользовался ее благами – иначе говоря, никогда не был молодым. А сейчас это ко мне пришло. И когда на днях я сказал Чэду: «Подожди», ожило во мне. И так будет снова, когда сюда явится Сара Покок. Благо быть молодым… оно ведь не всем по плечу, и, откровенно говоря, сомневаюсь, что кто-нибудь, кроме вас, ценит в молодости то же, что я. Я не пью, не волочусь за женщинами, не швыряю деньги на кутежи, даже не пишу сонетов. Тем не менее – пусть с опозданием – я возмещаю себе упущенное в юности. По-своему, скромно, холю и лелею свои скромные радости. И получаю больше удовольствия, чем когда-либо за всю прожитую мною жизнь. Что бы там ни говорили, а это – мой низкий поклон, моя дань молодости. Каждый отдает эту дань где может, и нередко благодаря чужим жизням – обстоятельствам и чувствам других людей. Во мне ощущение молодости пробудилось благодаря Чэду – при всех его седых прядях, которые лишь придают ей весомость, надежность, серьезность. И тем же самым я обязан мадам де Вионе, при том что она старше его и у нее дочь на выданье, муж, с которым она в разводе, непростое прошлое. Оба они достаточно молоды, хотя не стану утверждать, будто они в лучшей, совершеннейшей поре своей молодости. Впрочем, не в годах дело. Важно другое: они вернули мне мою. Да – они моя молодость, потому что в свое время я не получил от нее ничего. Вот почему я считаю: у меня все пойдет прахом… еще раньше, чем принесет плоды… если… если они изменят мне.
Именно в этом месте мисс Гостри неизменно спрашивала:
– А что, собственно, вы разумеете под «принести плоды»?
– Ну провести меня до конца.
– Провести? Через что? – Ей нравилось доводить все до предельной ясности.
– Через все, что с этим связано.
Большего она добиться от него не могла. Правда, последнее слово, как правило, оставалось за ней.
– Как, вы уже забыли, что в первые дни нашего знакомства именно мне выпало вас вести?
– Напротив, помню. С нежностью. С глубочайшей признательностью. – Он умел всегда быть на высоте. – Но вы сами сделали так, что я позволяю терзать вас моим брюзжанием.
– Не говорите только, что я мало для вас сделала, потому что, какие бы вас ни постигли измены… я не предам вас.
– Ни за что и никогда? – подхватывал он. – Прошу прощения. Увы – предадите. Необходимо, неизбежно. А ваши обстоятельства – хочу я сказать – не позволят мне что-либо для вас сделать.
– Не говоря уже о том – я понимаю, что вы хотите сказать, – что я ужасно, чудовищно стара. Да-да, стара. И все же об одной услуге – для вас вполне возможной – я, знаете ли, все же подумаю.
– О какой же?
Но назвать ее в итоге она так и не пожелала.
– Только, если на вас обрушат сокрушительный удар. Ну а так как об этом не может быть и речи, я не стану себя выдавать…
И тут Стрезер, по собственным соображениям, предпочитал не настаивать.
Постепенно он пришел к мысли, – почему бы и нет, – что о сокрушительном ударе и впрямь не может быть и речи, а, стало быть, спор о возможных последствиях становился праздным. По мере того как шли дни, приезд Пококов приобретал в его глазах все большее значение; он даже испытывал укоры совести, говоря себе, что ждет их с неискренним и недостойным чувством. Он обвинял себя в том, что кривит душой, притворяясь, будто присутствие Сары, ее впечатления и суждения все упростят и примирят; он обвинял себя в том, что боится тех шагов, которые Пококи, возможно, захотят предпринять, и искал спасения, ставя многое с ног на голову, в бесполезной ярости. Еще в Вулете он имел тьму случаев наблюдать, как онипривыкли вершить свои дела, и сейчас у него не было ни малейших оснований для подобных опасений. Но ясность он обрел, лишь когда отдал себе отчет, что его прежде всего интересует душевное состояние миссис Ньюсем – более подробное и непредвзятое описание его, чем то, какое он мог получить от нее самой. Расчет на это уживался, по крайней мере, в его уме с острым осознанием желания доказать себе, будто ему не в чем упрекнуть себя. Если же, в силу неумолимой логики вещей, ему предстояло расплачиваться, он буквально сгорал от нетерпения услышать, сколько с него причитается, и готов был внести требуемые взносы. В качестве же первого взноса пусть ему зачтутся развлечения Сары Покок в Париже, а потому первым делом ему необходимо было точнее знать, какая почва у него под ногами.








