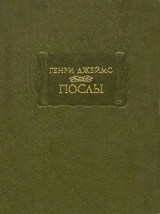
Текст книги "Послы"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
Стрезеру это показалось странным и захотелось отдать должное дамам.
– Среди них, этих дам, кажется, царят мир и согласие.
– О, на близком расстоянии оно виднее. – Но поскольку близкого расстояния Стрезер явно побаивался, хотя всей душой был за мир и согласие, Крошка Билхем продолжал: – Плохой мир, знаете, лучше доброй ссоры. Впрочем, если вам так угодно, это говорит лишь о том, что вы себя не исчерпали. Но вы всегда попадаете в точку, – любезно добавил он, – схватываете на лету.
Комплимент пришелся Стрезеру по душе – он даже расчувствовался.
– Ну-ну, не расставляйте мне ловушек! – весьма беспомощно попытался он отбиться.
– Впрочем, – продолжал молодой человек, – наш хозяин на редкость к нам расположен.
– К нам, американцам, вы имеете в виду?
– О нет, такого у него и в мыслях не бывает. Вся прелесть этого дома, что здесь не слышишь ни слова о политике. Мы о ней не говорим. Я имею в виду – с этими злосчастными юнцами. Тем не менее здесь всегда так же чарующе, как сегодня: словно в самой атмосфере есть нечто такое, благодаря чему наше ничтожество не выходит наружу. И это отодвигает нас назад – в прошлый век.
– Боюсь, – сказал, улыбаясь, Стрезер, – меня это скорее выдвигает вперед – и еще как вперед.
– В следующий век? Ну это, вероятно, потому, – возразил Билхем, – что вы обретаетесь в позапрошлом.
– В предшествовавшем прошлому? Благодарю вас! – рассмеялся Стрезер. – Стало быть, попроси я вас представить меня кому-либо из дам, мне, как экземпляру века рококо, [47]47
…как экземпляру века рококо… – В первой половине XVIII в. наибольшее распространение получила художественная школа рококо, культивировавшая в своих живописных и архитектурных произведениях воздушность, причудливость, легкий оттенок эротизма.
[Закрыть]вряд ли можно рассчитывать на их благосклонность.
– Напротив, они в восторге – мы все здесь в восторге – от рококо, и где еще найдешь для него лучший антураж, чем эта вилла, сад и все такое прочее. Многие из здесь присутствующих, – Крошка Билхем улыбнулся и обвел глазами гостей, – коллекционеры. Вы будете нарасхват.
На мгновение услышанное вновь повергло Стрезера в размышление. Вокруг мелькало немало лиц, которые он не взялся бы аттестовать. Очаровательные? Или всего лишь странные? И без разговоров о политике он угадывал среди гостей поляка, если не двух. В итоге он вдруг разразился вопросом, который гвоздем засел у него в голове с того момента, когда Билхем к нему присоединился:
– Скажите, а мадам де Вионе с дочерью уже здесь?
– Пока я их не видел, но мисс Гостри прибыла. Она в комнатах, любуется достопримечательными вещицами. Сразу видно, коллекционерка! – добавил Билхем без тени осудительности.
– О да, она – страстный коллекционер, и я знал, что она здесь будет. А мадам де Вионе тоже собирательница коллекций? – вернулся Стрезер к интересующему его объекту.
– И еще какая! Кажется, чуть ли не знаменитая. – И, произнеся это, молодой человек быстро перехватил взгляд Стрезера. – Я случайно узнал от Чэда, с которым виделся нынче вечером, что она с дочерью вчера вернулась в Париж. Чэд до последнего момента не был в этом уверен. Стало быть, сегодня, – продолжал Крошка Билхем, – если они здесь, их первый по возвращении выезд в свет.
Стрезер мгновенно мысленно взвесил эти сведения:
– Так Чэд вечером вам об этом сказал? Мне он по пути сюда ничего не сказал.
– А вы его спрашивали?
Вопрос был не в бровь, а в глаз.
– Откровенно говоря, нет.
– Вот видите, – заявил Крошка Билхем. – А вы ведь не тот человек, кому легко рассказать то, чего он не хочет знать. Зато, признаюсь, легко, даже приятно, – милостиво добавил он, – рассказывать о том, что вас интересует.
Стрезер взглянул на него, проявляя терпимость, равную разве его сообразительности.
– Не этим ли глубоким доводом вы руководствовались, когда сами так упорно молчали – насчет сих дам?
Крошка Билхем проверил глубину своего довода:
– Я не молчал. Я сказал вам о них позавчера, когда мы пережидали в кафе после чая у Чэда.
Стрезер сделал следующий виток:
– Стало быть, они и есть «чистая привязанность»?
– Все, что могу утверждать, – так считают. Но разве этого недостаточно? Что, кроме суетной видимости, известно даже умнейшему из нас? Мой совет, – подчеркнуто ласковым голосом произнес молодой человек, – не пренебрегайте суетной видимостью.
Стрезер охватил взглядом более широкий круг гостей, и то, что увидел, переводя взгляд с одного лица на другое, углубило значение сказанного ему молодым другом.
– И отношения у них… хороши?
– Бесподобны.
Последовала пауза.
– Муж умер? – спросил Стрезер.
– Нет, слава Богу, жив.
– О, – сказал Стрезер и, так как Билхем рассмеялся, добавил: – Что же тут хорошего?
– Вы сами увидите. Все, как говорится, налицо.
– Чэд влюблен в дочь?
– Именно.
– Так в чем же препятствие? – удивился Стрезер.
– Ну… не все же, как вы и я… наших высоких, смелых понятий…
– Особенно моих! – воскликнул Стрезер каким-то странным тоном. – То есть, вы хотите сказать, их не устраивает Вулет?
– Видимо, это как раз то, что вам надлежит выяснить? – улыбнулся Билхем.
Благодаря последней фразе, долетевшей до слуха мисс Бэррес, наши собеседники вошли в соприкосновение с этой примечательной особой, которая уже успела привлечь внимание Стрезера: он впервые видел, чтобы на званом вечере дама прогуливалась совершенно одна. Оказавшись невдалеке и кое-что улавливая, она уже обронила несколько слов, а сейчас, вновь приставив к глазам свой лорнет на длинной ручке – все ее забавное и служащее ей забавой достояние, – произнесла:
– Бедный мистер Стрезер! Воображаю, сколько и на скольких вам приходится здесь оборачиваться! Надеюсь, вы не скажете, что я не помогаю вам чем могу. Мистер Уэймарш пристроен. Я оставила его в доме с мисс Гостри.
– Вот так, – воскликнул Билхем, – так мистер Стрезер принуждает милых дам работать на себя! И уже норовит запрячь следующую: напустить – видите, каков? – на мадам де Вионе.
– Мадам де Вионе? Ой-ой-ой! – протянула мисс Бэррес с великолепным крещендо. В этом «ой-ой-ой», как понял наш друг, крылось много больше, чем улавливал слух. Уж не разыгрывают ли его, стремясь заставить все принимать всерьез? Он, во всяком случае, завидовал способности мисс Бэррес этого не делать. С ее манерой чуть вскрикивать, бурно протестовать, быстро узнавать, с ее движениями, похожими на судорожные рывки какой-то ярко оперенной всеядной птицы, она, казалось, воспринимала жизнь как тесно уставленную витрину. Она высматривала и отбирала, и вы явственно слышали, как ее черепаховый лорнет, указывая, постукивает по стеклу. – Спору нет, кто из нас не нуждается в опеке; только я рада, что на меня ее не возлагают. Каждый, несомненно, так и начинает, а потом вдруг оказывается, что она уже не нужна. Это дело слишком обременительное, слишком трудное. Иногда только диву даешься, как люди, – продолжала она, обращаясь к Стрезеру, – не чувствуют таких вещей – то есть не чувствуют своего потолка. Совершенно не чувствуют. И бьются с таким упорством, наблюдать за которым, право, весьма поучительно.
– Да, – вставил Билхем, демонстрируя неодобрение, – и чего в итоге мы достигаем? Мы опекаем вас и остерегаем, когда даем себе труд остерегать. Но при этом ничего не добиваемся.
– О, что до вас, мистер Билхем, – сказала она, и, словно сердясь, стукнула по стеклу, – вы тут не стоите и гроша! Являетесь с целью обратить дикарей – да-да, я знаю, вы воистину пытались, я ведь помню – а дикари обращают вас.
– О нет! – горестно признался молодой человек. – До этого они не дошли. Они просто – эти каннибалы! – меня съели: обратили меня, если вам угодно, но обратили в пищу. Я теперь – лишь обглоданные кости христианина.
– Вот-вот! Только, – и мисс Бэррес вновь отнеслась к Стрезеру, – пусть это вас не обескураживает. Вы прорветесь, и достаточно скоро, но, естественно, у вас будут трудные минуты. Il faut en avoir. [48]48
Они неизбежны (фр.).
[Закрыть]Мне всегда будет интересно с вами, пока вас на все это будет хватать. И я скажу вам, кого надолго хватит.
– Уэймарша? – Он уже угадал.
Она рассмеялась: с каким испугом он это произнес!
– Уэймарш даже мисс Гостри не поддается: великое свойство – ничего не понимать. Он бесподобен, ваш друг.
– О да, – согласился Стрезер. – Кстати, он ни словом не обмолвился мне, что приглашен сюда, – сказал только, что у него деловое свидание, но так мрачно, словно идет на свидание с виселицей. А потом, молча и тайно, появляется здесь вместе с вами. Вы это называете «надолго хватит»?
– Надеюсь, что так! – заявила мисс Бэррес. – Впрочем, ко мне он лишь снисходит. И ничего не понимает – ни грана. Ужасно мил. Бесподобен, – повторила она.
– Фигура из Микеланджело, – довершил ее мысль Крошка Билхем. – Вот уж кому обеспечен успех! Этакий Моисей, [49]49
Моисей – статуя итальянского скульптора и живописца эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475–1564), апофеоз безграничных физических и духовных возможностей человека.
[Закрыть]сошедший с потолка на пол, – огромный, необоримый и при всем том мобильный.
– Именно – если под «мобильный», – подхватила мисс Бэррес, – вы подразумеваете, как он выглядит, сидя в карете. До чего же он смешон рядом со мной в своему углу; у него вид какого-то… какого-то иностранного светила, en exil, [50]50
изгнанника (фр.).
[Закрыть]так что прохожие оборачиваются – ужас как забавно, смотрят, кого я там с собой вожу. Я показываю ему Париж; чего только не показываю, а он и бровью не ведет. Точно индейский вождь из романа, который, прибыв в Вашингтон к Великому Отцу, [51]51
…прибыв в Вашингтон к Великому Отцу… – В официальных обращениях индейцев в Белый дом президент США назывался Великим Отцом.
[Закрыть]стоит перед ним задрапированный в шерстяное одеяло, не подавая признаков жизни. Право, мне впору считать себя Великом Отцом: так он со мной держится. – Это сравнение с высокой особой показалось ей очень удачным: оно так соответствовало ее характеру! И она тут же объявила, что намерена впредь присвоить себе этот титул. – А как он сидит в углу моей гостиной! – продолжала она. – Молчит и нижет моих гостей суровым взглядом, причем с таким видом, что вот-вот разразится речью. А они, конечно, в ожидании – чем-то он разразится. Нет, он бесподобен, – не уставала повторять мисс Бэррес. – Правда, он пока еще ничем не разразился.
Портрет, по правде говоря, у мисс Бэррес получился достоверный, и оба нынешних ее кавалера обменялись понимающим взглядом – искренне веселым со стороны Крошки Билхема, с оттенком грусти со стороны Стрезера. Грусть Стрезера была вызвана не стыдом за приятеля – образ был не лишен благородства, – а тем, как мало он сам драпируется шерстяным одеялом, как мало в мраморных палатах, где так быстро стиралась память о Великом Отце, сам он похож на подлинно величественного аборигена.
– Здесь у всех вас очень сильно развито визуальное чувство, так что вы так или иначе все к нему «сводите». Порою кажется, что любые другие у вас отсутствуют, – заметил он.
– Любое нравственное, – пояснил Крошка Билхем, невозмутимо наблюдая за стайкой femmes du monde, обретавшейся в глубине сада. – Однако у мисс Бэррес оно как раз в высшей степени развито, – мягко добавил он таким тоном, как если бы это было важно для Стрезера, а не для самой мисс Бэррес.
– Правда? – с жаром спросил Стрезер, сам не зная зачем.
– О нет, не в высшей степени. – Ее очень позабавил его тон. – Мистер Билхем слишком лестно обо мне думает. Но, полагаю, я вправе сказать – в достаточной. Да, в достаточной. А вы уж подозревали меня невесть в чем. – И она снова устремила на него сквозь черепаховый лорнет шутливо-въедливый взгляд. – Нет, вы все просто бесподобны! Но должна вас разочаровать. Я настаиваю на своей достаточности. Да, признаюсь, я знакома с разного рода публикой. Сама не знаю, как это получается; во всяком случае, я их не ищу; верно, так уж мне на роду написано – словно я принадлежу к их компании. Бесподобно! Более того, смею сказать, – продолжала она с подчеркнутой серьезностью, – я поступаю так же, как все, – доверяюсь глазу. Но что с этим поделаешь? Мы все смотрим друг на друга, и при парижском свете видно, что на что похоже. Это-то уж парижский свет хорошо показывает. Это он виноват – добрый старый парижский свет!
– Добрый старый Париж! – откликнулся Билхем.
– Все и всех показывает, – добавила мисс Бэррес.
– То, каковы они на самом деле? – спросил Стрезер.
– О! Мне нравится ваше бостонское «на самом деле». Но порою, да – показывает.
– В таком случае, воистину добрый старый Париж! – покорно выдохнул Стрезер, и на мгновение их взгляды встретились. – А что, и мадам де Вионе? Она тоже предстает в истинном свете?
– Она – само очарованье! Само совершенство! – мгновенно ответила мисс Бэррес.
– Почему же минуту назад вы, услышав ее имя, произнесли «ой-ой-ой»?
Она не стала уклоняться, пытаясь что-то сказать.
– Ну, потому что… Она бесподобна!
– И она? – почти со стоном сказал Стрезер.
Но мисс Бэррес уже сообразила, где спасение:
– А почему бы не задать ваш вопрос тому, кто может дать на него исчерпывающий ответ?
– Не надо, – вмешался Крошка Билхем. – Не надо вопросов. Погодите – вы сможете судить о ней сами – и это будет куда интереснее. Чэд уже приехал, чтобы вас ей представить.
XI
Не успел Билхем закончить, как Стрезер вновь увидел подле себя Чэда, хотя позже, как ни странно, не мог вспомнить, что непосредственно за этим последовало. Меж тем эта минута, он чувствовал, имела для него куда более глубокое значение, чем он мог объяснить, и впоследствии его не раз мучил вопрос, был он тогда, отправившись вслед за Чэдом, бледен как мел или красен как рак. Ясно запечатлелось одно: ничего неосторожного никто, к счастью, не произнес, а сам Чэд держался бесподобно – в высоком смысле излюбленного выражения мисс Бэррес. Это было одним из тех стечений обстоятельств – хотя почему так получилось, трудно сказать, – когда происшедшая в нем перемена выявлялась особенно очевидно. Подходя к дому, Стрезер вспомнил, как в первый вечер их встречи поразился умению Чэда войти в ложу. Сейчас Чэд произвел на него не меньшее впечатление умением представлять людей друг другу. В его исполнении церемония эта изменила отношение Стрезера к собственным статям – она словно оценила их, и наш бедный друг, стеснительный и пассивный, почувствовал себя как бы врученным и честь по чести доставленным; в полной мере, как сам он сказал бы, презентованным и аттестованным. Когда они достигли дома, на пороге стояла в одиночестве молодая женщина, и по тем словам, которыми обменялся с ней Чэд, Стрезер тотчас понял, что из любезности и добрых чувств она вышла им навстречу. Чэд оставил ее в комнатах, а она чуть позже вышла, чтобы приветствовать их на полпути, и теперь, увидев, уже спускалась к ним в сад. Поначалу ее юный вид несколько смутил Стрезера, но последующее впечатление, не менее острое, его несколько успокоило: никто вокруг не допускал по отношению к ней и тени вольности. Стрезер мгновенно уловил, что о подобном обращении с ней не могло быть и речи. Меж тем Чэд представил Стрезера, и она обратилась к нему на английском языке, таком, какой, очевидно, представлял для нее наименьшие трудности, но был не похож на тот, какой Стрезер обычно слышал. Не то чтобы она, говоря, прилагала усилия – она ни к чему, как мог убедиться Стрезер после нескольких минут в ее обществе, не прилагала усилий – все же ее речь, очаровательная, правильная, необычная, словно остерегала от того, чтобы ее приняли за польку. А остережения, как он, видимо, понял, нужны только тогда, когда вас в самом деле подстерегают опасности.
Позже он почувствовал: опасностей подстерегало куда больше, чем он предполагал, но в тот момент его чувства сосредоточились на ином. Она была в чем-то черном, поразившем его своей легкостью и прозрачностью. Блондинка, очень светлая, и хотя исключительно тоненькая, лицо имела круглое, с которого смотрели широко расставленные глаза, обладавшие странным взглядом. Улыбка у нее была естественная и почти мимолетная, шляпа не отличалась экстравагантностью, и единственное, что, пожалуй, показалось необычным, это позвякивание под черными изящными рукавами множества браслетов и брелоков – больше, чем Стрезеру когда-либо приходилось видеть на женских руках. Представляя их друг другу, Чэд держался на редкость легко и свободно, и, глядя на него, Стрезеру, уже в который раз, захотелось достичь той же легкости и добродушия.
– Ну вот, наконец вы и встретились лицом к лицу. Вы, право, созданы друг для друга – vous allez voir, [52]52
увидите сами (фр.).
[Закрыть]и я благословляю ваш союз.
Казалось – в особенности после того, как он ушел, – что это было сказано почти всерьез. Вывод этот получил подтверждение, когда Чэд осведомился о Жанне и получил от ее матери ответ, что она, вероятно, в доме с мисс Гостри, на чьем попечении ее оставили.
– Ах, но вы же знаете, – возразил молодой человек, – что мистер Стрезер должен с ней познакомиться!
С этими словами, заставившими Стрезера насторожиться, он под предлогом, что нужно ее привести, удалился, оставив наедине два других лица, которые его интересовали. Стрезер удивился, услышав имя мисс Гостри в такой связи: он почувствовал, что ему недостает какого-то звена, и еще он почувствовал – правда, несколько позже, – что жаждет поговорить с ней о мадам де Вионе, опираясь на новые данные.
Данные эти, правду сказать, были пока скудными, и по этой причине его надежды несколько потускнели. Мадам де Вионе не производила впечатления богатой натуры, а богатство натуры было главное, что он, по простоте душевной, предвкушал в ней увидеть. Но не видеть в ней ничего, кроме заурядности, было бы чересчур. Они двинулись в сторону от дома, не упуская из виду находившуюся на некотором расстоянии скамейку, где он предложил присесть.
– Я столько слышала о вас, – начала она, пока они туда шли, но, услышав в ответ: – «Зато я о вас, мадам де Вионе, вынужден признаться, почти ничего не слышал», – осеклась.
Эти слова представлялись ему единственными, какие он мог с чистой совестью произнести, решив и сейчас, и тем паче в будущем, вести свое дело совершенно открыто и только прямым путем. Он никоим образом, даже в мыслях, не имел намерения следить, как Чэд пользуется предоставленной ему свободой. Однако в этот момент, возможно под воздействием молчания, которое хранила мадам де Вионе, ему стало очевидным, что по прямому пути следует ступать осторожно. И стоило ей улыбнуться своей ласковой улыбкой, как он уже спрашивал себя: а не сбился ли он случаем на кривую тропу – кривую, потому что внезапно обнаруживалось, что его спутница решительно расположена установить с ним, по собственным его понятиям, самые добрые отношения. Вот что происходило между ними, когда в следующее мгновение они остановились, дойдя до скамейки, – во всяком случае, ничего иного ему впоследствии не припомнилось. Хотя одно память запечатлела безошибочно – в этих обстоятельствах, непредвиденных и невообразимых, на него волною нахлынуло: они уже давно вовсю обсуждают его. В некотором смысле она уже имела о нем представление; и это давало ей преимущество, в котором ему с ней никогда не сравняться.
– Неужели мисс Гостри, – спросила она, – не нашла для меня доброго слова?
Прежде всего его крайне поразило, какего объединили с этой леди. Любопытно, подумал он, в каких красках изобразил их знакомство Чэд. Что-то, еще пока не до конца уловимое, явно произошло.
– Я даже не знал, что вы знакомы.
– Ну, теперь она все вам расскажет. Я очень рада, что вы с ней накоротке.
Это была одна из материй – это «все», которое мисс Гостри ему расскажет, – усиленно занимавшая Стрезера, при всем внимании к его сиюминутным обязанностям, после того как они уселись. Другой, среди прочих, стала пять минут спустя мысль о том, что мадам де Вионе – неоспоримо так! – мало отличалась, то есть почти ничем не отличалась, разумеется, не вдаваясь глубоко, от миссис Ньюсем или даже миссис Покок. Она была значительно моложе первой и не столь молода, как вторая из упомянутых дам, но было ли в ней нечто такое, что делало бы невозможным встретить ее в Вулете? И чем ее высказывания за то время, пока они сидели вместе, разнились от тех, которые сочли бы созвучными вулетскому приему в саду? Разве только тем, что были не столь эффектны. Она поведала нашему другу, что мистер Ньюсем, насколько ей известно, до чрезвычайности рад его приезду. Но какая добрая леди из Вулета не сообразила бы сказать, по крайней мере, того же? Уж не таил ли Чэд в глубине души чувство верности отчему краю, толкнувшему его из сентиментальностей к существу, по счастью встретившемуся и более всего напоминавшему ему родимую атмосферу и родимую почву? А если так, то стоит ли сходить с ума – Стрезер даже позволил себе такой оборот – из-за неизвестного феномена, называемого «femme du monde»? Да на этих условиях сама миссис Ньюсем должна быть отнесена к их числу. Недаром Крошка Билхем утверждал, и справедливо, что они, дамы этого типа, вышли или, если угодно, выделились из близких кругов; но, именно сопоставляя эти круги – нынче сравнительно близкие, – он почувствовал в мадам де Вионе простую человечность. Она и впрямь отличалась, и, несомненно, к его облегчению, но отличалась обыкновенностью. За этим, может статься, скрывались определенные мотивы, но такое часто бывало даже в Вулете. Единственное, раз уж она выказала желание проявить расположение к нему – пусть даже по скрытым мотивам, его, пожалуй, это сильнее взволновало бы, будь она внешностью и манерами больше похожа на иностранку. Ах, почему она не турчанка и не полька! – что, впрочем, с другой стороны, было как-то мелко в отношении миссис Ньюсем и миссис Покок. Пока он так размышлял, к скамейке, где они сидели, подошла дама в сопровождении двух джентльменов, и в ближайшее время ход событий получил новый оборот.
Подошедшие – трое блистательных незнакомцев – тотчас заговорили с его спутницей, которая, отвечая им, поднялась, и Стрезер отметил про себя, что явившаяся со свитой дама почтенного возраста и не отличающаяся красотой держится с тем надменным, тем горделивым видом, с тем чувством собственного величия, в расчете на которые он, можно сказать, строил свои планы. Здороваясь с ней, мадам де Вионе назвала ее герцогиней, а та, ответив и заведя разговор по-французски, обращалась к ней: «Ма toutebelle» [53]53
Моя прелесть (фр.).
[Закрыть]– черточки, вызывавшие у Стрезера живейший интерес. Мадам де Вионе, однако, не представила его – поведение, которое он, расценив его по светским и нравственным меркам Вулета, счел более чем странным. Это тем не менее не помешало герцогине, даме, на его взгляд, самоуверенной и бесцеремонной, какими, в глубине души он полагал, герцогини и должны быть, не спускать с него пристального – да-да, пристального – взгляда, словно ей не терпелось завести с ним знакомство. «Ну, конечно, дорогой, все правильно, это я! А кто вы с вашими завлекательными морщинами и в высшей степени выдающимся (красивым? уродливым?) носом?» – примерно такую охапку ярких благоухающих цветов она ему бросила. Стрезер – чье развитие шло семимильными шагами – уже почти угадал: не потому ли мадам де Вионе решила его не представлять, что предполагала возможные последствия этого знакомства для обеих заинтересованных сторон. Меж тем один из джентльменов успел вступить в беседу с дамой нашего друга – джентльмен очень плотный и не очень высокий, в мягкой шляпе с неимоверно лихо загнутыми полями и в сюртуке, решительно застегнутом на все пуговицы. С французского он быстро перешел на английский, изъясняясь так же легко, и Стрезеру пришло на мысль, что перед ним, возможно, один из секретарей посольства. В его планы явно входило безраздельно завладеть вниманием мадам де Вионе, в чем он мгновенно преуспел и увел ее с собой, обменявшись всего тремя словами – трюк, проделанный с безукоризненной светскостью, по части которой наш друг – в чем и сам себе признался, глядя вслед четырем удалявшимся спинам, – был отнюдь не мастер.
Он вновь опустился на скамью и, пока глаза его провожали уходящую группу, погрузился в размышления, как уже было не раз, о странных связях Чэда. Минут пять он сидел один – у него было о чем подумать; прежде всего ему было неприятно сознавать, что он брошен очаровательной женщиной, но эта мысль, перемежаясь с другими впечатлениями, практически рассеялась и стала ему безразличной. Впервые в жизни он так спокойно сложил оружие и нисколько не печалился о том, что ему не с кем говорить. Его, как он считал, ждали, возможно, весьма крутые маршруты, а бесцеремонность, с которой с ним только что обошлись, попадала в разряд незначительных происшествий на этом пути. Их, он чувствовал, будет еще предостаточно, и не успел он прийти к этому выводу, как раздумье, на которое и так ему было отпущено мало времени, было прервано вторичным появлением Крошки Билхема, остановившегося перед ним с игривым: «Ну как?», в котором нашему другу послышался намек на то, что он растерян, быть может, повержен. Он ответил: «Никак!», это должно было означать, что он отнюдь не повержен. Нет, ни в малейшей степени! И не преминул показать молодому человеку, как только тот уселся с ним рядом, что если и удалось сбить его с ног, то он лишь взлетел вверх, в высшие сферы, где чувствует себя на месте и сумеет, можете не сомневаться, достаточно долго парить. Однако секунду спустя, – что вовсе не следовало считать возвращением на землю, – он все же позволил себе сдержанно парировать давешний намек:
– А вы уверены, что муж ее жив?
– Разумеется!
– В таком случае!..
– Что в таком случае?
Тут Стрезеру все же пришлось подумать.
– Ну… мне их жаль!
Впрочем, в данный момент это не имело особого значения. Он заверил своего молодого друга, что все замечательно. Они сидели не шевелясь; им было хорошо. Стрезер не хотел, чтобы его еще с кем-то знакомили; с него было довольно знакомств. Их было даже чересчур; ему понравился Глориани, который, как любила говорить мисс Бэррес, был бесподобен; среди гостей он, без сомнения, различил еще с полдюжины знаменитостей – художников, критиков и даже великого драматурга – его как раз легко было распознать, но не хотел – нет, благодарю, благодарю! – вступать в беседу ни с одним из них: ему нечего было им сказать, а раз так – лучше оставаться в тени; да, лучше в тени, – потому что уже поздно. И когда Крошка Билхем, выслушавший это терпеливо и участливо, чтобы в качестве первого пришедшего в голову утешения бросить расхожее: «Лучше поздно, чем никогда», он отрезал: «Лучше рано, чем поздно!» Нота эта разлилась в целый поток признаний – Стрезера словно прорвало, – которые и на самом деле, как он почувствовал, принесли ему облегчение. Все это копилось и копилось, дойдя до критической точки: резервуар наполнился до краев, прежде чем сам он успел это заметить, и легкого толчка со стороны собеседника оказалось достаточно, чтобы воды излились наружу. Есть в жизни вещи, которые должны случаться вовремя. Если они не случаются вовремя, они утрачены навсегда. Сознание утраты – вот что ошеломило нашего друга, настигнув его долгим медленным приливом.
– Нет, вам еще не поздно [54]54
Нет, вам еще не поздно… – См. рассуждение Джеймса о ключевых словах, вокруг которых развернут весь замысел «Послов», в авторском предисловии к роману (раздел «Дополнения»).
[Закрыть]ни с какой стороны; вам не грозит, как я посмотрю, что ваш поезд уйдет без вас; а во всем остальном люди, разумеется, – если часы их судьбы тикают так же громко, как, слышится, здесь – достаточно остро чувствуют быстротечность времени. Но все равно – не забывайте, что вы молоды, блаженно молоды. Радуйтесь вашей молодости, живите по ее велениям. Живите в полную силу – нельзя жить иначе. Совершенно не важно, чем вы, в частности, заняты, пока вы живете полной жизнью. А если этого нет, то и ничего нет. Этот дом, эти впечатления – в ваших глазах, быть может, чересчур незначительные, чтобы взбудоражить человека, – как и все мои впечатления от Чэда и тех, кого я у него встретил, показали мне многое заново, заронили мне эту мысль в голову. Теперь я увидел. Я жил неполной жизнью, – а теперь уже стар, слишком стар, чтобы пользоваться тем, что вижу. О, я, по крайней мере, вижу, и вижу много больше, чем вы полагаете, а я могу выразить. Но слишком поздно. Словно поезд честно ждал меня на станции, а я и понятия не имел, что он меня ждет. И теперь я слышу слабые, затухающие гудки, доносящиеся с линии на много миль впереди. Что потеряно – потеряно, не заблуждайтесь на этот счет. Эта штука – я имею в виду жизнь – для меня иною, без сомнения, быть не могла, потому что жизнь, в лучшем случае, изложница, для одних рифленая и тисненая, с украшающими ее выпуклостями, для других гладкая и до ужаса примитивная, – изложница, куда беспомощной студенистой массой вливают наше сознание, а уж потом каждый «принимает форму», как сказал великий повар, и по возможности ее сохраняет: словом, каждый живет как умеет. И все же человеку свойственно тешить себя иллюзией свободы. Не берите с меня пример: живите, помня об этой иллюзии. Я в свое время был то ли слишком глуп, то ли слишком умен, – не знаю, что именно, – чтобы ею жить. Теперь я спохватился, теперь я каюсь, кляну себя за это заблуждение, а голос раскаяния взывает к снисхождению. Но это ничего не меняет. Послушайте меня: не упускайте времени, пока оно ваше. Лучшее время – время, которое вы еще не упустили. У вас еще тьма времени, и это главное. Вы, как я уже сказал, сейчас в счастливой, в завидной поре; вы, черт возьми, так еще молоды… Не провороньте же все по глупости. Нет, я не считаю вас глупцом – иначе не стал бы так говорить с вами. Делайте все, чего просит душа, не повторяйте моих ошибок. Потому что моя жизнь была ошибкой. Живите!
Так медленно, дружески, с длинными паузами и многоточиями отводил душу Стрезер, с каждым словом все больше и сильнее приковывая к своей исповеди внимание Крошки Билхема. В итоге молодой человек обрел невероятно серьезный вид, что вовсе не входило в намерения говорящего, который, напротив, желал как-то развлечь своего слушателя. Увидев, какое воздействие произвели его речи, Стрезер, словно желая кончить на должной ноте, шутливо сказал:
– Вот я и возьму вас под свое наблюдение! – и похлопал его по колену.
– Не уверен, что в вашем возрасте мне захочется быть во многом иным, чем вы.
– Приготовьтесь, пока еще не вошли в него, быть интереснее, чем я, – сказал Стрезер.
Крошка Билхем призадумался, но в конце концов расплылся в улыбке.
– Вы человек очень интересный – для меня.
– Impayable! [55]55
Бесценный! (фр.)
[Закрыть]Как вы любите говорить. А каков я для себя?
С этими словами Стрезер поднялся; его внимание заняла происходившая в середине сада встреча хозяина дома с той дамой, ради которой его покинула мадам де Вионе. Слова, какими эта дама, видимо, только что расставшаяся со своей свитой, приветствовала спешившего к ней Глориани, не долетали до слуха нашего друга, но, казалось, отобразились на ее неординарном умном лице. Она, несомненно, была женщиной живого и утонченного ума, но и Глориани был ей под стать, и нашему другу нравился – особенно из-за скрытой, без сомнения, надменности герцогини – добродушный юмор, с которым великий художник утверждал равенство душевных ресурсов. Принадлежат ли они, эти двое, к высшим сферам? И в какой мере он сам, наблюдая за ними, и тем самым в данный момент с ними связанный, туда входит? К тому же в высших этих сферах таилось что-то тигриное; во всяком случае, в благоуханной атмосфере сада через лужайку пахнуло дыханием джунглей. Все же из этих двоих наибольшее чувство восхищения, чувство зависти вызывал у него лощеный тигр, столь щедро одаренный природой. Все эта нелепицы – порождения смятенных чувств, плоды самовнушения, созревшие в мгновение ока, отразились в адресованных Крошке Билхему словах:








